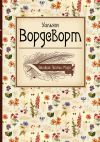Текст книги "Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга"

Автор книги: Каролин Дей
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Романтизация чахотки
Многие исследователи интерпретируют романтизм, по крайней мере отчасти, как реакцию на центральную для эпохи Просвещения категорию рациональности, потому что он ставил «страсть духа» выше интеллектуального наблюдения[208]208
Jupp P. C., Gittings C. Death in England. P. 210.
[Закрыть]. В Англии такое возвышение индивидуализма и возрождение эмоций в литературе, искусстве и культуре в целом происходили примерно между 1780 и 1830 годами[209]209
То, что называют «романтизмом», – это более или менее произвольное объединение хронологически пересекающихся групп писателей и художников с частично общим мироощущением. Принято считать, что в Англии движение зародилось в период начала Французской революции в 1789 году или с публикацией «Лирических баллад» (1798) Уильяма Вордсворта и Сэмюэла Тейлора Кольриджа и продолжалось до 1830-х годов. Первое поколение романтиков в Англии представляли Вордсворт, Блейк и Кольридж, а второе поколение обычно ассоциируется с Шелли, Китсом и Байроном. Термин «романтизм» – это литературный конструкт, так как писателей-романтиков их современники в Англии относили к разным школам. Например, Вордсворта и Кольриджа относили к «Озерной школе» (поскольку все они жили в Озерном крае в Англии); в то время как Китса присоединяли к «Кокнийской школе» (уничижительное именование, которым характеризовали Китса за его, как считалось, плебейские рифмы, характерные для кокни – лондонского говора низших классов); в то время как Байрона причисляли к «Демонической» или «Сатанинской школе» (за то, что считалось сатанинской гордыней и нечестивостью в его творчестве). Porter R., Teich M. Romanticism in National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 3, 240; Ferber M. A Companion to European Romanticism. Malden, MA: Blackwell Publishing, Ltd., 2005. P. 7, 11, 86–87; Day A. Romanticism. London: Routledge, 1996. P. 2; Wu D. A Companion to Romanticism. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 1988. P. 4; Bygrave S. Romantic Writings. London: Routledge, 1996. P. 47.
[Закрыть]. Романтики подчеркивали творческий потенциал, вдохновение и воображение, а также взаимосвязь между этими силами и болезнью. Многие даже, казалось, находили в течении болезни истоки литературной интуиции[210]210
Neve M. Medicine and Literature // Companion Encyclopedia of the History of Medicine / Ed. by W. F. Bynum and R. Porter. Vol. 2. London: Routledge, 2001. P. 1520–1535.
[Закрыть]. Индивидуальная исключительность не давалась даром, и туберкулез казался приемлемой платой за необычайную страсть или талант. Недуг теперь стал союзником, а не врагом, а биологическая болезнь в романтическом представлении стала сложной и ценной частью личности[211]211
Herzlich C., Pierret J. Illness and Self in Society. P. 123–124.
[Закрыть].
Болезненное воображение
Болезнь в целом и туберкулез в частности долгое время ассоциировались с умственными нагрузками; в период романтизма эта связь была расширена, а чахотке приписывалась способность усиливать и высвобождать творческую чувствительность и воображение[212]212
Porter R. Bodies Politic: Disease, Death and Doctors in Britain, 1650–1900. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. P. 61.
[Закрыть]. Популярность концепции чувствительности и соответствующих действий нервной системы намекали современникам, что стимуляция разума оказывает подавляющее действие на энергию тела. В представлении романтического движения умственные способности слабеющего человека, страдающего от чахотки, усиливались, а умственная энергия росла по мере нарастания физического оцепенения. Когда эта энергия прикладывалась к художественному творчеству, здоровье приносилось в жертву воображению и мастерству[213]213
Ibid.
[Закрыть]. Доминирующая культура чувствительности в конце восемнадцатого века закрепила представление о теле как архитекторе знания и жертве собственного стремления. Ученое, артистическое, изолированное и нервное тело одновременно терпело ограничение бездействия и получало от этого преимущество. Художественные и научные деятели приобщали страдания к самоутверждающему взгляду на болезнь, в котором «ученые» болезни, такие как меланхолия и чахотка, служили одновременно симптомом и источником литературных достижений[214]214
Monstrous Dreams of Reason: Body, Self, and Other in the Enlightenment / Ed. by L. J. Rosenthal and M. Choudhury. Cranbury, NJ: Associated University Presses, 2002. P. 117.
[Закрыть]. Страдания, болезни и боль не только давали возможность выполнить предписанный евангельский ритуал смертного одра, но и служили источником художественного творчества, воображения и интеллектуального мастерства[215]215
Porter R. Bodies Politic. P. 61.
[Закрыть]. В книге «Немощи гениев» (1833) устанавливалась прямая связь между конституцией и литературным творчеством.
«Немощи» писателей, эксцентричность их мыслей и действий, их своенравие, сварливость, вспыльчивость, человеконенавистничество, мрачные страсти и тысячи неописуемых идиосинкразий, во все времена отличавшие их от других людей, стали притчей во языцех. Аномалии, столь очевидные в литературном характере гениальных людей ‹…› можно отнести к их конституциональным (физическим) особенностям и состоянию: проще говоря, их умственные странности являются результатом нарушения физического здоровья. Состояние ума и нрава человека во многом зависят от чередования здоровья и болезней телесной оболочки[216]216
The Infirmities of Genius Illustrated // Tait’s Edinburgh Magazine. Vol. IV. Edinburgh: William Tait, 1834. P. 49.
[Закрыть].
Акцент романтизма на неповторимости и индивидуальности соответствовал растущему упору на силу страсти, любви, сантиментов и горя. Эти понятия применялись ко всем аспектам жизни и смерти, романтизируя и возвышая переживания и той и другой. В этих условиях смерть сентиментализировалась, а страдание, как и смерть, наполнялось эмоциональностью[217]217
Moller D. W. Confronting Death: Values, Institutions, and Human Mortality. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 12. Во второй половине восемнадцатого века смерть от самоубийства стала рассматриваться как еще одно проявление болезни (меланхолии) и, соответственно, ее коснулся процесс возвышения чувства и чувствительности как главной эстетической ценности романтизма. Заострение внимания на меланхолических страстях и печали привело к романтическому увлечению трагической юношеской смертью, будь она следствием самоубийства или неизбежным результатом определенных болезней. Смерть молодого поэта Томаса Чаттертона в возрасте семнадцати лет в 1770 году в результате самоубийства оказала значительное влияние на установление связи между гениальностью и ранней смертью и на визуализацию самоубийства и других преждевременных уходов из мира смертных как проявление сильных чувств и высокой чувствительности. Jupp P. C., Gittings C. Death in England. P. 212–213. В отношении Чаттертона Кларк Лоулор утверждал, что «самоубийство и безумие были другими, менее благочестивыми, судьбами сверхчувствительных поэтов, их умы не могли вынести жестокости неприветливого мира, особенно если они исходили из низших слоев общества. По крайней мере, чахотка была непроизвольным и теоретически более достойным финалом жизни, чем нехристианские варианты». Lawlor C. Consumption and Literature. P. 124. Безумие, самоубийство и затяжные неизлечимые болезни, такие как туберкулез, были поэтическими вариантами в романтической концепции, поскольку всех их характеризовала острая и чрезмерная чувствительность, обеспечивавшая механизм, посредством которого неизбежные и ожидаемые жизненные разочарования завершались ранней смертью. Lawlor C. Consumption and Literature. P. 133. См. также: Sleepless Souls: Suicide in Early Modern England / Ed. by M. MacDonald and T. R. Murphy. Oxford: Oxford University Press, 2002. Подробнее о меланхолии см.: Lawlor C. From Melancholia to Prozac: The History of Depression. Oxford: Oxford University Press, 2012.
[Закрыть]. В эпоху романтизма сопровождавшие чахотку угасание и истощение придавали фигурам современных поэтов и писателей новый шик. Таким образом, болезни, являвшиеся, как считалось, результатом повышенной чувствительности, были палкой о двух концах. С одной стороны, они давали преимущество вкуса и утонченности и повышали социальное положение больных; с другой, однако, они также обрекали своих жертв на существование, полное как душевных, так и физических страданий[218]218
Lawlor C. Consumption and Literature. P. 54.
[Закрыть]. Поэты мучились чрезмерной раздражимостью нервной системы, и она, в сочетании с их страстной натурой, наводняла их тела ощущениями, которые вскоре становились патогенными. Чахотка поэта-мужчины служила не только выражением его чувствительности, но и свидетельством его творческих и интеллектуальных дарований, а также его неспособности переносить суровость мира[219]219
Ibid. P. 54–55, 131–132.
[Закрыть].
Чахотка становилась союзником гения, поглощенного своей чрезмерной эмоциональной и интеллектуальной активностью, который выплескивал свою энергию одним рывком, приближавшим его к смерти[220]220
Lawlor and Suzuki. The Disease of the Self. P. 488.
[Закрыть]. Это было не только литературной условностью, но и концепцией, находившей поддержку в медицинских трактатах, в которых гений определялся как часть конституционального конструкта болезни. Например, в 1774 году в журнале Hibernian Magazine писали: «Лучшие гении; самые тонкие умы очень часто обладают соответствующей слабостью телесной конституции»[221]221
Hibernian Magazine. Vol. III. Dublin: Printed by James Potts, 1774. P. 680.
[Закрыть]. Чуть позже, в 1792 году Уильям Уайт перечислил среди факторов, предрасполагающих к чахотке, «высокую чувствительность нервной системы», что означало, что болезнь «поражает главным образом молодых людей; особенно тех, кто активен и демонстрирует способности не по годам»[222]222
White W. Observations on the Nature and method of cure of the Phthisis Pulmonalis. P. 22.
[Закрыть]. Кларк Лоулор справедливо обращает внимание на вклад Томаса Хейса и Томаса Янга в эту дискуссию[223]223
Lawlor C. Consumption and Literature. P. 121.
[Закрыть]. В «Практическом и историческом трактате о чахоточных болезнях» (1815) Томаса Янга утверждалось: «Действительно, есть основания предполагать, что воодушевление гения, так же как страсть и тонкая чувствительность, ведущая к успешному развитию изящных искусств, никогда не достигали большей степени совершенства, чем в случаях, когда конституция была явно отмечена характером ‹…› который часто явно наблюдается у жертв легочной чахотки»[224]224
Young T. A Practical and Historical Treatise on Consumptive Diseases. London: B. R. Howeltt, 1815. P. 43–44.
[Закрыть]. Янг был, конечно, не единственным, кто установил эти связи, и автор книги «Советы врача по профилактике и лечению чахотки» поддерживал эти утверждения: «Также распространено наблюдение, что те, кто, к сожалению, отмечен как жертва преждевременной болезни, в большинстве случаев отличаются бурным потоком чувств и необычным развитием всех тех моральных и интеллектуальных качеств, которые возвышают и украшают человеческую природу»[225]225
A Physician’s Advice For the Prevention and Cure of Consumption with the Necessary Prescriptions. London: James Smith, 1824. P. 123.
[Закрыть].
Туберкулез и сопровождавшие его симптомы конструировались как физическое проявление внутренней страсти и одержимости. Это был внешний признак гениальности и накала страстей, которые буквально горели внутри человека, отчего на его бледных щеках проступал румянец. Яркие, сияющие глаза и розовые, светящиеся изнутри щеки чахоточного больного воспринимались как внешнее отражение души, которая поглощала сама себя, сгорая изнутри и снаружи[226]226
Herzlich C., Pierret J. Illness and Self in Society. P. 25.
[Закрыть]. В 1825 году в журнале European Magazine and London Review вышла статья, посвященная связи между интеллектом и болезнью, в которой утверждалось:
Поразителен факт, что гениальность часто сопровождается скорым упадком и преждевременной смертью ‹…› Когда гений вступает в союз с материей, он предпочитает обитать в самой духовной форме – в бледных щеках, тусклых глазах и болезненном теле. Мы редко встретим Прометеев огонь, оживляющий грубые черты пахаря. Вдобавок то, что гениальность даруется лишь на короткое время, озаряя светом разума молодую и незапятнанную душу и быстро уводя обладателя в могилу, только увеличивает ценность дара[227]227
On the Early Fate of Genius // The European Magazine and London Review. Vol. 87. London: Sherwood, Gilbert, and Piper, 1825. P. 535–536.
[Закрыть].
Помимо патологических изменений, сопровождающих разрушение нервной силы, также предполагалось, что наличию более тонкой и восприимчивой нервной системы соответствуют определенные физические характеристики, очевидные у чахоточного человека. Так, люди с утонченным характером сами были худощавы и обладали подходящим изяществом и превосходным вкусом. Напротив, полнота ассоциировалась с недостатком интеллекта, и толстых и дородных людей часто считали банальными и несообразительными[228]228
Lawlor C. Consumption and Literature. P. 53.
[Закрыть]. Представление о том, что острота умственных способностей обусловлена отсутствием здоровья, продолжало доминировать в понимании туберкулеза вплоть до середины девятнадцатого века. Например, в 1851 году в журнале The Englishwoman’s Magazine and Christian Mother’s Miscellany писали: «Здоровье, безупречное и крепкое телесное здоровье, возможно, редко можно найти в сочетании с сильным и полностью развитым интеллектом»[229]229
The Englishwoman’s Magazine and Christian Mother’s Miscellany. Vol. VI. London: Fisher, Son & Co., 1851. P. 606.
[Закрыть].
Система образов романтизма вывела чахотку за рамки просто физического, объективного развития болезни и придала ей альтернативное значение. Человек, страдающий чахоткой, стал связующим звеном, с помощью которого медицинская реальность переплеталась с популярной идеологией, чтобы сформировать основной образ больного человека[230]230
Herzlich C., Pierret J. Illness and Self in Society. P. 46.
[Закрыть]. Таким образом, благосклонный взгляд на болезнь перевесил гораздо более пугающую и отвратительную реальность болезни. Кларк Лоулор утверждает, что «литературные произведения в соединении с другими (такими, как визуальные, религиозные произведения и медицинские труды) сформировали культурные стереотипы восприятия чахотки, и писатели предоставили возможность различным группам людей структурировать свой опыт болезни, независимо от того, были ли они религиозны, принадлежали ли к поэтическим кругам, являлись мужчиной или женщиной»[231]231
Lawlor C. Consumption and Literature. P. 7.
[Закрыть]. Прямая связь между чахоткой и творческим гением была не просто продуктом сознательного формирования «я», но была частью более широкого культурного дискурса. Мифология чахоточного поэта получила дополнительный импульс благодаря развитию литературной критики, которая, обращая внимание общества на самих поэтов, в свою очередь, увеличила видимость чахотки[232]232
Brown R. M. The Art of Suicide. London: Reaktion Books Ltd., 2001. P. 134.
[Закрыть].
Чахоточный Китс
Самым известным британским примером чахоточного поэта-романтика был Джон Китс (1795–1821), умерший от туберкулеза в возрасте двадцати шести лет. Он олицетворял романтическую идеологию чахотки и запомнился скорее трагичностью своей смерти, нежели перипетиями жизни. В посмертных трактовках судьбы Китса поэт был освобожден от ответственности за свою болезнь. Вместо этого его представляли как обреченного на смерть от туберкулеза, что помогло поставить его смерть выше всех других в романтическом каноне[233]233
Najarian J. Victorian Keats: Manliness, Sexuality, and Desire. New York: Palgrave Macmillan, 2002. P. 27.
[Закрыть]. В том, как относились к болезни Китса, как при его жизни, так и после его смерти, присутствовало ощущение неизбежности. О его чахотке говорили как о функции его личности, обстоятельств и его таланта. Перси Биши Шелли в письме Китсу от 27 июля 1820 года указал на связь между талантом поэта и его болезнью: «Эта чахотка – заболевание, особенно любящее людей, которые пишут такие хорошие стихи, как вы, и при содействии английской зимы она часто может наслаждаться широким выбором жертв»[234]234
Shelley P. B. The Complete Works of Percy Bysshe Shelley: Letters of Percy Bysshe Shelley / Ed. by Nathan Haskell Dole. Vol. 8. London: Virtue & Company, 1906. P. 150.
[Закрыть].
Помимо связей, установленных самими поэтами, на зависимость между чахоткой и интеллектуальным мастерством явно указывала статья середины 1820-х годов, в которой говорилось, что «способность затяжных болезней выявлять интеллект часто ярко проявляется в развитии умственных способностей у жертв чахотки, которые, находясь прежде в добром здравии, были далеко не интеллектуалами»[235]235
On the Early Fate of Genius. P. 536.
[Закрыть]. Представленный образ жизни Китса и отношение его современников к его чахотке и смерти воплощают искаженное видение туберкулеза, характерное для периода романтизма. Также они иллюстрируют трудности, с которыми сталкивались практикующие врачи девятнадцатого века при лечении болезни, о которой у них было очень мало точной информации, – обстоятельство, затруднявшее выявление туберкулеза и его лечение.
Китс должен был быть достаточно осведомлен о чахотке не только из-за личной трагедии членов его семьи, а затем и собственной, но и в результате своего медицинского образования. Китс обучался профессии хирурга и проходил практику в больнице Гайс (1815–1816) в Лондоне, будучи учеником Томаса Хаммонда. Он также учился у Эстли Купера, который, по общему мнению, был лучшим хирургом в Англии того времени[236]236
Ziegenhagen T. Keats, Professional Medicine, and the Two Hyperions // Literature and Medicine. 2002. Vol. 21. No. 2. P. 287, 290; Bynum H. Spitting Blood. P. 79.
[Закрыть]. Современники представляли Китса как обладателя чрезмерно тонкой чувствительности, но этот образ вызывает сомнения, учитывая его увлечение и участие в травле медведя и боксерских поединках, а также его периодические драки, в том числе победу над подмастерьем мясника ценой синяка под глазом[237]237
Havens R. D. Of Beauty and Reality in Keats // ELH. 1950. Vol. 17. No. 3. P. 209.
[Закрыть].
Семью Китса неоднократно поражали болезни, что вовсе не было редкостью в английских домах в течение девятнадцатого века. Его дядя и мать погибли от «упадка», который вполне мог быть чахоткой, и от этой болезни также страдал его брат Том[238]238
Bynum H. Spitting Blood. P. 79.
[Закрыть]. (См. во вклейке ил. 12.) Сам Китс впервые заболел после пешего путешествия по Озерному краю и Шотландии в компании Чарльза Армитажа Брауна. Изматывающие физические нагрузки и неправильное питание в сочетании с полосой плохой погоды, вероятно, способствовали боли в горле и простуде, которой заразился Китс, что вынудило его стремительно вернуться в Англию морским путем[239]239
Bynum H. Spitting Blood. P. 79–81; Dubos and Dubos. The White Plague. P. 12–13.
[Закрыть]. Вернувшись домой, Китс обнаружил, что Том очень болен, и принялся лично за ним ухаживать, пока тот лежал прикованным к постели всю дождливую зиму 1818 года. Несмотря на все усилия Китса, Том проиграл битву с туберкулезом в возрасте девятнадцати лет. 18 декабря 1818 года Китс писал своим братьям и сестрам, чтобы сообщить о кончине Тома. В своем письме он размышлял о последних минутах жизни Тома и о значении его смерти: «Последние дни бедного Тома были очень печальными; но его последние мгновения не были такими болезненными, и самый последний его вздох был без боли. Я не буду вдаваться в проповеднические комментарии о смерти, но житейские наблюдения самых обычных людей о смерти так же верны, как и их пословицы. У меня почти нет сомнений в бессмертии того или иного рода – у Тома тоже их не было»[240]240
Keats J. The Complete Poetical Works and Letters of John Keats / Ed. by Horace E. Scudder, Cambridge Edition. Boston: Houghton Mifflin Company, 1899. P. 338.
[Закрыть]. Китс более подробно выразил щемящую грусть по умиранию юноши от чахотки в своей «Оде соловью» 1819 года: «юность иссыхает от невзгод»[241]241
Keats J. The Complete Poetical Works of John Keats edited by Harry Buxton Forman. London: H. Frowde, 1907. P. 231. [Поэтический перевод Е. Витковского.]
[Закрыть]. Скорее всего, это произведение было попыткой осмыслить трагедию не только болезни его брата, но и его собственной, которая к тому времени уже была очевидна[242]242
Dubos and Dubos. The White Plague. P. 10.
[Закрыть].
В 1820 году здоровье Китса продолжало угасать, и его рассказ о собственной болезни показывает, что поэт осознавал взаимосвязь между его физическим и психическим состояниями. Он сознательно выстроил свой образ как человека, отмеченного нервным заболеванием как физически, так и психологически. В июльском письме, адресованном Фанни Китс, он признал роль своего темперамента в развитии болезни[243]243
Lawlor C. Consumption and Literature. P. 136–137.
[Закрыть]. «Моя конституция сильно пострадала за последние два или три года, так что я с трудом могу сопротивляться болезни, которую естественная активность и нетерпение моего ума делают еще более опасной»[244]244
Keats. The Complete Poetical Works and Letters of John Keats. P. 440.
[Закрыть]. В течение следующих нескольких месяцев Китса мучило периодическое кровохарканье, поэтому он решил последовать совету своего врача и, по возможности, облегчить течение своего недуга в солнечном климате Италии. В сентябре 1820 года Китс в компании своего друга Джозефа Северна уехал в Италию, где консультировался у доктора Джеймса Кларка, выдающегося врача английской диаспоры в Риме. Кларк напрямую сослался на умственные усилия Китса, вызвавшие его болезнь, и первоначально полагал, что лечение его душевного расстройства приведет к восстановлению здоровья, написав 27 ноября 1820 года: «Источниками его жалоб, я думаю, были его умственные усилия и усердие. Если мне удастся успокоить его ум, думаю, у него наступит улучшение»[245]245
Keats J. Selected Letters of John Keats: Based on the Texts of Hyder Edward Rollins / Ed. by Grant F. Scott. Harvard: Harvard University Press, 2005. P. 484.
[Закрыть].
Зимой состояние Китса ухудшилось, и Северн дал выразительное и шокирующее описание страданий поэта в письме Чарльзу Армитажу Брауну 17 декабря 1820 года.
Я видел, как он проснулся утром в день приступа, вид он, казалось, имел веселый и пребывал в необычайно приподнятом настроении – вдруг в одно мгновение его охватил кашель, и его вырвало примерно двумя стаканами крови ‹…› Это 9-й день, и никаких изменений к лучшему – пять раз при кашле шла кровь, в больших количествах и в основном по утрам – и почти все это время с ней смешивалась его слюна, – но это меньшее из зол в сравнении с его желудком – он ничего не может переварить – от этой пытки он мучается каждую ночь напролет – и большую часть дня – это ужасно до крайности – раздутый живот заставляет его испытывать постоянный голод или аппетит – и он лишь разгорается от скудного питания, которое он принимает, чтобы сдержать кровотечение – но хуже всего его разуму – отчаяние во всех его формах – его воображение и память искажают каждый образ ужасом, настолько сильным в то утро и ночь, что я опасаюсь за его интеллект[246]246
Severn J. Joseph Severn Letters and Memoirs / Grant F. Scott, ed. England: Ashgate Publishing Ltd., 2005. P. 113–114.
[Закрыть].
Тревога Северна очевидна, и хотя письма Кларка были более беспристрастными, они выражали аналогичную озабоченность психическим состоянием пациента. 3 января 1821 года доктор писал:
Он сейчас в очень плачевном состоянии. Его желудок погублен, и состояние его разума – наихудшее из возможных для человека при его недуге, и он, несомненно, будет торопить событие, которое, как я боюсь, уже не за горами, и даже в самом лучшем умонастроении ему, вероятно, долго не продержаться. Его пищеварительные органы, к сожалению, разрушены, и его легкие также больны. Каждая из этих болезней была бы великим злом, но когда они одолевают обе и при таком состоянии разума, в котором он, к сожалению, находится, они вскоре неминуемо убьют его. Боюсь, что он долгое время находился под властью своего воображения и чувств, и теперь у него мало сил и нет желания пытаться их сдерживать ‹…› Очень печально видеть такой великий ум (каким он мог бы быть) в том плачевном состоянии, в котором он пребывает ‹…› Когда я впервые увидел его, я подумал, что еще что-то можно было сделать, но теперь опасаюсь, что этот случай безнадежен[247]247
Keats. Selected Letters of John Keats. P. 497.
[Закрыть].
В конечном итоге Китс скончался 23 февраля 1821 года, и вскрытие показало, насколько повреждены были его легкие.
Реалистичное и ужасающее описание последних дней Китса, данное Северном, не согласуется с панегириками, представленными после смерти поэта. Большинство его современников, казалось, сходились во мнении, что причиной чахотки Китса стали разочарование и разбитые надежды, но вопрос об источнике этого разочарования вызвал много споров. Друзья Китса, в том числе и Северн, возложили ответственность за его болезнь на душевное состояние поэта. Хотя, с одной стороны, они признавали, что нелестная критика в Quarterly Review внесла свою лепту, главной причиной душевных потрясений, приведших Китса к чахотке, считалась его любовь к Фанни Браун. Как друзья поэта, так и его критики вели спор, мог ли неблагоприятный отзыв сыграть роль в болезни и смерти Китса[248]248
Najarian. Victorian Keats. P. 27.
[Закрыть].
Образ Китса, составленный его современниками, иллюстрирует силу романтической идеологии в оценке туберкулеза. Вместо того чтобы признать Китса человеком, который напрямую контактировал с больными чахоткой родственниками, он был представлен как хрупкая личность, чья чувствительность и слабая конституция неизбежно привели к чахотке, потому что он был неспособен выдержать удары жестокого мира[249]249
Dubos and Dubos. The White Plague. P. 11.
[Закрыть]. Китса все чаще представляли поверженным неблагоприятной критикой его поэзии в Quarterly Review, и именно этот образ поэта, казалось, был повсеместно принят даже его недоброжелателями. Узнав о смерти Китса, лорд Байрон написал своему издателю следующее:
Вы прекрасно знаете, что я не одобрял поэзию Китса ‹…› [но] я не завидую автору той статьи; – у вас, критиков, не больше прав на убийство, чем у любых других разбойников. Однако тот, кто умер от критического отзыва, вероятно, умер бы от чего-то еще, столь же тривиального. То же самое чуть было не случилось с Керком Уайтом, который впоследствии умер от чахотки[250]250
Byron G. N. G. Life, Letters and Journals of Lord Byron. London: John Murray, 1844. P. 520.
[Закрыть].
Намек Байрона на судьбу Генри Керка Уайта был не первым подобным сравнением; еще до того, как Китс заболел, в 1818 году двух поэтов сравнил его друг Джон Гамильтон Рейнольдс[251]251
Одним из первых примеров чахоточного поэта-романтика был Генри Керк Уайт (1785–1806), чьей визитной карточкой в большей степени была его болезнь, а не его поэзия. Уайт написал «Оду чахотке», и болезнь также занимала центральное место в некоторых его отрывках. Для Уайта чахотка была не только темой, но и целью, и молодой автор, казалось, увлекся этим состоянием еще до того, как испытал его. Уайт был ярым приверженцем евангелического христианства, а также осознавал необходимость оживления романтического мифа о чахоточном поэте. Таким образом, Уайт объединил свои евангелические представления с романтической идеологией, чтобы представить чахотку как свою идеальную «хорошую смерть». Он сконструировал нарратив болезни, который не только представлял опыт туберкулеза в привлекательном свете, но также напрямую связывал болезнь и поэтический дар. Lawlor C. Consumption and Literature. P. 127–128.
[Закрыть]. В своей статье Рейнольдс обрушился на критиков Китса, посоветовав им помнить о том, какое влияние они оказали на Керка Уайта.
Напомним, что критики из The Monthly Review несколько лет назад пытались разбить восходящую звезду Керка Уайта; и действительно, они отчасти породили меланхолию, которая в конечном итоге его погубила; но целый свет видел жестокость и в один голос приветствовал гения, которого иначе бы задавили недоброжелатели, и вознес его к славе. Критики – это существа, «которые режут людей по ночам»: молодые и восторженные души – их самая излюбленная добыча[252]252
Keats J. The Poetical Works and Other Writings of John Keats in Four Volumes / Ed. by Harry Buxton Foreman. Vol. III. London: Reeves & Turner, 1883. P. 374.
[Закрыть].
Мысль о том, что борьба Китса с чахоткой была спровоцирована жестокими нападками на его стихи, побудила Перси Биши Шелли вывести его героем элегии «Адонаис». Во введении Шелли писал:
Гений оплаканного поэта, памяти которого я посвятил эти недостойные стихи, был столько же деликатен и хрупок, сколько прекрасен; и удивительно ли, что молодой его цветок увял, не раскрывшись, если он вырос там, где изобилуют черви? Дикий критический разбор «Эндимиона», появившийся в Quarterly Review, произвел самое болезненное впечатление на его впечатлительную натуру; волнение, вызванное этим, причинило разрыв кровеносного сосуда в легких, последовала скоротечная чахотка, – и выражение симпатий со стороны более справедливых критиков, видевших истинные размеры его творческих сил, было бессильно залечить рану, нанесенную так неосмотрительно[253]253
Shelley P. B. Adonais: An Elegy on the Death of John Keats. Pisa, 1821. P. 4. [Перевод приводится по изданию: Шелли П. Б. Избранные произведения. Стихотворения. Поэмы. Драмы. Философские этюды / Перевод В. Микушевича. Предисловие. Перевод К. Бальмонта. М.: Рипол Классик, 1998.]
[Закрыть].
Шелли развил романтический миф, окружавший смерть от чахотки, в посвященном Китсу «Адонаисе», где он превозносил идею погубленной юности:
Описание смерти Китса Шелли говорит скорее о красоте, чем об ужасе кончины Китса: «Мертвый, он все же прекрасен, прекрасен, как будто бы спящий»[255]255
Shelley P. B. Adonais / Ed. by William Michael Rossetti, a new edition revised with the assistance of Arthur Octavius Prickard. Oxford: Clarendon Press, 1903. P. 68.
[Закрыть]. Это описание никоим образом не сходится с тем, что из первых рук дал нам Северн, но все же возобладал образ, созданный Шелли. В предисловии к «Адонаису» Шелли дал лирическое описание могиле Китса: «Он похоронен на Протестантском кладбище, романтическом и уединенном ‹…› Кладбище представляет из себя открытое пространство между руинами, усеянное зимою фиалками и маргаритками. Можно было бы полюбить смерть при мысли, что будешь похоронен в таком очаровательном месте»[256]256
Shelley. Adonais: An Elegy on the Death of John Keats. P. 3–4.
[Закрыть]. Шелли впоследствии присоединился к своему другу в том самом месте, заставляющем «полюбить смерть». Он сам был болен туберкулезом, но ему удалось избежать чахоточной смерти, когда он утонул на своей яхте «Ариэль» у берегов Италии.
Китс являет собой пример романтической идеологии, окружавшей чахоточную смерть в первой половине девятнадцатого века; и хотя идеология останется широко распространенной, течение туберкулеза будет все больше феминизироваться. Несмотря на то что система образов и мифология чахотки претерпят изменения, сохранится преемственность в представлении о том, что эта болезнь обеспечивает умиротворенную смерть. Подобные идеи все еще можно наблюдать в середине девятнадцатого века. Например, в учебнике для медсестер «Записки об уходе» (1859) Флоренс Найтингейл пишет: «Пациенты, умирающие от чахотки, очень часто умирают в состоянии неземной радости и покоя; лицо почти выражает восторг. Больные, которые умирают от холеры, перитонита и т. д., напротив, часто умирают в состоянии, близком к отчаянию. Лицо их выражает ужас»[257]257
Nightingale F. Notes on Nursing: What it is, and What it is Not. London: Harrison, 1860. P. 204. Глава 5. Ангел смерти в домашнем кругу.
[Закрыть]. Репрезентации чахотки предоставили убедительные образы «частного» и «социального» тела, которые в течение девятнадцатого века дополнялись, чтобы охватить понятия физической красоты и нравственного ориентира, особенно в отношении туберкулеза у женщин.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?