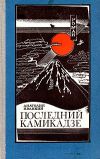Текст книги "Последний бумажный журавлик"

Автор книги: Кэрри Дрюри
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Временами мне кажется, что я уже совсем здоров, только потом опять накрывает слабость – такая, что сил хватает не дольше чем на полчаса, и я едва могу пошевелить рукой или ногой.
Раны гниют и заживают медленно.
«Почему? – спрашиваю я врачей. Из-за бомбы?»
Они пожимают плечами.

Я постоянно думаю о Хиросиме. Сколько там погибло? Сколько спаслось? Что сделали с мертвыми? Где живут выжившие? Будут ли восстанавливать город? Что теперь на месте моего дома?
Вопросы появляются непрестанно и сводят меня с ума.
Снова и снова.
Мэгуми пытается отвечать мне, но чаще всего сказать ей нечего, и тогда она проводит рукой по уставшему лицу и извиняется.
Она приносит мне американские романы, садится у моей койки и читает, сходу переводя на японский. Голос Мэгуми уносит меня далеко, и я оказываюсь то на веселой джазовой вечеринке, то на поле с рабочими-мигрантами где-то в Калифорнии, то в закоулках Лос-Анджелеса. Сейчас она читает мне детектив, и я наконец чувствую волшебство, о котором говорил отец.
И все же нетерпение одолевает меня.
Когда же я уже выйду отсюда?
Я хочу найти Кэйко.

Чувствую себя хорошо несколько дней. Лежу и вдруг слышу быстрые шаги Мэгуми. Я так долго ждал таких ее шагов, что тут же собираюсь с силами, сажусь и вглядываюсь – она вот-вот войдет – радостная, в пахнущей чистотой форме, с убранными волосами.
Мое сердце колотится, когда она входит в палату. В руках у нее – куртка и сумка.
– Все, собирайтесь! – улыбается она. – Доктор говорит, вам уже лучше. Так что вас ненадолго отпускают! И мы можем ехать. В Хиросиму.

– У вас есть новости? – спрашиваю я.
– Не совсем. Но мне подсказали, где лучше начать поиски. Может, там и найдем ее.
Я ждал этого – все то время, пока я здесь. Дыхание сбилось, и я скорее вскакиваю с койки, с трудом сдерживая эмоции.
Мэгуми рядом.
– Вот, – она протягивает мне вещи. – Тут одежда для вас. Надеюсь, размер подойдет. Это военные прислали.
– Из Америки?
Она кивает и кладет одежду на койку.
Пара серых брюк, синяя рубашка и свитер.
Прикасаюсь к рубашке. Мягкая. Чистая. Глаженая.
– Еще они купили вам новое нижнее белье, – шепчет Мэгуми и передает мне коричневый бумажный сверток.
– Зачем им это?
– Просто помочь. Потому что и они знают, что значит потерять кого-то. Потому что и у них есть младшие сестры. Потому что вы и мы – не враги.
В палате тихо, и наши голоса не нарушают эту тишину. Я беру одежду.
– Передайте им от меня спасибо, – еле слышно произношу я.

Поезд из Токио в Хиросиму идет почти целый день. Мне не спится – я все время смотрю в окно на города и деревни, которых никогда раньше не видел.
– Как меня привезли в Токио? – спрашиваю я у Мэгуми. В поездке мы перешли на «ты».
– Так же – на поезде, – отвечает она.
– Значит, поезда ходили?
Она кивает.
Я смотрю на нежные зеленые поля, на холмы с деревьями, на узкие тропинки и одинокие домики. Интересно, как сейчас выглядит Хиросима.
Отлично помню, каким был город до того дня: металлические фигурки птиц на мосту Иэнко, лодки на реке Мотоясу, гремящие трамваи – из дерева и металла, причудливый купол здания торгово-промышленной палаты, уличная суета.
– Первый раз у нас с Хиро совпал выходной, – говорю я, все еще глядя в окно. – Если бы бомбу сбросили накануне или на следующий день, я был бы на заводе, штамповал детали для самолетов. Но кто-то спросил, не смогу ли я поменяться выходными. Я согласился и в день бомбардировки остался дома. А если бы я отказался, все было бы иначе, и никто не потащил бы его в эту реку. Он все еще мог бы жить.
– У вас же есть такое выражение – сиката-га най. Знаешь, что оно значит? – спрашивает Мэгуми. – Сиката-га най?
Я смотрю вдаль: цветочные поля, дороги, дома и деревья сливаются в единое целое.
– Сиката-га най? – повторяю. – Это значит «ничего не поделаешь».
– Ты принял решение в тот момент. Успокойся и живи дальше. Ты привел Хиро к реке, чтобы спасти от огня. Это был ваш единственный шанс. Не вини себя в смерти друга. Скорее всего, если бы ты не поменялся выходными, ты бы и сам погиб. И что тогда стало бы с Кэйко?
Мы молчим. Все слова вылетели у меня из головы, но я нутром ощущаю, что между нами что-то происходит – миллион эмоций в секунду – и в этот момент я осознаю свое чувство к Мэгуми.
Отвожу взгляд, смотрю в сторону: восторг и боль одновременно.
После мы как-то напряженно перебрасываемся словами о всякой ерунде: что поезда неудобные, а газеты громоздкие. В конце концов сон побеждает меня и относит на берег моря, омываемый волнами.

Мэгуми взяла с собой еду и, когда я просыпаюсь, она достает контейнеры с рисом и рыбой:
– Поешь.
Я беру палочки и салфетку.
– Это в больнице так позаботились о тебе, – объясняет она.
– А кто купил мне билет?
Она задумчиво жует.
– Мы скинулись.
– Я верну деньги.
Мэгуми улыбается.
– Не нужно. Это подарок.
– Вы все очень добры ко мне. Спасибо. Но я не могу этого принять.
– Почему? Потому что мы американцы?
– Нет.
– Потому что мы ваши враги?
– Ты не враг мне. Ты…
– Может, потому что ты слишком гордый?
Я опускаю глаза и бормочу под нос:
– Потому что я этого не заслуживаю.
Слышу ее глубокий вдох.
– Разве ты не заслуживаешь счастья? – спрашивает она.
Я молчу.
– Жить и радоваться? С мыслями о будущем? Может, если ты найдешь Кэйко, тебе будет легче идти дальше?
– Ничего я такого не заслуживаю, – говорю ей. – Я подвел своего лучшего друга. И его сестру. Как мне жить с этим? Он умер, чтобы я мог спасти ее, а я не справился!
– Ты сделал все возможное! – уверенно произносит она.
– Нет. Я не должен был оставлять ее. Надо было нам идти вместе.
– Если бы ты продолжал нести девочку, вы никогда бы не добрались до больницы. И сейчас бы оба были мертвы. Ты сделал самый правильный выбор в тот момент. Дал шанс на спасение – себе и ей. И это было единственное верное решение.
Она наклоняется ко мне.
– Может, доктор, с которым ты говорил в той больнице, вернулся за ней или отправил кого-то на помощь. А может, кто-нибудь нашел ее и выходил. Ты не знаешь. Но ты не имеешь права сдаваться. Ради нее и Хиро. Если получится, ты найдешь ее. А если нет, пронесешь память о ней и Хиро через всю жизнь. Но если ты умрешь, кто будет помнить о них? В любом случае, сиката-га най. Хватит уже себя жалеть.
Я жую рыбу, глотаю и смотрю на нее.
– Расскажи мне о доме, – прошу я.

Разговор идет легче и веселее: она вспоминает о счастливой жизни в Орегоне, о детстве, рассказывает, как ее отец переехал в Америку и о младшем брате – он часто пишет ей и посылает фотографии. Но она совсем не скучает по дому, и поэтому фотографии брата вызывают, скорее, легкое чувство вины.
– Я люблю Японию, – говорит она. – Хотела бы объехать всю страну…
– А я никогда не был дальше Хиросимы. Только вот сейчас…
Вместе мы мечтаем о том, чтобы увидеть гору Фудзи, сфотографировать аистов и побывать в синтоистских храмах.
– Мы прямо как заядлые туристы, – смеется она.

Время с ней проходит радостно – я так бы и улыбался все время, но нет, я держу лицо и сижу с невозмутимым видом. От этого внезапного счастья моя вина как будто становится тяжелее.

Пейзаж меняется, а с ним и настроение.
Рисовые поля уже не пышные и зеленые, а выжженные и безжизненные; дома перекошены и корчатся, будто от боли – стекла выбиты, черепичные крыши проломлены.
А потом, словно за невидимой линией – все дома стерты с земли.
От холмов позади нас и несколько километров до моря непрестанно тянется кладбище города. Одинокие бетонные остовы зданий подобны старым надгробиям – стоят среди кирпичей, обугленных деревьев и обгоревших телеграфных столбов.
В городе поезд замедляется.
– Всего одна бомба, – говорю я.
Мэгуми молчит.
– Здесь теперь ничего не узнать.

Выходим на станции Хиросима.
Стены здания вокзала уцелели, а больше ничего и нет. Потолок – на полу, окна выбиты, каменные завалы лежат как горы в ожидании альпинистов. А все же пути расчищены, поезда ходят, и на платформе много людей.
– Что они все здесь делают? – спрашиваю я.
Мэгуми пожимает плечами:
– Может, ищут кого-то? Родственников, друзей…
Я останавливаюсь, а люди все идут и идут: обходят меня – спереди, сзади, точно я камень посередине реки.
– Лица какие-то пустые, – замечает она.
– У каждого – своя печаль и забота, – отвечаю. – И тут нет времени на эмоции, хотя их столько, что никаких слов не хватит рассказать.

От вокзала мы направляемся на юг, на другой берег реки.
Идем по пустынным заброшенным улицам. Мысли – как будто отдельно от тела, и ноги сами несут нас. По обочинам навален мусор, и среди этого мусора обустроили убежища для тех, кто остался без дома, соорудили лачуги из дерева и металла. От кухонных плит поднимается пар, и повсюду стоит запах еды. На костлявых ветках деревьев сушится белье.
По пути нам встречается мужчина с деревянной тележкой, которая то и дело грохочет, попадая в ямы. В ней сидит мальчик. Его ноги – все в ожогах.
Хочу спросить у них, откуда они идут и куда.
Где они были, когда на город сбросили бомбу?
Как выжили?
Как и где живут сейчас?
Не видели ли они девочку с журавликом, сложенным из страницы книги?
Но они безмолвны, и я прохожу мимо.
– Куда это мы? – спрашиваю я у Мэгуми.
Из кармана она достает измятый листок.
– Знакомые дали список мест, где можно поискать. Но я понятия не имею, где это все находится.
Она протягивает мне листок.
Я читаю:
– Начальная школа Фукуромати. Начальная школа Осиба.
– Там сейчас разбили госпитали, – объясняет она.
Смотрю на список и пытаюсь проложить маршрут.
– Школа Хидзаяма…
– Там приют для сирот, – уточняет Мэгуми.
– Вот туда мы и пойдем, – предлагаю я. – Книга у тебя?
Она кивает и хлопает по своей сумке.

Я ориентируюсь по руинам зданий и трамвайным путям. Мы сворачиваем и идем на восток – к реке Киёбаси и школе Хидзаяма.
Вдалеке, справа от нас, – башня больницы Красного Креста. Я гоню воспоминания прочь – сегодня от них точно никакого толка, и сражаюсь со странным чувством, будто Кэйко снова идет рядом со мной.
Я буду смотреть только прямо, прямо, я знаю, что ее нет ни справа от меня, ни слева.

Мы идем по мосту, и я слышу, как вода плещется о его бетонные опоры и о берег.
– Смотри, лодка! – показывает Мэгуми. – В ней дети! Играют.
Я слышу, как весло ударяется о воду, и стараюсь глубоко дышать, чтобы не свалиться в воспоминания.

Мы легко находим школу – это одно из немногих уцелевших зданий. Люди с радостью показывают нам дорогу.
Во дворе тоже играют дети: кто-то бросает мяч, кто-то взбирается на груду щебня и прыгает с нее, двое ребят качаются на самодельных качелях-бревне.
Мы подходим к мальчику, который тихонько сидит на остатках бетонной стены.
Я здороваюсь:
– Привет.
Он испуганно отпрыгивает и, не глядя на нас, уважительно кланяется.
– Я ищу кое-кого. Ее зовут Кэйко Мацуя.
Мальчик мотает головой.
– Она сестра моего друга. Ростом примерно мне по пояс. Чуть ниже. Волосы – до плеч.
Он снова мотает головой, все еще не глядя на нас.
– Лицо у нее круглое и… Ты слушаешь?
Он поднимает голову, но смотрит не на меня, а куда-то в сторону, за мое левое плечо.
– Простите, – говорит он.
Смотрю на него.
– Нет, это я должен извиниться. Что у тебя с глазами?
– Я видел пику. Очень близко. И глаза сгорели.
Он спрыгивает со стены и, постукивая по земле тонкой веткой, идет к нам.
– Все сюда приходят – ищут своих, – говорит он. – Однажды мой отец вернется с войны и тоже придет за мной.
– Я уверен, что он вернется героем, – подбадриваю его.
Мальчик улыбается и радостно произносит:
– Он будет гордиться, что я выжил!
– Непременно!
Но улыбка сходит с его лица, он наклоняет голову набок и хмурится:
– Я здесь с самого начала и не слышал ни о ком по имени Кэйко. А слышу-то я хорошо.
– Ты уверен? – переспрашиваю я.
– Если бы я был Императором, я бы сказал: «Слово Императора, сэнсэй!»
Я улыбаюсь от этого «сэнсэй».
Интересно, сколько он думает, мне лет.
– Ну ладно. А ты точно запомнил ее имя?
– Кэйко Мацуя, – уверенно произносит он.
– Ты молодец. Если встретишь ее, передай ей, пожалуйста, вот это.
Мэгуми достает мою книгу. На полях страницы я пишу «Кэйко», рядом – свое имя и пониже – «Больница Токио».
Мальчик морщится, слыша, как я вырываю страницу, и терпеливо ждет, пока я ее сложу.
Кладу ему на ладонь журавлика. Он ощупывает бумажные крылья.
– Нужно тысячу таких, сэнсэй, чтобы исполнилось ваше желание.
– Ради того, чтобы найти ее, я готов сложить тысячу журавликов и отправиться с ними в тысячу мест!
– Наверное, она особенная.
– Для меня – да, – шепчу я. – Такая же особенная, как и ты – для родных.
Он поворачивается и уходит, ведя палкой перед собой. Неужели никто ему не сказал, что война окончена?

В школах, домах, приютах или больницах – куда бы мы ни заходили – я оставляю бумажного журавлика. И на каждом из них написаны наши имена – мое и Кэйко, и еще адрес больницы в Токио.
В одной из школ имена пропавших детей нацарапаны прямо на стенах. Я добавляю еще одно: Кэйко. На пол рядом с этой стеной тоже кладу журавлика.
Страницы из книги разлетаются – пусть скорее сбудется мое желание.
Времени на то, чтобы осмотреть город, не остается.

Солнце садится, унося с собой этот долгий трудный день. Нам некуда идти, кроме больницы Красного Креста.
Я ужасно устал. Мы движемся на запад, снова выходим к трамвайным линиям и идем тем же путем, каким я шел с Кэйко. Только ее рядом нет. И в больнице, я знаю, ее тоже не будет.
Сгоревший трамвай все еще на месте.
Я подхожу к нему и сажусь туда, где сидела Кэйко. Этот трамвай, развороченный атомной бомбой, – страшное напоминание о наших последних минутах вместе.
Мэгуми садится рядом со мной:
– Это то самое место, где?..
– Где я ее оставил? Да.
– Я не это имела в виду, я только хотела…
Кладу руку ей на плечо и шепчу:
– Знаю.
Я смотрю, как сияют костры среди руин – люди готовят еду или греются. Живые.
– Ичиро, очень даже может быть, что кто-то ей помог, или она сама сумела дойти куда-нибудь. И взяла с собой твоего журавлика.
– Вряд ли, – отвечаю я. – Хотя, конечно, возможно все.
Я смотрю на нее. Мое лицо как будто под каменной маской. Нет, я не заплачу. Но ее глаза блестят от слез, и в них дрожат и мерцают огни изнывающего от боли города. Она дает мне руку. Кругом – тишина.
Но сквозь молчание мы слышим друг друга. А потом Мэгуми встает и помогает мне подняться.
Мы идем дальше. Она рядом, и я опираюсь о ее плечо.

Ворота больницы открыты и даже как будто приглашают войти.
Во дворе больше никто не толпится; с окон центральной прямоугольной башни свисает белый флаг с огромным красным крестом.
– Помнишь имя доктора, с которым ты разговаривал? – спрашивает Мэгуми, когда мы подходим к главному входу. – Тот, который дал тебе воды.
– Я помню только его лицо.

Мы заходим и видим молодую женщину за письменным столом. Вокруг нее – пациенты: они сидят на стульях и на полу, прислоняются к стене и облокачиваются о шатающийся стол. Но когда мы подходим, женщина встает, улыбается и кланяется.
– Я ищу кое-кого, – обращаюсь к ней. – Маленькую девочку. Ей пять лет. Зовут Кэйко Мацуя.
Она снова садится за стол и просматривает бумаги.
– Не знаю, здесь ли она. Вообще не знаю, где она, – говорю я.
Женщина откладывает бумаги и смотрит на меня:
– Простите. – Ее голос становится тише, выражение лица – мягче. – Многие, очень многие пропали без вести. Возможно, мы никогда их не найдем и не узнаем…
– Пожалуйста, – наклоняюсь к ней. – Уделите мне несколько минут. Выслушайте меня, прошу вас.

Я рассказываю ей все, как было. Она сочувствует, но я понимаю, что вряд ли эта женщина станет помогать именно мне, ведь каждый день в стенах больницы звучат сотни подобных историй, а то и более трагичных.
Когда я заканчиваю, она дает мне стакан воды.
– На момент взрыва в больнице было триста врачей. Двести семьдесят из них погибли на месте, поэтому неудивительно, что тот, кто остался, не смог вам помочь. Я могу только представить себе, как трудно им было отказывать, и как больно было вам – слышать их отказ.
Женщина глубоко вздыхает.
– Боюсь, – продолжает она, – что доктора, о котором вы рассказали, звали Ямамото. Он умер на прошлой неделе.
Я пошатнулся и схватился за стол.
– Нет… Но… от чего? Он сказал, что травмы у него легкие. По сравнению с другими.
Она снова вздыхает.
– Мы не знаем. Но таких случаев немало. Люди, которые не сильно пострадали от бомбы и выглядят вполне здоровыми, внезапно заболевают. – Она отворачивается от пациентов и понижает голос. – Часто они жалуются на невыносимую усталость. У многих появляются высыпания на коже. А потом они просто тихо уходят. Тают.
Я часто моргаю, стараясь не думать о собственной усталости.
Ее голос стихает:
– Даже если ваша Кэйко выжила, боюсь…
– А все-таки, можем мы пройтись по больнице? – спрашиваю я. – Хочу лично убедиться.
Она кивает:
– Конечно.

Больница больше не похожа на отделение ада, как было той ночью, но в окнах по-прежнему нет стекол – вместо них вставили пластиковые панели – хоть какая-то защита от холода и непогоды. Только этот пластик неистово грохочет от ветра, лишая пациентов тишины и покоя; а в дождливые дни все подоконники залиты водой.
И все равно больных здесь очень много.
В коридоре заняты все стулья – люди сидят в очереди – за лечением или лекарствами. В палатах нет свободных мест. Я пробираюсь между рядами коек и вижу, с какой надеждой смотрят на меня больные, как хочется им, чтобы я оказался их пропавшим родственником или другом. Поняв, что это не так, они разочарованно отводят глаза.
Большинство пациентов – взрослые, и заметив ребенка, я устремляюсь к нему, но всякий раз это оказывается не Кэйко, и что-то во мне обрывается.
Ее нет ни в первой палате, ни в последней.
Она не сидит на стуле, не рисует за столом.
Она не прогуливается по коридорам, не болтает с медсестрами и не смотрит в разбитые окна.
– Нам бы придумать, где мы будем ночевать, – шепчет Мэгуми и идет, неизвестно куда.
Я не отвечаю, а просто молча следую за ней.

Мы думали, что легко найдем, где переночевать, но вскоре понимаем, что я слишком устал и не в состоянии дойти до американской базы, а домов в округе почти нет, не говоря уже о гостиницах.
В больнице все палаты заняты, в коридорах и холлах тоже расположились больные. Нам ничего не остается: мы выходим в темноту и по узким дорожкам, расчищенным от обломков, идем на задний двор в надежде найти хоть какое-то укрытие.
Вдруг мы замечаем спрятанную от глаз небольшую дверь. Открываем ее, здороваемся, но никто не отвечает.
Заходим внутрь с вытянутыми руками – пытаемся наощупь понять, где мы. Ничего не видно.
– По крайней мере, тут сухо, – говорит Мэгуми, – и ветер не дует.
Мне стыдно: все-таки она гость в моей стране, и я должен заботиться о ее комфорте. Но мне нечего ей предложить.
В углу лежат старые татами и простыни. Они такие пыльные, что становится трудно дышать, но все равно мы расстилаем их на полу и даже умудряемся укрыться.
Прислушиваюсь к ночным звукам – крик совы, крысиный шорох, треск далеких огней, согревающих далекие дома.
Отголоски чьих-то слов.
Где ты, Кэйко? Жива ли ты? Приснись мне сегодня, приведи меня к себе. Покажи путь.
Но я знаю, что это лишь напрасные надежды; утром я должен вернуться в Токио.
Тишину моих мыслей нарушает Мэгуми: она ворочается, пытаясь получше укрыться. Как же я не подумал сразу! До меня только сейчас дошло, что нам не положено спать в одной комнате.
– Мэгуми? – шепчу я. – Прости меня. Я не должен был ложиться здесь с тобой. Это неуважительно по отношению к тебе. Я сейчас же уйду.
– Не глупи, – говорит она. – Ты никуда не пойдешь.
Темнота в этой маленькой комнате – кромешная. Я не вижу ровным счетом ничего, но слышу, как Мэгуми переворачивается и как скользит ее коврик по полу.
– Спасибо, что поехала со мной.
Близко-близко слышу ее дыхание.
– Что ты, я рада хоть чем-то помочь, – отвечает она. – Жаль, что мы не нашли ее.
Я молчу.
– Когда-нибудь, я верю, – произносит она. Ее теплая ладонь касается моей.

Утром мы идем с Мэгуми по городу.
– Я хочу остаться, – говорю ей. – Здесь еще есть, где поискать.
Она смотрит на меня, на шрамы на моем лице и хмурится.
– Ты должен вернуться в больницу, – строго произносит она. – А поиски продолжишь попозже. Город обживется, заселится. Школы начнут работать. Кэйко ведь только пять. Она в любом случае будет где-то учиться. Вот тогда и обзвоним все школы или напишем им.
Мы держим путь к станции.
– Я приеду сюда еще раз, – обещаю себе и ей.
– Мы вместе приедем, – отвечает она.

Смотрю в окно поезда: Хиросима все дальше, а я представляю, как где-то среди обломков и руин, среди самодельных лачуг и наскоро сколоченных убежищ меня ждет Кэйко.
Может, до моего следующего приезда она по какой-то причине окажется в больнице Красного Креста.
И там, на стойке регистрации, увидит журавлика с нашими именами и приписку: «Больница Токио».
А медсестра скажет ей, что это я приходил и оставил журавлика. И что она дала слово дождаться Кэйко и передать ей бумажную птичку.
Кэйко обрадуется.
– Он обещал мне, что вернется, – скажет она медсестре. – И сдержал обещание.
Когда мы уже подъезжаем к вокзалу Токио, Мэгуми тихонько произносит мое имя. Я просыпаюсь: глаза опухли от сна. Встаю, выхожу из поезда и следую за ней по вокзалу – к такси.
Еще я запомнил, как сидел в машине, но больше ничего – только то, как проснулся в своей койке на следующий день.

Открываю глаза: на меня смотрит доктор Эдвардс. Рядом с ним – Мэгуми.
– И как там Хиросима? – интересуется он.
– Холодно и пустынно.
– Говорят, там ничего не будет расти целых семьдесят пять лет.
– Неправда, – возражаю я. – Мы видели новые побеги. Зеленые, пробиваются из земли. Люди там наскоро понастроили домов и теперь устраивают огороды. Вам не показывали фотографии?
– Кругом одни слухи, – доктор Эдвардс постукивает пальцами по щеке: он всегда так делает, когда думает. – В больнице лежат еще несколько хибакуся. Вы знаете, что это значит?
– Да, – отвечаю я. – Это люди, которые подверглись воздействию взрыва.
– Именно. Ну так вот, вы не единственный мой пациент-хибакуся. И не первый, кто решился съездить в Хиросиму.
Он глубоко вздыхает и смотрит на меня.
– Есть у них кое-что общее. Может быть, совпадение. Только я так не думаю.
Пытаюсь приподняться на койке, но тело ломит так, будто я скатился с горы. Морщусь от боли – ожоги на лице растягиваются и саднят.
Мэгуми помогает мне сесть.
– Каждый из тех, кто съездил в Хиросиму, вернулся сюда в худшем состоянии, чем до поездки, – произносит он и ждет, пока Мэгуми переведет. – У всех наблюдается усталость на грани истощения, у многих открывается кровотечение – и его почти невозможно остановить. Зажившие раны внезапно снова гноятся. А у кого-то появляются красные пятна на коже. – Он замолкает и опускает глаза.
– Те, у кого пятна, – шепчу я, – они умерли?
Доктор смотрит мне в глаза и кивает.
– Женщина в Хиросиме сказала то же самое, – вспоминаю я.
Изучаю свои руки: вроде бы все чисто. Хочется задрать майку, проверить живот, снять вообще всю одежду.
– Доктор…
Он угадывает мой вопрос.
– Нет, – говорит он, – у вас никаких пятен нет. Но сейчас мы всеми силами стараемся вернуть вас в состояние, какое было до поездки. И мы, конечно, надеемся, что у нас получится. Однако в Хиросиму вам ездить нельзя.
– Но…
– В ближайшее время точно нельзя. Если вы хотите выздороветь. – Он снова постукивает пальцами по щеке. – Мы еще только начинаем исследования, – говорит он. – И сейчас полагаем, что после взрыва в воздухе осталось нечто… смертельное. Нам слишком мало известно. Но одно ясно наверняка: каждый из тех, кого мы зовем хибакуся, вернулся из поездки в Хиросиму очень больным. Даже если они пробыли там всего день. Так что мой вам совет – забудьте туда дорогу.
– И что… теперь мне нельзя вернуться домой?
Он вздыхает, переводя взгляд с Мэгуми на пол.
– Я бы однозначно не рекомендовал.
– А все эти люди… которые сейчас там в больницах?
– Ну… что я могу сказать… Может, им и стало бы лучше, если бы они уехали. Не уверен. Я знаю только то, что видел сам и что сообщили мне другие врачи. Мои пациенты – моя ответственность, и поэтому я настоятельно прошу вас не ездить туда.
– Но мне больше негде жить.
– А в Хиросиме – есть где? – спрашивает он. – У вас остался дом?
– Только земля, на которой он стоял.
– У многих так же, – и он продолжает беседовать с Мэгуми, а я выпадаю из реальности.
Бомба изменила все.
Я вспоминаю свою комнату: диванчик и стол, заваленный книгами, вид из окна. Вспоминаю, как сижу на кухне, пока мама готовит. Она поворачивается ко мне и улыбается, и до меня доносится волнующий аромат будущего завтрака. Вот дверь скрипит – это я ухожу в школу или на завод. Солнечный свет играет в ветвях мимозы. Хиро ждет меня на углу вместе с Кэйко, чтобы отвести ее в детский сад.
Все закончилось.
Я поднимаю взгляд и вижу, что доктор Эдвардс как-то по-доброму смотрит на меня.
– А сейчас я вас оставляю, – говорит он и кланяется на прощание.
Мэгуми никуда не уходит: она садится рядом, положив руки на колени.
– Ичиро, как ты себя чувствуешь?
– Все время хочется спать, – отвечаю я. – Спасибо тебе за заботу.
Она улыбается, но ее улыбка быстро гаснет.
– Я должна кое-что тебе сообщить. Не о Кэйко – о себе.
В палате тихо; пациенты читают, спят или разгадывают кроссворды, уставившись в пустоту. Мэгуми наклоняется ко мне.
– Ты знаешь генерала Макартура? – спрашивает она.
– Конечно, это американский военачальник. – Я перехожу на шепот. – Сейчас он командует войсками в Японии.
Она складывает руки в замок и тихо произносит:
– Так вот. Он выступает против того, чтобы женщины-военные служили за пределами Америки.
– Что это значит – «выступает против»? Это что-то меняет?
– Да. Это значит, что если я хочу остаться на службе, мне нужно вернуться в Штаты.
В груди жжет. Трудно дышать.
– Ты должна уехать из Японии?
– Я могу и остаться. Но для этого мне придется устроиться на работу здесь, в Токио. А с военной службы – уйти.
Так и мечтаю сказать ей: «Не уезжай! Забудь про военную службу. Я хочу быть с тобой». Но дар речи меня покидает. Внезапная острая боль – от того, что она может уехать.
– Я ходила устраиваться на новую работу. На прошлой неделе.
– И что? – спрашиваю я, стараясь сохранять спокойствие и невозмутимость.
– Они меня взяли.
Я выдыхаю – так громко и тяжело, что самому становится неловко.
– Но только на год. А потом мне надо будет вернуться домой. В общем, – Мэгуми отводит взгляд, – здесь я больше не работаю.
И вот теперь она смотрит мне прямо в глаза.
– Мы не сможем видиться так часто… Теперь не получится заскочить к тебе с чашкой чая и почитать с тобой.
– Но ты все равно будешь в Японии? В Токио? – спрашиваю я.
Она кивает.
– Если ты захочешь, я бы тебя навещала. Мне было бы приятно. Но только если ты не против.
Становится легче. Я счастлив и расплываюсь в улыбке, которую уже не в силах сдержать:
– Если я не против? – повторяю я.
Смотрю на нее, и внутри меня разливается тепло.
– Да, – говорю я. – Да, конечно, буду рад!
– Тогда договорились.
– Каждый день? – спрашиваю я.
Она кивает, улыбается – и эта улыбка освещает палату и весь мой мир.
– Каждый день, – говорит она. – Целый год, каждый день.

В жизни «до» все было распланировано.
Я стал бы инженером. Отец вернулся бы с войны героем. Мама была бы счастлива. Хиро и я дружили бы всю жизнь. Мы бы веселились на свадьбах друг друга, праздновали рождение наших детей, ходили друг к другу в гости. Мы бы никогда не уезжали из Хиросимы – просто потому что это не нужно, но зато путешествовали бы с нашими семьями и возвращались домой, полные впечатлений и воспоминаний, а потом рассказывали бы друг другу истории и показывали фотографии.
Каждый раз при встрече Хиро делился бы новостями о своей младшей сестре Кэйко, о ее успехах и занятиях. Он передавал бы мне от нее приветы и слова благодарности за то, что я отводил ее в детский сад по утрам, когда их мама работала.
Иногда мы случайно встречались бы с ней, и я бы удивлялся, как она выросла и какой стала взрослой.

Утром будет год с того дня.
Год с тех пор, как я последний раз видел Кэйко.
Вспышка, изменившая ход жизни.

Сегодня мы поедем в Хиросиму на поезде – Мэгуми и я – впервые с той нашей поездки, когда я еще лежал в больнице.
Обстоятельства и мое неважное здоровье помешали нам сделать это раньше. Когда меня выписали из больницы, я снял жилье в том же доме, где жила Мэгуми, устроился на неполный рабочий день и снова стал учиться. Но все это время я писал бесчисленные письма в школы, организации по оказанию помощи, больницы, детские дома, приюты – у всех я спрашивал про Кэйко, всем отправлял по журавлику, сложенному из книжной страницы, на которой были написаны наши имена и мой новый адрес.
Письмо можно потерять, забыть про него или просто выбросить. А вот бумажный журавлик обращает на себя внимание. И тот, кто получит такое письмо, наверняка оставит журавлика себе – где-нибудь на столе или на подоконнике. А может, кто-нибудь увидит его, из любопытства прочтет мое послание и запомнит.
В больнице, где я лечился, я тоже оставил журавлика. Доктор Эдвардс пообещал, что положит его на видное место.
До сих пор мне никто еще не ответил.

Стук в дверь. Это Мэгуми зашла за мной. Она стала для меня по-настоящему близким человеком – я и представить не мог, что такое возможно.
Она мой друг, моя девушка, моя надежда на будущее, мой собеседник. И если я потерян, она – мой компас, а если мне темно, она – мой свет.
Она для меня – вся моя жизнь. Надеюсь, и я для нее тоже.
Через два месяца заканчивается ее контракт, и ей нужно будет вернуться в Америку, но мы делаем все возможное, чтобы она осталась.
В Хиросиме мы с Мэгуми сходим туда, где стояли наши дома – мой и Хиро, где был детский садик Кэйко. И еще посетим поминальную службу.
Найдем ли мы Кэйко?
Я всюду буду брать свою книгу – со временем она становится все тоньше и тоньше. Если мы не найдем Кэйко, из последней страницы я сделаю последнего журавлика и оставлю его на мемориале.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.