Текст книги "Постсоветский мавзолей прошлого. Истории времен Путина"
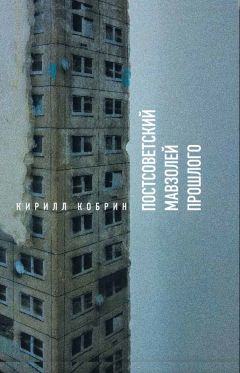
Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Если первое поколение московской интеллигенции заключило контракт с властью в 1920-х на одних условиях – совместного строительства светлого будущего, – и этот контракт, пусть и содержавший низменные прагматические пункты, в основном отвечал возвышенным стремлениям обеих сторон, то уже в 1930-х все изменилось. В новой сословной империи Сталина только столичные бюрократия и интеллигенция получили разрешение на внутреннее воспроизводство и создание своего рода каст – при тотальной лояльности режиму, конечно. Сталин не коммунизм строил – он создавал систему идеальной власти, в которой интеллигенции, как производителю идеологических смыслов, было отдано особое место – оттого ей разрешили воспроизводить себя, порождая новых производителей тех же смыслов. Отбор был беспощадно строгим, вспомним хотя бы знаменитую кампанию конца 1940-х, в ходе которой уже второе поколение советской интеллигенции по распоряжению власти пожирало своих учителей, выросших в 1920 – 1930-х. Хронологически первые были детьми революции и участниками проекта большевистской модернизации, из хронологически вторых формировали уже настоящую касту, на манер Древнего Китая. За лояльность отлично платили.
Самое интересное, конечно, случилось позже. Превратившись в эпоху позднего сталинизма в государственное сословие, московская интеллигенция несколько отделилась от власти, оставаясь тем не менее в близких отношениях с ней. И она стала осознавать свои собственные, сословные интересы, которые не всегда идеально совпадали с интересами власти, иногда даже противоречили им, но – и тут всегда соблюдался тончайший баланс – никогда не выходили за определенные пределы. Внутри этого пространства при желании можно было метаться между полюсами тотального лоялизма и серьезного несогласия; однако несогласие касалось деталей, пусть важных, но не самогó установленного порядка вещей. Вся история так называемых шестидесятников описывается этой моделью – а это самая важная глава в истории московской интеллигенции. В отличие от Сталина – и отчасти от Хрущева – Брежнев и его политбюро нуждались не только в научно-технической интеллигенции, у власти уже в середине 1960-х возникла серьезная потребность в «специалистах по словам», которые должны были убедительно описать текущий исторический момент – время, когда про коммунизм следовало забыть, про Сталина по возможности не вспоминать (или делать это мельком, не акцентируя), иными словами, когда ни про будущее, ни про недавнее прошлое особенно распространяться не рекомендовалось. Оставалось настоящее и далекое прошлое – а для того чтобы найти слог и слова для их описания, требуются совсем иные навыки, нежели у пропагандистов сталинской закалки. Идеальным языком описания стала сконструированная преимущественно московской интеллигенцией позднесоветская культура – единственный действительно великий продукт брежневской эпохи. Фактически был создан огромный мир, в нем на чердаке можно было послушать Аверинцева, чуть пониже – почитать Трифонова, еще чуть ниже – посмотреть «Москва слезам не верит», «Гараж» и «Афоню», а уж на цокольном этаже и вовсе не протолкнуться от всевозможных кобзонов и хазановых. Эта вселенная, составленная из чувств и простейших реакций позднесоветского интеллигента, параллельная официозной идеологии, оказалась идеальной подпоркой власти. Более того, когда власть рухнула, подпорка не только осталась – она оказалась точкой сборки постсоветского человека, единственным реальным объектом его патентованной «ностальгии», орудием формирования псевдоидеологии нынешнего российского режима.
Об этом написано очень много, в частности и в этой книге, я перечисляю здесь очевидные вещи, банальности – но кто-то же должен выстроить их в ряд. Московская интеллигенция действительно определила позднесоветский мир: она была главным идейным разработчиком осторожных брежневских идеологем (вроде «Курса на совершенствование развитого социализма») – и она же породила наиболее мощные группы диссидентского движения. Это был ее наивысший взлет, акме. Из идеологической и культурной обслуги власти московская интеллигенция превратилась в самостоятельную силу – настолько самостоятельную, чтобы покончить с СССР, похоронить тот порядок вещей, который ее в нынешнем виде породил. Шестидесятники придумали перестройку, они же ее довели до конца, когда перестраивать было уже нечего.
С вершины есть только одна дорожка – вниз. Этот путь начался в 1991 году, когда именно московская интеллигенция по большей части остановила путч и поддержала Ельцина. Сложно сказать, чего здесь было больше: усталости от двусмысленного положения в предыдущие десятилетия (за прослушивание Высоцкого можно загреметь известно куда, в то время как тот же певец поет по дачам членов ЦК), или надежды на настоящий прорыв в светлое будущее (которое почти однозначно представлялось в виде славного прошлого до 1917 года), или расчета занять еще более приличествующее своим способностям положение в социальной и политической структуре. Ничего этого не произошло: «шоковая терапия», устроенная «молодыми реформаторами» – этими типичными представителями московской интеллигенции, пощады не знала. С 1992 года для обычного представителя московской интеллигенции оставались три способа выжить: (а) эмигрировать, (б) героически перебиваться с хлеба на воду, (в) доказать уже новым хозяевам жизни свою необходимость. Все варианты были популярными – и уезжали, и бедствовали, и пристраивались к новому порядку вещей. Насчет первого и второго все ясно. Третье требует небольшого пояснения.
Доказать свою нужность можно было несколькими путями. Прежде всего сыграть в великого гуманиста, ищущего своего мецената. Во-вторых, сменить профессию, социальный статус, занявшись, к примеру, бизнесом, или уйти в политики – но используя в новой деятельности старый культурный багаж, обширные столичные связи и, что немаловажно, образ интеллигента. Наконец, сконструировать и предложить новым хозяевам жизни сферу применения своих способностей, внушив власти и обществу, что без этой сферы в нынешние времена никак. Так возникли политтехнологи, политэксперты, политаналитики – все они вербовались в основном из историков, философов, филологов и прочих гуманитариев. В начале 2000-х политтехнологи стали постепенно превращаться в пропагандистов; сегодня этот процесс завершен. Иногда кажется, что сейчас все вернулось во времена Брежнева – но на самом деле наоборот. В 1970-х московский интеллигент-гуманитарий был нужен власти, чтобы описывать реальность в не враждебных власти словах, описание это служило не только «оправданием» эпохи застоя, оно сделало эту эпоху единственно возможным миром. В 2016 году власти никакого описания реальности не требуется – как не требуется ей и сама реальность. Для производства пропаганды и конструирования сияющего образа мощной державы, которая процветает под присмотром мудрого президента, интеллигенция не нужна – со времен Хрущева она в силу своей двойственной природы не способна на прямую ложь. Оттого ее отодвинули. На интеллигенцию, даже московскую, почти не обращают внимания, а когда обращают, обходятся с ней чуть ли не брезгливо.
Все это совпало со стремительной деградацией всего общества, его институтов, с упадком научных учреждений, а также с общим экономическим ничтожеством постсоветской России. Русский интеллигент, особенно московский интеллигент, стремительно остается не при деле. Ему негде работать; скоро ему станет не на что жить; он стремительно теряет влияние в обществе. Он хихикает в своем Фейсбуке над нелепым языком власти и так называемого «народа», но это чуть ли не последнее его утешение. Невозможно даже вернуться назад, в блаженные 1970-е, и гордо удалиться в башню из слоновой кости, чтобы тихо изучать суахили или историю Древней Финикии. В 1970-х можно было прожить, появляясь в своем НИИ два раза в неделю или даже просто подметая улицу по утрам. Сейчас – нет. Беспощадность новой жизни в России заключена именно в этом безразличии – к знанию, к культуре, к рефлексии, к людям, причастным ко всему вышеперечисленному. Чаадаева сегодня затравили бы интернет-тролли, Грановского бы просто не заметили, а бедного пьяного Блока забили бы до смерти в полицейском участке. Впрочем, это еще неплохой вариант, бывает хуже. Андрей Макаревич, этот герой прогрессивных инженеров за пятьдесят, сегодня поет на юбилее олигарха в компании с блатным певцом Григорием Лепсом. Можно, как автор этих строк, не любить Высоцкого или Окуджаву, но на одной сцене с Кобзоном они замечены никогда не были.
Очарование улетучилось, уют разрушен, московская интеллигенция осталась одна на холодном ветру в ледяной безразличной пустыне нового мира, который уже даже сложно назвать «постсоветским». Это мир совершенно чужой; в нем, чтобы спастись, нужно выстраивать горизонтальные социальные связи совсем иного типа, нежели прежде, связи, в которых о прошлом интеллигенту напоминает разве что необходимость выказывать солидарность к сотоварищам по сообществу. С этой – и никакой иной – точки возможен отсчет уже совсем иного мира, лучшего, нежели нынешний «русский мир».
Две партии
Майкл Игнатьев в биографии Исайи Берлина[28]28
Ignatieff M. Isaiah Berlin. A Life. L.: Chatto & Windus, 1998.
[Закрыть] описывает второй визит своего героя в Москву. Дело происходит летом 1956-го, Берлин только что женился на Алин Албан (Алин де Гинзбур), и это их свадебное путешествие. До того он провел в СССР несколько месяцев, с сентября 1945 по апрель 1946-го, в качестве сотрудника британского посольства. Именно тогда Берлин имел счастье познакомиться с Борисом Пастернаком, Корнеем Чуковским и – конечно же – Анной Ахматовой, о двух его встречах с которой до сих пор ходят легенды. Собственно, все написанное Исайей Берлином о русской интеллигенции стало результатом его визитов в Переделкино и Фонтанный дом.
Итак, это был уже второй визит (в конце восьмидесятых Берлин совершит третий, последний в его жизни) и при совершенно иных обстоятельствах. Тридцатипятилетний выпускник Оксфорда, известный в узких кругах как автор блестящих отчетов в Форин офис о состоянии умов в Америке времен Второй мировой, – и 11 лет спустя уже знаменитый эссеист, один из самых светлых умов англоязычной историко-политической публицистики, оксфордский дон. Решительно поменялась и ситуация в той стране, которую он посещал и которую так странно любил. Несколько месяцев передышки между окончанием войны и началом новых сталинских преследований, на этот раз нацеленных уже почти исключительно против интеллигенции, причем еврейского происхождения, – и первый год оттепели, возвращение узников ГУЛАГа, доклад Хрущева на XX съезде КПСС. Все те, кто выжил в страшные годы, с кем Берлин так жадно разговаривал сразу после войны, уцелели, однако в 1956-м, в отличие от представителей последующих поколений, особого оптимизма не испытывали. Самый яркий пример тому Пастернак; гонения на него были и при Сталине, однако финальная – и самая мучительная – драма разыгралась уже в самый разгар оттепели. Кстати говоря, Исайя Берлин принял участие в международной судьбе «Доктора Живаго»; точно так же в первой половине 1960-х он хлопотал по поводу почетной оксфордской степени Ахматовой.
Но все это случится позже. Пока же Исайя и Алин гуляют по Москве и посещают устроенный британским посольством прием, на который приглашены и некоторые члены хрущевского политбюро. Игнатьев цитирует письмо Берлина Вайолет Бонэм Картер, где тот сравнивает высших советских аппаратчиков с привратниками оксфордских колледжей, «одновременно обходительными и брутальными, тонко чувствующими классовые различия и испорченными, отвратительно жовиальными; с бандитской непосредственностью они предаются сентиментальным воспоминаниям». Звучит немного экзотично, если речь о Маленкове, Булганине или Кагановиче; однако, учитывая прошлое этих людей, любой Аль Капоне по сравнению с ними – сущий младенец в своих злодействах. И хотя во многом это описание базируется и на популярных в то время криминальных «фильмах нуар», Берлин прав – этим людям действительно есть что сентиментально вспомнить. Ибо когда-то они много убивали – и сами ежечасно могли быть убиты; ну а сейчас можно немного расслабиться и жовиально выпить водки или коньяка в посольстве вражеской страны. Времена другие – за это не расстреляют. Впрочем, если вспомнить то, что произошло с Булганиным, Кагановичем, Маленковым в течение последующих после 1956-го пары лет, рано, рано они жовиальничали.
Исайя Берлин ни на секунду не верил в искренность советских вождей, устроивших оттепель, – и правильно делал. Он знал им цену – и, самое главное, понимал устройство их мышления. Да, они сильно сбавили скорость вращения устроенной ими же страшной мясорубки, но не из-за какого-то там человеколюбия, нет, просто учуяли, что времена иные и что для поддержания власти можно обойтись и другими методами. В ходу тогда были научно-технический прогресс, риторика вселенского гуманизма и несколько выцветшие лозунги советских двадцатых. Однако внимательного наблюдателя не проведешь – и уж тем более не проведешь тех, кто жил в те самые воспетые оттепельной интеллигенцией двадцатые годы. Первого мужа Ахматовой, Николая Гумилева, расстреляли в самом начале того десятилетия. Сама она была мишенью издевок разного рода «пролетарских критиков». Осип Мандельштам немалую часть того десятилетия стихов не писал. Пастернак, между прочим, тоже – поэтический сборник «Темы и вариации» заканчивается 1922 годом, затем, до тридцатых, – в основном переделка ранних стихов и, конечно, поэмы, эти мучительные попытки договориться с собой, договаривающимся с новой социальной, политической, культурной, психологической реальностью. Именно тогда написано вот это, знаменитое:
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
И вот это особенно:
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Пастернак не кокетничал. При всей своей якобы «надмирности» и вроде бы «непрактичности» он обладал удивительно тонким и сильным социальным чутьем. Его «среда» еще только начинала «сходить» в двадцатых годах, пытаясь еще удержаться за придуманную для нее советскими малопочтенную, но полезную кличку «попутчики», однако уже в следующее десятилетие ее, среду, заломив руки за спину, конвой просто вытолкал со сцены. Уцелевшие, затаившиеся среди кулис, были вычищены после войны, через год после того, как Пастернак в Переделкине беседовал с Берлином. Сам поэт задержался на сцене дольше всех; его, написавшего роман про сомнительную радость собственного социального заката, изгнали под улюлюканье полуграмотной толпы. Лед растаял, музыка вернулась в небесные сферы, остались грязные лужи на советских мостовых.
Да, Исайю Берлина было не провести, несмотря на его – уже совсем другого рода, нежели пастернаковская, – непрактичность. Сравнение членов политбюро с оксфордскими привратниками выглядит действительно экзотично, но только на первый взгляд. Об этой категории служителей сословных английских университетов (Оксфорд плюс Кембридж) писали многие – и изнутри (Ивлин Во), и как бы снаружи (Набоков); никто из наблюдателей никаких симпатий к ним не испытывал. С одной стороны, почтенные служители благородного традиционного порядка мира зеленых лужаек и старых колледжей. С другой – тайные повелители повседневного быта, доносчики, которые могут пожаловаться университетским властям на недостойное поведение студента, продажные слуги. Тема чисто английская, конечно, начатая П.Г. Вудхаузом в серии романов о Берти Вустере и его слуге Дживсе. Эту тему закрыл зловещий фильм Джозефа Лоузи «Слуга» (сценарий великого Гарольда Пинтера по повести Робина Моэма, племянника известного беллетриста Сомерсета Моэма; в главной роли Дирк Богард). Казалось бы, перед нами вещь, характерная исключительно для сословного английского мира, невозможная уже на континенте, во Франции или в Германии; тем более не имеющая отношения к советской жизни. Но это не совсем так.
Оксфордские портье, а также более многочисленные и типичные слуги в английских аристократических поместьях сильнее своих господ, так как они, во-первых, лучше знают жизнь, во-вторых, отлично чуют слабые места своих господ и, в-третьих, имеют все рычаги влияния на них, или даже не «влияния», а господства. Они согласны на внешнее смирение, они склоняют голову при появлении хозяев, они стараются быть незаметными – но при этом они все время здесь и все время наблюдают за происходящим. Постепенно власть переходит к ним, хотя господа этого не понимают, а если и понимают, так слишком поздно и тоже не подают виду. Но это в Англии, не в других местах.
Если перенести этот сюжет на советскую почву, то классом слуг окажутся совсем другие люди. Революция 1917 года была попыткой реализовать огромную, неслыханную до того утопию. Не окажись во главе революции мощные ораторы, гениальные демагоги, презирающие жизнь параноидальные идеологи, она бы никогда не победила. Но, победив в октябре 1917-го, революции нужно было обустраивать новую жизнь – а для этого понадобились уже совсем другие люди, практические, приземленные, своих мнений не имеющие. Именно они были призваны выполнять черновую работу, прежде всего административную и репрессивную; впрочем, в Советской России, а потом в СССР эти две области были тесно переплетены. Для другого, для промышленного и культурного строительства, для научных открытий, понадобились совсем иные, со старой подготовкой и закалкой – вот отсюда и появилось слово «попутчики». Эта та самая пастернаковская «среда», уцелевшая в Гражданской войне и не уехавшая в эмиграцию. «Попутчики» не разделяли бесчеловечной жестокости новой власти, но млели от ее утопического оптимизма. «Слугам» же было наплевать на все оптимизмы и пессимизмы на свете, а жестокости они не боялись, ибо их среда была, как сегодня выразились бы менеджеры, «конкурентной». Вот они – особенно в этом преуспели чекисты – и принялись конкурировать, то есть истреблять друг друга чуть ли не с самого начала своего существования как социальной группы. Впрочем, через какое-то время они добрались и до «попутчиков», и до всех остальных. К тому времени настоящие «вожди» либо умерли, либо пали в междоусобице. Остался только один вождь, но уже другого рода, Сталин. Он и создал государство слуг, политическую систему, основанную на глухом ползучем жестоком прагматизме выживания в условиях войны всех против всех. Прошло двадцать лет, умер и Сталин. Руководить страной остались слуги. Забавно, что – несмотря на все перипетии постсоветской истории – они продолжают это делать и сегодня.
Все вышеперечисленное Исайя Берлин даже не понял, а именно почувствовал, так как провел почти всю взрослую жизнь в Оксфорде, одновременно вращаясь в кругах английской аристократии. Он жил в мире господ и слуг, в мире, где – в силу объективных исторических причин – первые становились все слабее, а вторые – все могущественнее и зловещее. Берлин разглядел в условном маленкове видавшего виды лакея, пережившего хозяина и теперь распоряжающегося в хозяйском имении. Но это еще не все. В отличие от вполне безобидных по сравнению с членами сталинских политбюро английских дворецких, условный маленков действительно был настоящим душегубом, на чьих руках действительно была кровь. Оттого он – в описании Берлина – имеет замашки бандита, уже в иные, вегетарианские времена благодушно вспоминающего былое. То, что его самого через пару лет сменили другие, такие же условные маленковы, никакого значения не имело. Для маленковых лично, сосланных руководить электростанцией в Усть-Каменогорске, значение, конечно, было. Но вот как-то сочувствовать жертвам такой перемены участи не получается.
Под конец биографии Исайи Берлина Игнатьев пишет о последних годах своего героя, дожившего до падения презираемой им советской власти: «Он испытывал тихое и глубокое удовлетворение от мысли, что партия Ахматовой и Пастернака <…> в конце концов победила». Сложно представить себе более сильное заблуждение, нежели это. Глядя на сегодняшнюю Россию, на повадки членов нынешнего политбюро, на саму интонацию русской жизни сегодня, понимаешь, увы, очевидное – оксфордские привратники опять победили. Что же до «партии Ахматовой и Пастернака», то, во-первых, ее никогда не было, во-вторых, даже если бы она и существовала, то не имела бы ни малейшего шанса на победу. В конце концов, сказано же, хотя и по другому поводу: «Митьки никого не хотят победить». И верно: жизнь – не череда печальных убийств в «Крестном отце».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































