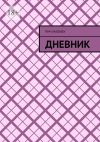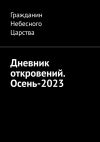Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
И вот что получается. Кончилось позднесоветское время с его мощной и правильной (да, правильной) социальной политикой, что называется, в «сфере здравоохранения». Кончилась эпоха советского позднего модернизма, время прибалтийского варианта советского позднего модернизма; кончилось и время европейского буржуазного позднего модернизма. И выяснилось вдруг, насколько они не то что похожи, а насколько они есть разные версии одного и того же. Поэтому героев Rīgas Licis можно принять как за оживших моделей из советских модных журналов, так и за персонажей легендарных некогда баварских порнокомедий. Но это сейчас так прочитывается, а тогда был 2003-й, и слово «Бурда» еще не потеряло свой заветный смысл среди определенной части населения бывшего СССР. А слово «СССР» имело смысл другой, нежели сейчас; советское еще дышало в затылок ушедшим девяностым. Сейчас 2003-й точно так же закончился, как и условный 1973-й или условный 1983-й. Листая Rīgas Licis, мы в двойном скафандре сдохшей истории или, если угодно, в двух гробах, что вставляются друг в друга на манер матрешки. Но гробы стеклянные, прозрачные, почти все видно. А где мы, где я, который смотрит на этот двойной гроб, держит пижонскую книгу в руках? А нигде. И я никто. Нет такой точки, откуда бы выстроить свое отношение ко всему этому сегодня. Нигдейность и ничтойность подчеркивается несуществующим в реальности английским, которым переведено замыкающее данный кусок нирваны эссе.
16 марта 2018 года
Когда весна не наступает и в разгар марта ты встречаешь полдень в регистрационном офисе Министерства внутренних дел очередной страны, куда тебя занесла судьба евротреша, лучше думать о хорошем. Нет, о прекрасном. О действительно прекрасном. Сейчас у меня в подкорке две прекрасные вещи. Первая – перечтенные эссе Джоан Дидион, написанные почти пятьдесят лет назад. Вторая – я где-то наткнулся, что да, «Улиссу» сто лет. «Улисс» делал меня счастливым все три раза, что я его перечитывал. Slouching Towards Bethlehem – только сейчас, когда-то я не понял ни фига. Ясный ум, ни одного лишнего слова, ритм, интонация; Дидион не было бы без кул-джаза шестидесятых точно так же, как и без Капоте. Прекрасное окружено нелепой чушью: набираю на айпэде «Дидион», а спеллчек предлагает мне «Дядино». Все неизбежно превращается в Дядино, все ничтожности жерлом сжирается.
Это имеет отношение к арту, причем прямое. Искусство, оно же предполагается, ок, оно предполагалось о прекрасном. Нет, даже о Прекрасном. Задам идиотский вопрос. И где оно? Где Прекрасное, что было? Нерваль, «Война и мир», форелевый квинтет Шумана, «Собака Баскервилей», Хаммершой, Пруст, Кирико, Джанго Рейнхардт, Вагинов, Мастроянни в «Восемь с половиной», Анук Эме там же, Майлз Д., Slouching Towards Bethlehem, Station to Station и Ashes to Ashes, «Кольца Сатурна»? Сплошное Дядино осталось. Нет, не истерика и не отчаяние. Пришло время создавать Новое Прекрасное. Аминь.
27 марта 2018 года
Приехал в Прагу, где когда-то провел двенадцать тусклых лет, впрочем, важных, одно другому не противоречит. Не был здесь полтора года, а до того навещал то часто, то редко. Будто пришел в National Gallery поглядеть на давно известную картину: вроде все на месте, то же самое, но вот ощущение иное всякий раз. Ландшафт старого города не меняется, где-то строят, конечно, но на окраинах, а здесь все как было наполнено преимущественно желтой тоской с терракотовыми крышами, так и осталось. Восточно-Центральная Европа as it is. Вялые хмурые люди за кружкой отменного пива. Впрочем, множество украинцев и русских, что – опять-таки, впрочем – тоже довольно скучно. Радуют здесь, как обычно, только вьетнамцы. Скучные супермаркеты с неожиданно скудным выбором пластиковой еды, подорожавшей чуть ли не на четверть за мое отсутствие. Скудный выбор вина в скучных супермаркетах, но наличествует расцвет хипстерских фруктовых самогонов в кафе и барах – самые разные грушковицы, сливовицы, тржешневицы и проч., а раньше это делал один ужасный Jelinek и еще пара винокурен. И много хипстерского пива, но это как теперь везде – и увольте от одеколонно-кислого пойла.
Живу в Бранике, бывшем предместье, у реки, место называется Приставиште, что значит пристань. Когда-то и вправду здесь была пристань, разгружали товары с барж, тут же стояли склады, мастерские и так далее. Образовался рабочий райончик, и рядом с загородными виллами – на Бранике же холмы, лес и даже олени бегали – построили дома для синих воротничков эпохи Масарика, здесь и бюджетный вариант ар-нуво, и эклектика, и межвоенный конструктивизм. Как водилось в прошлом веке, напуганном русской революцией, завели всякие развлечения для пролетариев, театр, к примеру. В общем, предместье; не слобода, а именно предместье. Сейчас это, конечно, самый что ни на есть город, небольшой городской кусок, стиснутый берегом Влтавы с одной стороны – и холмами с другой; он пока живет еще относительно старой жизнью, но вежливая дубина джентрификации над ним уже занесена. До Карлова моста – 12 минут на трамвае; будь это Лондон, квартиры здесь стоили бы уже под миллион фунтов, а то и больше. Но это Прага, так что лет десять я старому Бранику еще даю.
Вчера вечером гулял по тутошним двум улицам, заглядывал в тусклые окна вонючих пивных былого образца, где ничего не поменялось лет за тридцать, разве что курят на улице, неявные бесформенные тени у дверей заведений, приглушенный говорок, огоньки вспыхивают на мгновенье, но ничего и никого не освещают, закрытые жалюзи бакалейных, винных лавок, пошивочных мастерских и парикмахерских, мощеная узкая улица зовет налево вверх к неоготической церкви, желтой, освещенной фонарями, рядом с ней бывший райсовет, тех же времен или чуть позже, но лучше продолжать движение прямо, справа сначала пришедший в полный упадок маленький монастырь, барочный, облупленные желтые стены, терракотовая крыша, все как надо здесь, когда-нибудь явится немец, или русский, или даже местный, купит и устроит отель, а то и жилой комплекс, я такой видел несколько лет назад в другой части Праги, на Петржине, на горе, монастырь побольше, иезуитский, долго был ватиканской гостиницей для командировочного клира, а сейчас девелоперский проект. Мечтаю поселиться в узкой келье и сочинять толстую книгу под названием «Анатомия меланхолии».
Конечно, не только начало – всюду и середина, и вторая половина прошлого века, а вот архитектурных следов нынешнего времени в Бранике нет почти, так, пара домов встроены между обиталищами чехословацкого пролетариата Первой республики. Пивзавод «Браник» завел собственный ресторан на первом этаже советской девятиэтажной свечки, в нем витрины большие, свет внутри яркий («свечка» ведь!), можно разглядеть тех же самых людей, что сидят в других пивных, но при тусклом свете и без air-condition, и потягивают то же самое пиво. Хотя нет, тут иногда бывают туристы, пара пансионов в бывших виллах, да иногда собирается на поздний обед большая семья или однополая компания, именно однополая, что забавно. Либо большие небритые парни, либо женщины, родившиеся примерно в то время, когда чехословацкие диссиденты подписали «Хартию-77». Эти, наверное, коллеги – бухгалтерши, рецепционистки или что-то в этом роде. Едят стейки с картошкой, пьют модный в бывшем предместье нефильтрованный «Браник», болтают, хохочут. На втором этаже свечки – качалка, сейчас, в десять вечера, она пуста, но освещена, видны только рукояти тренажеров, они торчат, как жирные обрезанные ветви черных резиновых кустов, в спортзале произрастающих. Сбоку на первом же этаже – супермаркет, самый в Чехии дешевый, с соответствующим названием Penny Market. Жизнь копеечная, настоящая. И, конечно, на улице пусто, совсем пусто, не считая посетителей пивных, вышедших глотнуть свежего никотина.
Бодлер писал об особом оттенке тоски, что гнездится в переулках предместий. Или это был не Бодлер? Все-таки это должен быть он, ибо кто еще? Захолустное предместье – без него модерность с ее османовскими бульварами и крупповскими трубами не была бы собой. Там, на бульваре Севастополь или на гамбургской верфи, витрина модерности, ее лучшие и самые броские товары. Но вообще-то большинство тогда предпочитало новым вещам – старые донашивать; покупать за гроши на развальчиках, в мелочных лавках, где-то там, за пределами как раз тогда придуманных универсальных магазинов. У модерности была обратная сторона, предместье – и оно стало питательной почвой модернизма, художественного или литературного, ничуть не меньше, нежели Большой Город с его траффиком и шумом. Монмартр времен импрессионистов и пост– был рабочим предместьем. Дальше по списку: асбестовая фабрика семейства Кафки в Жижкове, буэнос-айресское предместье Палермо у Борхеса, безлюдные улицы сюрреалистов, застроенные двух– и трехэтажными домами, вроде как здесь, в Бранике. Да, это особый оттенок тоски, Бодлер (или все же не Болдер?) прав. Вообще же, чем дальше, тем очевиднее: двадцатый век не кончился, несмотря на айфоны. Потому и модернизм не только актуален, модернизм можно, нет, модернизм нужно делать здесь и сейчас. Branik calling: выметем хлам contemporary art метлой высокого модернизма!
27 марта 2018 года (пару часов спустя)
Но это все-таки точно не Бодлер, или же я прочел у кого-то другого ссылку на Бодлера. Возможно, в юности, у Кортасара, что-то из его парижской прозы? Вообще, Париж не только, как у Беньямина, «столица XIX века», он столица предместий, предместная столица модерна, учитывая, что и главные его районы есть – и согласно названию, и если проследить их историю – «предместья», скажем, Сен-Жермен. Собственно, всё там предместья, кроме Ситэ и Сорбонны и южной части Левого берега, если не ошибаюсь. Большое искушение делать большие выводы, мол, Париж есть символ того, что любая столица состоит из предместий, любая культура метрополии состоит из провинциальных элементов, но это не так, потому больших выводов делать не буду.
Вообще, я не помню почти ничего из русских переводов «великой зарубежной поэзии»; почти невозможно серьезно и трепетно относиться к этому – весьма почтенному, конечно, – жанру. Сплошное «Не пей вина, Гертруда!». В памяти осталась всякая дурь, разве что типа вот этого из Рембо, которую будто один мой знакомый питерский поэт, некогда мечтавший о славе то ли Кузмина, то ли Вячеслава Иванова, сочинил лет двадцать назад:
Все тело движется, являя круп в конце,
Где язва ануса чудовищно прекрасна.
Да, лучше все-таки читать переводную прозу, в ней какой-то новый смысл является от столкновения двух повествовательных и перечислительных интонаций. Вот Готье о том же Бодлере, о его тоске и ее оттенках: «…Он сумел найти болезненно-богатые оттенки испорченности, тоны перламутра и ржавчины, которые затягивают стоячие воды, румянец чахотки, белизну бледной немочи, желтизну разлившейся желчи, свинцово-серый цвет зачумленных туманов, ядовитую зелень металлических соединений, пахнущих, как мышьяковисто-медная соль, черный дым, стелющийся в дождливый день по штукатурке стен, весь этот адский фон, как бы нарочно созданный для появления на нем какой-нибудь истомленной, подобной привидению головы, и всю эту гамму исступленных красок…» Впечатление, что это не Бодлер писал статьи о художниках, а сам был живописцем.
1 апреля 2018 года
Fool’s Day. Пасха. День, когда Христос одурачил смерть. Смерть, где твое жало? Ан нет его.
Несколько дней назад ходил на выставку Куделки в Музей декоративного искусства, который я всегда отчего-то считал Музеем дизайна. Его только что перестроили; здание огромное и в стратегически-важном месте: слева – философский факультет Карлова университета, впереди – «Рудольфинум», перед факультетом и «Рудольфинумом» – площадь Яна Палаха и дальше мост через Влтаву на Малу-Страну с открыточным видом на Град в качестве бонуса всяк идущему через. За спиной музея – старое еврейское кладбище, то самое, где похоронен рабби Лёв, слепивший Голема, сочинивший ему ту самую записочку, вдохнувший в глиняного робота жизнь. Я на кладбище не был никогда, туда отдельный билет не купишь, продают только общий, с посещением всех синагог и проч. Прижимистость моя в данном случае оказалась сильнее любопытства. Хотя можно посмотреть на кладбище сквозь ограду – и на улице, рядом с музеем, и с другой стороны, там, где официальный вход, старый еврейский похоронный дом и самый дорогой – по крайней мере в те времена, когда я обитал в этом городе – туалет в Праге. Пишу скорее для себя самого, нечто вроде заклинания, мол, я и вправду здесь жил, и долго жил, а уже многого не припомнишь. На днях, кстати, припомнил самое главное насчет себя и Праги: в первый раз я оказался здесь ровно 20 лет назад, в конце марта 1998 года. Все было другим, даже сортов чешского пива гораздо меньше. В 1998-м Прага восхищала, особенно выставка Мастера Теодорика из Праги в монастыре Святой Анежки, львиные лица XIV века на картинах, неизвестный мне тогда мир окраинных, варваризированных разновидностей больших художественных стилей – готики и особенно барокко. Город вульгарного иезуитского барокко, грубого, но из-за концентрации оного лелеешь иллюзию возвышенного, что ли. Потом, четыре века спустя после богемской версии барокко, был чешский сюрреализм, по сути то же самое. В 1990-е содержательно он был на излете, но именно тогда приобретал умеренно-шумную славу – Саудек, Шванкмайер и проч.; двадцать лет спустя его можно было бы и схоронить, но нет, пациент потихоньку дышит, даже не закрылся славный некогда сюрреалистический журнал Revolver Revue. В Восточной-Центральной Европе никогда ничего не меняется, никогда ничего не умирает. Один слой поверх другого, не смешиваясь. Не считая, конечно, периодических этнических чисток. Но на то и Bloodlands: убить, изгнать, а потом преспокойно об том забыть.
Многие лучшие были изгнаны – или сами сбежали. Йозеф Куделка из них. Он прославился фото невыносимо печального августа 1968-го: советские танки на мощеной пражской мостовой, ярость – столь здесь редкая – пражан, тупое безразличие – столь частое – оккупантов. Все это впервые я и увидел несколько дней назад в большом формате, так что можно разглядеть каждую деталь, прическу молодой женщины в живом щите на Вацлаваке, складки кожаной куртки, распахнутой на груди каким-то парнем, мол, стреляй, сука, всех не перестреляешь. Адресат этого отчаянного жеста сидит на броне и уныло смотрит на явленную ему плоть, куда он без колебаний всадит полдюжины пуль, если таковой приказ отдадут. Кажется – и слава Богу, – в данном случае приказ не прозвучал. Но в других случаях приказы отдавались – отсюда на фото Куделки черные клубы дыма из подожженных домов, бледное лицо мертвеца на мостовой, стены в выбоинах от пуль. Один из самых известных его снимков – неширокая пражская улица, посреди, на трамвайных путях, советский танк, экипаж, судя по всему, спрятался внутрь, на танке – юный длинноволосый парень размахивает чехословацким флагом, сзади – клубы дыма, слева толпа протестующих, она наблюдает за происходящим довольно спокойно, справа – советский военный тягач, сзади, чуть поодаль, еще один танк. Здание справа – конец XIX века, буржуазная застройка, доходный дом – горит. Это Vinohradská třída, Виноградский проспект, до 1962-го – проспект Сталина, я ориентируюсь здесь с закрытыми глазами, все 12 лет прожил за углом, на улице со смешным кулинарным названием Na Smetance. Первый этаж дома, что у Куделки горит, там сейчас кафе, а раньше была сетевая булочная с горячими напитками, рядом – отличная цветочная лавка, выжила, существует, ее держит голландский гей. Справа, там, где на фото толпа, – «Чешское радио», место легендарное и довольно странное для чешской тихой истории (философ Паточка придумал концепцию, согласно которой чехи все время колеблются между «большой историей и «малой историей»). У радио и в мае 1945-го были бои, когда восставшие попытались изгнать остатки капитулировавших уже на самом деле немцев, но сил своих не рассчитали, тут им помогли бегущие от советских же власовцы, надеясь на смягчение неизбежного возмездия победителей, немцы задавили пражан, власовцы выкинули немцев, потом пришла Красная армия. Бои были по всему городу, впрочем, локальные; но вот у здания Чешского радио – самые ожесточенные, свидетельство тому архивные фото. В 1968 году те, кто в 1945-м спас чехов от нацистов, сами стали теми, от кого нужно было спасать, но вот только никто и не спас тогда. Несколько десятков человек сопротивлялись, в этом месте подожгли пару танков, в ответ – стрельба и пожары в домах. Отважный Куделка здесь был – и оставил свидетельство. Фото очень сильное, и не только для того, кто, как я, нарастил к нему персональный бэкграунд.
Куделке исполнилось 80 лет, оттого сразу две выставки – в Музее декоративного арта и в одном из зданий Национальной галереи, на Голешовицах. На вторую я уже явно не успеваю: послезавтра уезжаю в Крумлов, но не очень жалею, кажется, главное посмотрел. Выставка в Музее декоративных искусств называется Návraty («Возвращение»); сам фотограф вернулся (отчасти символически) уже давно, сразу после «бархатной революции», живет на два дома, во Франции и в Праге; сейчас же он как бы вернулся на родину огромным своим архивом, сотнями снимков, не только всяких необязательных, для дополнительного тома условного ПСС классика, но и классических. И когда смотришь все их вместе, в одном помещении, сразу понимаешь его истинную драму; как часто бывает, очень часто, Куделку приняли за совсем другого. «Вторжение-68» – это исключение, а не мейнстрим его фоторабот; в действительности Куделка великий пейзажист пустых пространств, невероятный; собственно, ландшафтными фото он зарабатывал в эмиграции. Но не только пейзажист. В первом же зале Návraty – его ранние театральные работы, где он превращал сцены из спектаклей в довольно зловещие картины, черно-белые. Зрелище полезное и дает возможность кое-что уяснить для себя важное. Примерно так (записывал в телефоне, пока бродил по выставке):
«Его фото пражского театра шестидесятых. Прогрессивная культурная жизнь стран соцлагеря и Прибалтики. Из каждого присвоенного в Европе западного артефакта здесь вычитывалось, вытягивалось что-то совсем иное, с подтекстом, все становилось серьезнее, чем оно имело быть в замысле, из всего получался какой-то соцлагерный скорбец. Потому соцлагерное искусство 1960–1970-х производило на западных интеллигентов сильное впечатление, какой-то особой судьбы, глубины и проч. – да и сейчас на нас, соцлагерных отпрысков, производит такое же впечатление (советское кино шестидесятых, например). Все вещи того времени и того места кажутся больше, чем они есть. Великая „Книга воспоминаний“ Надаша из соцлагерного скорбеца сделана. Обратная сторона того же – ну комично же все это. Наивно. Глуповато. См. фото постановки „Иванова“: будто „Крестный отец“, а не мирный Чехов. Вот-вот заиграет Нино Рота.
Но вообще, конечно, что на Востоке, что на Западе – большой стиль был один, назовем его „поздний модернизм“. Версии разные, стиль один. Фотографии Куделки пражской постановки „Короля Лира“ – кадры из условного Тарковского, тогда еще не снятого. Снимок Polska, 1958 с монашкой на пляже – из фильма Феллини, что будет сделан лет через пять.
Куделка начинал меланхоличными пейзажами, в духе Яна Судека и проч. Театр и август 68-го сбили его с толку. Он гениальный ландшафтный фотограф, безлюдье, пустота, камень. Скольким же еще художникам прошлого века пришлось прикидываться гуманистами?»
13 апреля 2018 года
Долго не писал, последние дни в Праге были суетными – и первые в Лондоне тоже. Сейчас все немного успокоилось и можно вспомнить интересное. Но сначала – неинтересное. Разномастные идиоты намереваются устроить новую войнушку из-за несчастной страны, которую они сами же методично уничтожают последние лет десять. Омерзительный цинизм: беженцев из убитой ими Сирии они принимать не хотят, мол, чужие, неприятные нам, пусть сами устраиваются. А вот бомбить, или наемников посылать, или оружие поставлять, это мы можем. Мы, блядь, великие державы, мы тут поставлены за порядком следить. В результате порядка нет, одно свинство, все свинее и свинее. Поделать здесь ничего не поделаешь: остается одно утешение, искусством. Ну или даже по-старому, Красотой, что ли.
В поисках этой красоты, пусть и с маленькой буквы, дней десять назад был в Чешском Крумлове. Там всё то же, что 15 лет тому, когда я туда ездил, в другом составе, да и с другим в голове. Разве что национальный состав туристов поменялся; сейчас девяносто процентов – китайцы. Раньше были заглянувшие по-соседски австрияки и немцы. Сам же Крумлов все такой же красивый и такой же совершенно ненужный. Надо, наконец, по-нормальному подумать о том, что такое «красота» – в данном случае, да и в других. Фантомная память о музейных открытках и обоях на экране компа? Область, куда мы инвестируем свою персональную пошлость? Кадры из приквела к неснятному кино о Конце Мира? Просто кадры, не вошедшие в любимый фильм? Нет, не снобизм, я сам такой же. Только вот нет ключа у меня к Крумлову – ибо нет смысла, туда вкладываемого. В Крумлове немало Ренессанса, барокко, есть чуть-чуть другого, но все удивительно-непонятно никакое. Итальянское было бы, да, там в голове сразу и сюжеты, и всякие воспоминания о прожитом другими и давно. Французское – еще больше. И так далее. Даже ирландские «красоты», они литературные (французские – живописные, конечно). А здесь ничего. Изумительно и ненужно. От тоски перепробовал все местные самогоны и местное пиво, последнее неплохое. И затащили в музей Эгона Шиле, хотя я дал себе слова туда не ходить, хватило одного раза, в 2003-м. Но слаб человек. На улице вдруг завернул ливень, пришлось прятаться.
Эта разновидность как бы «музея» – самая жульническая. Она называется «частный музей». Обычно кто-то богатый и тщеславный – или кто-то совсем не богатый, но ушлый – снимает/покупает помещение в красивом, лучше старинном здании и объявляет, мол, вот здесь будет музей. Фрейда, Кафки, Шиле, Мухи и так далее. Чаще всего место это не имеет никакого отношения к данному герою; кажется, только музей Фрейда в Вене действительно в его квартире. Но ведь это совсем неважно, не так ли? Экспонаты тоже по большей части фейк. У того же Фрейда хотя бы кушетка та самая, легендарная. Невероятная дама с невероятным именем/титулом «принцесса Мари Бонапарт» ее подарила, если не ошибаюсь. Я бы лучше сделал музей принцессы Бонапарт, удивительная была женщина; впрочем, о ней вроде сняли фильм с Катрин Денев. Да, но в остальных «частных музеях» все одно и то же: плохо сохранившиеся фото и газеты того времени, мутноватые принты и копии картин, историческая обстановка, вечные 12 стульев, избежавшие складного ножа Остапа и Кисы Воробьянинова, скупые объясняловки на стенах, в них масса ошибок. И фрики на кассе. В музее Шиле сидел дядька с тщательно расчесанными пышными усами, сюртуке, под которым разноцветный жилет; то ли не снявший прикид артист оперетты, то ли имперсонатор какого-нибудь знаменитого австро-венгерского великосветского жулика, тоже, конечно, из оперетты. Я его приметил накануне, он пил кофе в кафе при музее, хороший, кстати, особенно для этих мест, и пристально разглядывал мою спутницу. Стражником псевдо-Шиле он оказался старательным, внимательно изучил пресс-карту и заставил меня записать имя и медиа, для которого тружусь, в специальную тетрадочку.
Ну а о музее ни слова, так как все было именно так: фейки, фальшаки, пара, кажется, настоящих почеркушек юного порнографа, сопроводительные тексты, в которых Шиле несчастен, а жители Крумлова, в свое время изгнавшие его из города за пристрастие к рисованию несовершеннолетних голых девочек, – монстры. Я, кстати, согласен. И Эгон был несчастен, и крумловчане («крумловичи»? «крумловцы»?) – монстры. Но только вот в сегодняшней Европе Шиле не просто выгнали бы из городка, наверняка засадили бы в тюрьму. И где здесь мораль? Нет морали. И смысла нет; о чем и свидетельствует город Чешский Крумлов вместе с его музеем Эгона Шиле.
На самом деле помещение там огромное, а музей маленький, даже беря в рассуждение все эти жалкие экспонаты; не смогли больше их настрогать. Так что в остальных залах две выставки современных чешских художниц, старшего поколения. Одна подписывала «Хартию-77», но живопись ужасная, провинциальная, с покушениями на духовность, в такой живописи без Христа или чего-то евангельского или ветхозаветного ни один персонаж даже не сплюнет. Вторая художница – примерно того же возраста – поинтереснее. Ее зовут Marie Blabolilova, и она больше по декоративному искусству. То есть начала делать «высокий арт» довольно поздно, а до того – дизайн, декоративные росписи и так далее. Когда Блаболилова забывает, что она должна делать Искусство, и делает просто искусство, свое, рукодельное, украшательное, тонкое, неназойливое, иногда вполне веселое – это вещи отличные. Особенно когда она включает в картины куски обоев, или обрезанные рамы картин, или еще что-то настоящее из домашнего обихода. Получается как бы readymade, но без манифестов о новом искусстве новой эпохи; лирический домашний дадаизм. Просто вид рукоделия. Особенно мне понравился уголок одного зала с инсталляцией: за музейными канатами – обстановка не самой бедной квартиры страны соцлагеря начала семидесятых. Соответствующий дизайн тонконогих кресел и столика, стол, кушетка, приземистый буфет (у меня у бабушки такой был, где-то достала в 1971-м, болгарский), в буфете – керамика и стекло того времени, на столе – телефон с наборным диском. Он самая современная деталь обстановки; я бы датировал его серединой 1970-х. Похоже на фотографии Светлова из санатория Rīgas Licis, о которых я писал в прошлый раз. На стенах – декоративные, тихие картины самой Блаболиловой. Вообще, похоже на декор моего любимого пражского кафе Kaaba.
Но вот что все это значит? Почему всегда шестидесятые и семидесятые? Когда кончится кисло-сладкая ретромания? И кому это нужно? Неужто и вправду нужно? Или это нами помыкает Бог, он ретроман, он западает на женщин в блестящих открытых платьях, ловко вертящих бедрами и плечами под Yes, Sir, I can Boogie? Был ли он, Бог, молод году в 1972-м, мечтал ли он о тонконогих кофейных столиках в своей отдельной квартирке в новостройке на окраине, куда он будет водить эмансипированных тонконогих девушек? Если так, то я знаю, как выглядит этот Бог. Это Джо Дассен из одного стиха, который я до сих пор очень люблю, из того, где он в леопардовых плавках забегает в море на Лазурном берегу. Вот уж la grande belezza. Времена, когда Джепу Гамбарделла было лет 28 и он уже написал свой великий единственный роман.
27 апреля 2018 года
У старых людей из ABBA, кажется, кончились деньги, и они решили записать пару новых песен, впервые за 35 лет. Северокорейский толстячок перехитрил всех (в отличие от Путина, перехитрил на самом деле): замирился с Югом, выставив идиотами больших пацанов. Впрочем, вестимо, тут победили китайцы. Принц Уильям и Кейт Миддлтон размножаются, как кролики, вызывая гнев феминисток – и мой тоже, хотя в моем случае это брезгливое непонимание. Второй принц, Гарри, готовится жениться, наверное, по такому случаю ABBA и решила срубить бабла. Так и вижу, как новобрачные кружатся по залу скучного английского дворца под Dancing Queen. Part 2, а бабушка Лиза смотрит на них глазами мутными, но цепко.
В столь разнонаправленной международной обстановке сижу и перечитываю «Кольца Сатурна» – готовлюсь к лекции о Зебальде в Bolderāja. И вот на страницах 21–22 в издании New Direction натыкаюсь на такой пассаж (там речь идет о Томасе Брауне и о том, что он – а за ним и множество позднейших натуралистов – предпочитал обычным божьим тварям диковинные, видя в последних проявление необычайной изобретательности Природы, которая не оставляет пустых пятен в собственном инвентаре): «Даже в Thierleben Брема, популярном зоологическом компендиуме девятнадцатого века, лучшие места отданы крокодилам и кенгуру, муравьедам и броненосцам, морским конькам и пеликанам; сегодня же нам показывают в телевизоре колонию пингвинов, недвижно простаивающих длинную темную антарктическую зиму, которая сопровождается ледяными штормами, на лапах у них лежат яйца, отложенные в более теплое время года. В программах такого рода, которые называются обычно „Наблюдения за природой“ или „Выживание“ и преследуют, как считается, образовательные цели, скорее увидишь каких-нибудь монстров, спаривающихся на дне озера Байкал, нежели обыкновенного черного дрозда». Перевод даю здесь свой с английского перевода, так как на русском этой книги не читал.
И вот ABBA строчит новые гимны, Ким Чен Ын обнимается с Мун Чжэ Ином, в Гризинькалнсе идет дождь, а я плаваю в меланхолии и вспоминаю Лондон, откуда недавно приехал. Был там на выставке Марка Диона в Whitechapel, и там как раз про естествознание, классификации, природных и выдуманных монстров, все как я люблю, включая и cabinets of curiosities. Да и выставка сама называется Theatre of the Natural World, что могло бы быть названием новой книги Зебальда, не умри он от аневризмы 14 декабря 2001 года, сидя за рулем автомобиля, мчавшегося по шоссе близ Нориджа. Машину развернуло, она влетела во встречную фуру, к счастью, сидевшая в салоне дочь Зебальда Анна не погибла, хотя и получила тяжелые травмы. Интересно, что о ней мне ничего не известно; я прямо сейчас погуглил, но упоминаний Анны Зебальд, кроме как в некрологах В.Г. Зебальду, не нашел. Наверное, это довольно странно – получить свои 15 секунд славы (впрочем, умеренной) только благодаря тому, что твой отец умер, сидя рядом с тобой. В любом случае, со здоровьем у В. Г. Зебальда было, кажется, не очень: он даже почти не пил, утверждая, что от алкоголя у него сильно болит голова. Однако Зебальд курил, да и вообще выглядел как старомодный немецкий джентльмен. А в те достославные времена, до Гаврилы Принципа и Гитлера, джентльмены запросто могли умереть и в 57 лет, так как много и со вкусом курили. Нет, нам того мира уже не понять, сколько бы мы ни прикидывались. Так вот, выставка Диона содержала в себе практически все элементы, могущие доставить мне удовольствие, однако, будучи собраны вместе, они должного эффекта не произвели. «Театр природного мира» показался забавным, даже занимательным – но не больше. Марк Дион находится где-то на стыке концептуального арта и сюрреализма, взятого, впрочем, тоже в концептуальные кавычки, иногда скобки. Он тщательно и не без выдумки обустроил небольшой бастион в данной точке, в точке этого стыка, которую он, как водится в современном искусстве, сам и придумал. Нет же ничего в contemporary art, что объективно было бы: все существует, только если это сочинишь, сделаешь и, главное, назовешь. Этим contemporary art и интересен; пожалуй, только этим. В общем, Дион придумал стык концептуального искусства и сюрреализма, расположил на нем свою штаб-квартиру, вырыл рвы, построил бастионы, насыпал между ними куртины, а в каждом бастионе открыл тематическую выставку. Вот что-то такое мне и представлялось, когда ходил по залам Whitechapel.