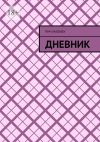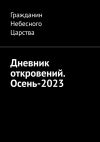Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Модернизм» в названии выставки – смело. Мне нравится. Есть «модерность», а есть способ художественного мышления в эпоху модерности – «модернизм». Так снимается неприятная, гламурная даже коннотация понятия «модернизм» – нет-нет, это не Париж 1920-х с пияными Хэмом и Скоттом Ф., с развеселыми сюрреалистами, которые скоро станут скучными арт– и политическими бюрократами. То есть это и Париж тоже (и Нью-Йорк, и Лондон, и особенно Берлин, не говоря уже о Дрогобыче, Триесте и Двинске, ныне Даугавпилс), но – и Горький, хотя ни Джойса, ни Бретона, ни Ле Корбюзье здесь не было даже в помине. Но модернизм – он же не про качество арта или словесности, он именно про тип общественного сознания, одним из проявлений которого является художественное мышление. Потому выставка в «Арсенале» – больше о конкретной версии советской типовой архитектуры и градостроения 1960–1970-х, про город как продукт данного общественного сознания с его художественным мышлением. Хотя арт там есть, и одна вещь удивила меня.
Мощная картина «Мост строится», написана в год моего рождения, в 64-м, Олегом Бордеем. Я местное искусство того времени (времени «Горький. Модернизм») знаю очень плохо; вырос в пролетарском районе без покушений на типа культуру, в кругах не вращался, а когда стал вращаться, то отчасти сам эти новые круги и создавал, а там уже совсем другое искусство было актуально, да и другая жизнь. Не скажу даже, мол, «жаль», не жаль нисколько, ибо что было, то было, и все сложилось так, как сложилось, не худшим образом. Но сегодня смотреть на кое-какие вещи, тогда пропущенные по вышеуказанным причинам, исключительно поучительно, тем более в ином контексте. Так вот, «Мост строится» – отличная, именно мощная картина, чисто модернистская, но написанная в то время, когда – за пределами СССР и кое-чего еще – такого рода модернизм сменился другим, поздним. А это как бы модернизм высокий, который разыгрывался в полном ощущении своей правоты, не зная – по объективным причинам, – что там, где этот модернизм появился впервые, его правота уже под вопросом. Оттого пафос строительства у Бордея невозможно снизить – мост строят именно там, где высокий модернизм еще не случился, и вот он происходит – в частности, усилиями автора картины – на наших глазах. Советская модернизация (назовем ее «второй советской модернизацией», той, что была после первой, кровавой, двадцатых и тридцатых) возводит опоры моста к новой модерной жизни. Художник Бордей возводит мост к новому (как представлялось в Горьком первой половины 1960-х) искусству, модернистскому. Невозможно представить, что в том же году была первая выставка на уорхоловской «Фабрике». Вот ведь как: названия все индустриальные, модерные – «Мост», «Фабрика», – но сколь разное содержание. «Мост» – настоящий. «Фабрика» – штампует арт для общества, которое уже пресыщается штамповать реальные вещи. Нет-нет, не в смысле там передовое, а здесь отсталое, нет. Просто все разное, как и модерности разные. Было бы неплохо подумать вот о чем: не были ли «модернизмы» во множественном числе, как «модерности»? Ну а пока сижу и развлекаю себя мыслями о том, что сказали бы сейчас левые британские критики, обнаружив вдруг тот же «Мост строится» того же года (1964), но нарисовал бы его не Олег Бордей, а какой-нибудь Albert Smithson или Clement Rash. Что бы началось, боже. Статьи в Guardian, New Statesman, бог знает где еще о том, что был, был у нас великий реалистический социальный индустриальный художник, изображавший будни реальной экономики времен до тэтчеровской приватизации транспорта! И насколько это лучше порочных упадочных алкоголистичных Бэкона и Фройда, да-да, тех самых, что процветали на деньги наглых финансовых спекулянтов и аристократов-вырожденцев. Представляю, какие бы эпитеты придумывал, какие громы и молнии метал бы мой приятель О. Х.
Кстати, здесь на выставке есть очень смешная работа, что мне сразу об О. Х. напомнила – он же архитектурный критик, к тому же вполне молодой, плюс писал о городских ландшафтах коммунизма. Скульптура, небольшая, уже в духе предперестроечного СССР, с покушениями на возвышенное и традиционное разом (крест даже есть, но, конечно, рядом с татлиновской башней, все как надо: русская духовность плюс русский авангард), называется «Юность. Размышления об архитектуре» (Татьяна Холуева, 1982). Сидит молодой человек (хотя, если приглядеться, не совсем молодой, удивительный эффект, вроде портрета Дориана Г.), одну ногу согнул, другую выставил, левая рука поддерживает подбородок, думает. За ним, столь же металлические, то ли крылья, то ли даже нимб, то ли архитектурная деталь, то ли фрагмент купола, поваленный набок, это как посмотреть. В эту конструкцию и вварены крест православный (какой еще???), и Татлин, и церковь православная (какая еще???). Сфоткал, покажу О. Х. Но чего я ему наверняка не смогу объяснить, так это того, что здесь, в этой точке, в точке создания скульптуры «Юность. Размышления об архитектуре», закончилась «вторая волна индустриализации», вторая советская модернизация, закончилась смесью православной духовности с русским авангардом. И ментально начался постсовок – за несколько лет до перестройки. Между картиной Бордея и скульптурой Холуевой зияние глубже, чем между картиной «Мост строится» и выставкой на уорхоловской «Фабрике». Так кончилась советская модерность – не взрывом, но елейным лобызанием «Черного квадрата»
28 июля 2018 года (уже в Лондоне)
Нашел! «О сортире нижегородского дворянского института, после первого посещения нашего <…> Лео рассказывал со слезами на глазах… о фарфоровых писсуарах, напоминающих белоголовых драконов, разверзших сияющие пасти, о величавых унитазах, похожих на старинные вазы для крюшонов; о сверкающем двенадцатикранном умывальнике; о крутящемся в колесе мохнатом полотенце; о зеркалах, обрамленных гроздьями полированного винограда; о монументальном „дядьке“ в двубортном мундире с красным воротником и в штанах с золотыми лампасами, охраняющем крюшоновые вазы…»
2 августа 2018 года
Опять в Лондоне и опять в Tate Britain. Странно, в последние годы я бываю в старой «Тэйт» чаще, чем в новой, а ведь расстояние одно и то же от того места, где обитаю, плюс Tate Modern как бы cool, и там новый корпус, просто гениальный. Великое место. И все же. Вообще, это говорит о чем-то во мне самом, во внутренней трансформации моей. Да, с возрастом постепенно наводишь прожектор внимания – сейчас уже не прожектор, а луч, почти лучик – все дальше и дальше назад, пока не натыкаешься на границу, пересекать которую нужны силы и время, а их обычно мало. Да, чем старше, тем глуше замуровываешься в определенных границах эстетически-близкого и исторически-приемлемого, то есть приемлемого без особых усилий. Тут надо пояснить.
Хожу около шкафов с моими книгами в Лондоне, размышляя, что бы из них прихватить в этот раз в Ригу. Потихоньку перетаскиваю библиотеку в свою квартиру, сразу заказывать контейнер неохота, да и некуда ставить пока эти книги. Так что просто каждый раз бросаю полдюжины томиков в чемодан. На данный момент перевез то, что актуально и нужно для как бы «работы», но ведь, сидя в сердце Гризинькалнса, мечтаешь о чем-то таком, что осталось там, далеко, на острове. Такое бывает всегда и у всех, и не только насчет книг. Потому сейчас решил: возьму только действительно интересное, нечитанное, не попавшее в персональный разряд «актуального» и «нужного для работы». А для этого требуется определить значение понятия «интересное», для меня лично, вот сейчас, второго августа две тысячи восемнадцатого года. Для чего следует побродить вдоль полок, поскользить взглядом по корешкам, некоторые потрогать руками, но, главное, не открывать книжки, только думать о них – причем, в категориях определенного исторического периода, культурной принадлежности и моей персональной истории. И вот что получается. Скажем, все античное – Вергилий, Петроний, Катулл, Плутарх, почтенные Платон с Аристотелем, милый рассказчик пустяков Авл Геллий – куплено в юности и в начале молодости. Горизонты тогда были сильно дальше, времени впереди навалом, казалось, прочесть можно все или почти все, к тому же – мы ведь серьезные люди, не так ли? – читать следует согласно системе, хронологически двигаясь от древности к нашему времени. Понятно, что ничего толком из этого не вышло и не могло выйти. Апулея с Петронием, того же Авла Геллия из любопытства (и из соображений разного внелитературного свойства) еще успел проглотить, когда книги глотались, а не читались, а с прочими вышла незадача. Остальные либо попали в разряд «нужных» – по моей тогдашней медиевистической надобности и Вергилия изучить пришлось, и даже кое-что из Аристотеля, не говоря о Плутархе, – либо так и стоят немым укором. Мол, что же ты, Кобрин? Не стыдно ли тебе? Стыдно. Но дело в том, что и горизонт становится ближе, и небо тоже, как пел известно кто. А в перспективе уже не столь теперь отдаленного нырка в темный омут Ничто энтузиазм по поводу нечитанных Сенеки или Аристофана пропадает. Его можно, конечно, имитировать, но зачем? Его можно заставить появиться, энтузиазм, родить его в муках, но вот мук уже не шибко хочется. Собственно, та же история и с прочей литературой, примерно до Вольтера, что ли – с небольшим, конечно, исключением для самых своих, кровных, которые капиллярами прошили мою ментальную плоть. Да, конечно, Монтень. Ну так он в первую очередь и совершил торжественный переезд в Гризинькалнс.
А дальше, со времен правления Людовика XV и Фридриха Великого, идет действительно интересное и даже многое непрочитанное, заканчиваясь примерно на пятидесятых – начале шестидесятых прошлого века, на последних отличных романах Набокова и еще не совсем усталых рассказах Борхеса. И, конечно, здесь опять исключения, представленные пассажирами того самого контейнера, что прибыл из Лондона в Ригу в самом конце февраля 2018-го: Леон Богданов, Музиль, Калассо, кое-кто еще, но их совсем немного. Но в промежутке между Просвещением и поздним модернизмом я останусь, наверное, навсегда. Он – «мой», причем даже в мелких деталях, в ненужных подробностях и проч. Почему? Сказать сложно, ну нет, легко, только уточнять замучаешься. А если в общем, то вот так примерно: это период, когда появилось и развилось то, чем и в чем я – своим сознанием, привычками и даже чувствами с эмоциями – живу. Скажем, с Руссо я на (относительно) короткой ноге, а с Рабле – нет. Дневники и письма Стендаля читал и перечитывал несколько раз; а вот эпистолярий мадам де Севинье – нет. Столько лет мечтал погрузиться в дневники Пипса, и что же? Купил относительно недавно, поклевал и отставил на полку. Но то же самое и с теми, кто по времени пришелся на 54 года моей жизни. З(С)онтаг ужасает тихой истерикой московской интеллигентки. «Бойцовский клуб» путаю с «Гламорамой», не читав ни того, ни другого. Смысл существования Уэльбека равняется для меня смыслу существования Петросяна. Романы всегда меня восхищающей великой P. D. James на фоне даже средних рассказов о Холмсе – упражнения завсегдатаев деревенского воскресного клуба любителей детективов и триллеров. В сделанном в последние полстолетия я вижу только упадок и изнеможение, иногда, впрочем, принимающее забавные формы; их и можно потреблять, чтобы, так сказать, не отстать и держать руку на.
Но при чем здесь Tate Britain и Tate Modern, зачем я все это вдруг болтаю, когда речь о другом, вроде? Ну так нет же, о том самом. Если оставить в стороне очевидное, то что в старой Tate в постоянной экспозиции висит старое британское искусство, а его мало где еще увидишь (да, в общем-то, и вовсе нигде в больших количествах), остается тот факт, что выставки там, не считая финалистов премии Тернера, обычно довольно скучного шоу, умещаются между серединой XIX века и серединой XX. Для меня данный период в истории арта соответствует моему литературному загончику. Соответствие не хронологическое, как видим, хотя загончики отчасти совпадают по времени, а социокультурное. Это время встречи искусства с рынком, с демократическим потребителем, и его, искусства, действия по данному поводу, маневры, тактики, стратегии избегания, приятия, частичного избегания, частичного принятия, просто принятия к сведению, эскапизма уже полного и проч. Грубо говоря, время, когда буржуа уже может заказать свой портрет художнику, или там портрет своего загородного дома, или своей семьи, или своей содержанки, а люди победнее либо заказывают фотографии, либо сами фотографируют. Возникает сначала богема, потом декаденты, потом авангард и подполье, в общем, всё, без чего я не признаю историческое время за таковое. На Западе, конечно, только о нем я веду речь. Ну и доступность арта тут важна, его степень, для, что называется, «масс». До середины XIX века доступность эта весьма мала, почти отсутствует, за пределами народного искусства и церкви. С начала 1970-х и особенно сейчас – доступно все, сколько хочешь, только радости это не приносит, одну девальвацию и равнодушие. Перед нами новая ситуация, с которой следует работать, ее обдумывать, делать выводы, двигаться дальше… но… пусть это буду не я и пусть это будет не для меня… См. рассуждения выше об иссякании энтузиазма в определенном возрасте. Так что я уж лучше останусь там, где я есть, рискуя оказаться старомодным. Что делать. Лондонский магазин винтажа, возле которого я прожил четыре с лишним года, называется Beyond Retro.
Отсюда и – отчасти – предпочтение, оказываемое мною Tate Britain перед Tate Modern. Диавол, конечно, в деталях, они многое пояснили бы в моем винтажном безумии, скажем, что не выношу импрессионистов, что Давида и Энгра из как бы «не моего времени» решительно предпочту любому Ренуару, а Тернера, даже академического, любому прерафаэлиту, что люблю китчевый ориентализм, обожаю Верещагина, тепло отношусь к Семирадскому (ах-ах), русский авангард не вижу в упор, зато готов, нацепив очки, разглядывать каждую мелочь в коллажах Швиттерса или загогулину в графике Кати Кольвиц. Ну это уже персональное сумасшествие, не так ли?
Насчет Швиттерса не помню, но кое-кто из Дада представлено на выставке в Tate Britain, куда я на днях съездил. И, конечно, была Кольвиц, она там одна из лучших. Выставка посвящена европейскому искусству после Первой мировой, даже, пожалуй, так: искусству Первой мировой и искусству, сделанному под влиянием Первой мировой. Насчет влияния довольно спорно в некоторых случаях, но это не так уж важно; сколько кураторов, столько концепций, что ли. Называется все это Aftermath, что не совсем точно, учитывая первые два зала, причем отличные. Оба имеют в названии слово Remembrance, но память, воспоминание начинает происходить не после события, а во время него. Будто Первая мировая отчасти уже в ходе себя так всем надоела, что ее принялись вспоминать за пару лет до конца, надеясь, наверное, что это как-то приблизит мир. Увы, не приблизило. Память, как и арт, вообще ничего не приближает и не отдаляет; в данном случае, не случись революции в России и одновременного вступления Штатов в войну, так бы они все и сидели в окопах еще непонятно сколько лет, ниже пояса в грязи и дерьме, выше пояса – в иприте. В любом случае, по-человечески понятное стремление.
Художники, кажется, впервые (раньше такого не припомню, кроме Верещагина) рисуют не победные атаки и героические смерти рядового, офицерского состава и генералитета, а ужасные запустевшие поля медлительных мясорубок, покосившиеся столбы с колючей проволокой, какие-то мелкие и средние анатомические детали мертвых тел. И это художники, официально нанятые воспевать героизм и все такое! Да, это была странная война, чудовищная и непонятная уму.
И любопытно, как справляются с этой новой реальностью разные художники с разной выучкой и подходами. Скажем, Феликс Валлотон, на сто процентов состоящий из фин-де-сьекля, он рисует безмятежные огромные поля, зеленые, то ли поздняя весна, то ли раннее лето, поля, похожие на виноградники, но это не виноградники, а массовые свеженькие кладбища на местах боев. Кресты аккуратными рядами, как кусты; виноградники смерти. А вот англичанин, лет на десять моложе Валлотона, Charles Sims рисует пейзаж запустения и смерти (картина так и называется, The Old German Front Line. Arras, 1916), но уже по-другому, мистически, чуть ли не в духе пейзажей Рериха. Здесь индивидуальной смерти нет, местность под Аррасом, нарисованная через месяц-другой после того, как на данном клочке земли погибли несколько сот тысяч человек – безо всякой цели, кстати, – она будто поле битвы при Курукшерте, не хватает только фельдмаршала сэра Дугласа Хейга в роли Арджуны, а британского премьера Асквита – в качестве Кришны. Или наоборот? Черт знает. Но единственное, что можно сказать, глядя на это прекрасное запустение смерти, точнее – на прекрасную пустоту поля смерти, это: «Кому суждено убивать, тот будет убивать, кому суждено быть убитым, будет убит». И никаких рассуждений более. Воистину, чистая Бхагаватгита.
Еще раз: война идет, а ее уже заранее помнят, выстраивают стратегии воспоминания. Здесь высокий арт проиграл жизни, коммерческому арту, просто «культуре», причем массовой. Во втором зале (Remembrance: War Memorial and Society) – милейшие штуки, путеводители по местам боев и разрушений, выпущенные во Франции (в т.ч. мишленовские) и Германии, опять-таки, до 1918 года. Так сказать, два в одном, вот война, а вот ее разрушения. Купите брошюрку с иллюстрациями и сгоняйте полюбоваться на месте, если военная полиция, конечно, пустит. А можно и не ездить, просто полистать эти чудесные фото с изуродованными соборами и изрытыми взрывами полями. Жуткая штука, надо сказать. Почище любых художественных отражений отвратительной морды войны.
Отражений всякого рода на выставке было полно; в основном, это отличное искусство. Многое очевидно, скажем, экспрессионисты, вроде Георга Гросса, и те же самые дадаисты. Да, тут понятно. Но непонятно другое: отчего мне как-то интереснее оказалось не это. В зале Traces of War. Wounded Soldiers, как понятно из названия, речь идет об изуродованных на войне человеческих телах. Тема известная, те же экспрессионисты использовали увечья в качестве приема своего искусства и как метафору своей современности, начавшейся – в их случае – либо с призыва в армию в первый-второй год войны, либо с закоса от этого призыва (но тут преуспели более шустрые дадаисты, кажется). Любопытно, что эта современность – еще раз, их современность – кончилась как минимум в середине тридцатых, когда увечными стали не отдельные (пусть и многочисленные) несчастные инвалиды Первой мировой, а все общество. С этим – социальным – уродством такими художественными методами не справиться; ну не рисовать же карикатуры на Гитлера или на лавочника-нацика (хотя рисовали, конечно)? Какой смысл? Для кого эта карикатура – если не для внешнего потребления – может быть предназначена? Ну не для того же лавочника? И тут в дело вступает… ну, условно назовем его «реализмом». Да, реализм. Гросс и другие рисовали тела, искалеченные конкретной войной – и то, как эти тела существуют в конкретных послевоенных обстоятельствах конкретной страны (Германии). Получилось сильно. А вот вполне традиционный, следующий Натуре, британец Henry Tonks (1862–1937) просто сделал серию подробных графических портретов изуродованных ранами лиц солдат и офицеров. И странным образом история отступает на второй план, хотя, конечно, по манере рисунка можно определить примерно, когда именно это сделано. Но она отступает, история. А место ее занимает… ну, назовем это «антропологической солидарностью». Искалеченные несчастные люди, но выжившие. Осколок, снесший подбородок вот этого человека, мог быть частью снаряда Первой мировой, а мог и времен австро-прусской войны, или Крымской, а то и раньше (или позже). Ловушка, в которую попадаем мы, говоря или думая о Первой мировой – мол, это Первая мировая, это первая империалистическая, эта первая в череде двух катастроф XX века и так далее, – исчезает, история отпускает нас на волю. На Aftermath экспрессионисты оказались замурованными в своем времени, даже музейными, а скромный реалист Tonks сегодня живее всех живых. Стоит закрыть учебник по истории художественного модернизма XX века, и перспектива/ретроспектива решительно меняется.
3 августа 2018 года
Никак Aftermath из головы не идет, особенно зал Remembrance: War Memorial and Society. Помню, ходил по нему, глядел на официозные работы про вечную память героям и похороны Неизвестного солдата (Rememberance же!) с участием всяких политиков в высоких, по тогдашней моде, цилиндрах, и недоумевал: отчего выжившие исстрадавшиеся люди не перебили всю эту сволочь, пославшую их друг друга убивать только по той причине, что некий юный идиотический серб в балканской дыре застрелил немолодого австрийского кронпринца.
И, конечно, не сюрреализм и не экспрессионизм – главный ответ на Первую мировую, а Дада. Разметанный в мусор мир, из которого пытаются сложить что-то новое, пусть придурошное, но другое.
4 августа 2018 года
Лечу наконец в Ригу, опять с мучениями, как в июле из Риги в Нижний летел, а потом из Москвы в Лондон. Скотовозка Ryanair опять задержалась, народ на низком старте, табло в Стэнстеде отражает реальность расписания примерно, как твиты Трампа отражают реальность общеизвестных фактов жизни. Наконец упаковались, залез к окну, принялся читать отложенную уже пару месяцев Duty Free Art Hito Steyerl. Купил, так как понравился подзаголовок Art in the Age of Planetary Civil War. Вокруг орут дети, воняют тошнотворные подогретые сэндвичи, которые мрачные стюардессы впаривают одуревшим пассажирам. За окном – прекрасное еще не сильно вечернее небо над благословенной Европой, которую я все-таки люблю больше всего прочего. Вдруг вспомнил, что когда 12 дней назад прилетел в Хитроу и добирался в Долстон на метро, рядом со мной в вагоне сидел Питер Гринуэй. Нет, правда, он собственной персоной. Загорелое лицо благородного карточного шулера, зачесанные назад седые волосы, синий костюм в полоску (а ведь жара была!), ну и слегка осипший мягкий голос, конечно. Ехал с величественной немолодой дамой; окончательным доказательством подлинности персоны режиссера «Отсчета утопленников» стало то, что он разглядывал в телефоне дамы пробы актрис. Миленькие, кстати. Что же мне было делать? Не просить же автограф, не Том Круз все-таки. И я спросил: «Скажите, Вы – Питер Гринуэй?» – «Возможно, возможно». После паузы Гринуэй не выдержал и сказал, что да, он. Я выразил удовольствие от возможности лицезреть художника, чьи работы оказали на меня такое большое и все такое. Художник удовлетворенно промычал нечто благодушное, мол, спасибо. После чего мы молча тряслись в метро еще минут сорок, каждый занимаясь своим делом: Гринуэй разговаривал со спутницей, я отвечал на скопившиеся за долгий перелет имейлы.
Кстати, автограф Гринуэя у меня есть, точнее, был, я его куда-то затерял. Лет 10 назад он привозил в Прагу свой фильм про Рембрандта, очень красивый и очень плохой, как у него уже давно принято. После показа была беседа с режиссером, дело происходило в «Люцерне», на втором этаже. Там из-за кулис можно пробраться в знаменитое кафе и хлебнуть пльзеньского. Что Гринуэй тайком и попытался совершить, а я его подловил. Путаясь в потертых бархатных портьерах, как Набоков с Буниным путались с шарфом в знаменитой сцене в «Других берегах», я протянул Гринуэю билет на мероприятие и ручку, он молча подписал – и мы продолжили свой путь каждый сам по себе, он к пльзеньскому, я к выходу на Вацлавак.
12 августа 2018 года
Все-таки обожаю ABBA. Певучие продавщицы галантерейного магазина и их бойфренды из музучилища. Европейская поп-музыка должна быть только такой – социально-узнаваемой, социалистической, живущей в муниципальном жилье на пособие, мечтающей о казино из фильма про Джеймса Бонда (So I must leave, I’ll have to go to Las Vegas or Monaco). Длинные патлы, клеш, целлюлитные преддепилятивные тела, тонкая проработанная обстоятельная психология. Бергман семидесятых-восьмидесятых.
Интересно, кому это все мешало? (Вопрос риторический.)
14 августа 2018 года
Арета Франклин умирает – и, наверное, увы, скоро умрет. С ней умрет возможность прямого высказывания в поп-музыке, собственно, в поп-культуре вообще. Это связано, конечно, с местом черной музыки в шестидесятые и семидесятые, пока ее не «открыли» белые, тут же прикарманив (единственным, кто сделал по-иному, кто сыграл на чужом поле? – и как сыграл! – был Боуи с Young Americans. Он не чужую культуру тырил, он в нее путешествовал, пытаясь понять; что мог – принял, прожил, запустил себе в кровь, как дельфинов стаю. Все-таки после 1975-го без соула и фанка Боуи – хорошего, настоящего Боуи – не было. Остальные тырили; кто цинично, кто под благородным прикидом).
Да, но Арета. Для меня она навсегда в заляпанном фартуке, в забегаловке из Blues Brothers, верещит на своего мужика, мол, чё, вообще, дурак, соображаешь, что говоришь? Respect! Freedom! Свобода, она такая бывает, и только такая, а не на картине Делакруа или в стихотворении Хлебникова. «Свобода приходит нагая»… Ну у кого хватит ума прийти в столовку голым??? Что скажет санэпидстанция?
И, конечно, Арета в той самой, самой известной спетой ею песне, где она молится за явно все того же своего обобщенного непутевого мужика. Еще глаза не накрасила, платье не надела, или уже за автобусом бежит – она молится. Не на него, а за него, чтобы тоже любил, а не бог весть что. Это любовь секретарши или продавщицы; но кто сказал, что любовь писательницы, миллионерши или девушки из Pussy Riot лучше? Там, в этой песни, не Арета, там Молли Блум поет, это «да» миру.
В то же время это искусство, большое настоящее искусство, не французский шансон и не Зыкина с Земфирой. Оно обращено к нам, практически вне зависимости от социального статуса; его основа – антропологическая солидарность, и связанное с нею понимание «любви» как глубоко социального феномена, но (в природе своей) нарушающего любые социальные установления. Только черная музыка с ее опытом чудовищного социального угнетения могла понять это; что за социальным есть что-то другое; но и первое, и второе – настоящее, никакого романтизма. Крашу губки и молюсь за тебя. Ничего кроме зависти это не вызывает, надо сказать.
P.S. Вышесказанное нисколько не отменяет, что слова I Say a Little Prayer написал австрийский еврей Хэл Дэвид, сочинивший чуть позже невыносимую Raindrops Keep Fallin’ On My Head для Butch Cassidy and the Sundance Kid. Но, во-первых, тут важны не столько сами слова, сколько кто и как их произносит/поет. Во-вторых, в том, что касается прошлого века, австрийские (и многие прочие) евреи мало отличаются от американских чернокожих. Перефразируя одну советскую песню, все они (мы) жизнь учили не по учебникам.
P.P.S. Версия Дион Уорвик великая, настоящее искусство, не меньше – но и не больше. Типа джаза, что ли.
P.P.P.S. Никогда Боуи не был так счастлив, как в 1975-м, записываясь с Лютером Вандроссом и Авой Черри, не говоря уже о восемнадцатилетнем Карлосе Аломаре, которого он только взял к себе ритм-гитаристом. Аломар играл с ним потом лет двадцать; он застал и Гейл Энн Дорси, восхитительную чернокожую лысую басистку, тоже из Филадельфии. Нет, Боуи не апроприировал, он восхищался и любил эту музыку и этих людей. Насколько Боуи мог любить, конечно.
16 августа 2018 года
Она умерла.
17 августа 2018 года
Оранжевый клоун опять отличился: пока все оплакивали АФ, он процедил несколько обычных слов, но добавил, мол, «она работала на меня».
Иногда хочется верить в существование Ада, не сведенборгского, а самого обычного, дантового.
(Позже.) Был на одном образовательном мероприятии и услышал словосочетание «бизнес-инкубатор». Убежал блевать в туалет; кажется, блевал кровью, не смог разглядеть, так как пришлось снять очки, чтобы не забрызгать. Но потом пришел в себя и ругал себя за излишнюю нежность, подумаешь, ну «бизнес-инкубатор», ну чем он хуже «арт-резиденции»? Вообще, изо всего можно делать искусство, изо всего.
22 августа 2018 года
В Duty Free Art, книге слабой, но любопытной и даже интересной, то есть такой, какие я люблю, есть глава о подметных имейлах, скаме (scum), а не спаме (о нем тоже есть там глава) – о нигерийских письмах любви, наследства и жертв обывательских драм, взывающих о помощи. Hito Steyerl рассказывает разные истории, приводит теоретические и исторические аналогии разной степени убедительности, все как бы неплохо, но могло бы быть лучше написано – и глубже продумано. Впрочем, для сборника случайных текстов и выступлений, который прикидывается «книгой эссе» и вообще просто «книгой», нормально. Я сам грешил (и отчасти грешу) тем же. Но вот дальше Steyerl переходит к рассуждениям о бригадах чернокожих писателей, фотошоперов, обладателей сладких телефонных голосов – точнее даже, о целой армии, что стоит за индустрией скама. Она пытается разобраться в социальных причинах: почему именно Нигерия, а не, скажем, Кения или ЮАР? Падение цен на нефть, социальная нестабильность, да, но я бы добавил к этому еще и неплохую систему образования на английском. Без этого письма не напишешь; уж тем более сотен миллионов писем (даже если иметь в виду copy paste). На этом месте мысли мои перенеслись в Россию, где армии, орды, фабрики троллей заливают электронным говном собственную страну и мир. Размах их деятельности возбуждает и удивляет. Во-первых, не в том ли то самое Великое Предназначение России, о котором говорили русские религиозные философы? Не в том ли состоит знаменитый Русский Урок Миру? Во-вторых, и более приземленно. Это как в Нигерии. Неплохое образование; хоть и не на английском, но худо-бедно пишут же, значит, учили их неплохо (попробуй заставить толпу французов, даже за деньги, каждый день по-бырому выдавать тексты на английском! ха). И последний довод: не пример ли сие ожидаемой давно Перемены Участи России, ставшей из самой читающей страны – самой пишущей? Не является ли задрот с «фабрики троллей» подлинным наследником советского интеллигента, любителя Стругацких?
26 августа 2018 года
Гринуэй с Бергманом никак меня не отпустят. На Riboca (там, где биофак был) – отличная штука Diana Leonek: Centre of Living Things. Органика, растущая на неорганике, мох, растущий на пластике, то, что обречено на природное разложение, – на том, что не разлагается (по крайней мере, с такой скоростью). Совмещение разложения и скорости – конечно, тема ZOO Гринуэя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?