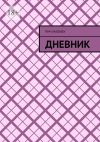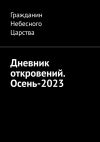Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Oк, назовем это «фантомный модернизм». Все очень классно придумано, модернизм воспроизведен почти безукоризненно, но вопрос остается: как к этому относиться – и относиться ли вообще как-нибудь? С другой стороны, а кто тебя, глупец, вообще просил отношение свое проявлять или даже его иметь? Ну, скажем, вот есть арт, а вот есть ты, и ничего между вами не возникает. Разве плохо?
Хотя, конечно, возникает, хотя бы на уровне сравнений, узнавания и даже генеалогий. Скажем, в одной комнате был проект Диона Tate Thames Dig (1999), сам по себе забавный. О да, именно, забавный и занятный, я же и говорю об этом… В 1999-м на южном берегу Темзы, на Millbank перестраивали закрытую электростанцию в Tate Modern. Дион попросился покопаться на стройплощадке; бросил клич, навербовал волонтеров (тинейджеров и людей сильно немолодых; наверное, в возрастной выборке был какой-то специальный умысел, которого я не просек), и они устроили археологические раскопки этого места. Там когда-то была тюрьма, рядом питейные заведения, бордели, а по соседству театр Globe, тот самый, «шекспировский». Соответственно, и находки были по большей части современные. Вроде пластиковых бутылок и прочего постиндустриального мусорка, но вот на втором месте шли вещи уже эпохи Нового времени, высокой модерности. Думаю, Марк Дион испытывал особый драйв: он, получая от своих копателей целые корзины битого винного стекла, глиняных курительных трубочек, монеток и даже ножей и револьверных пуль, как бы подключался ко временам разом Уильяма Блейка, Диккенса, Джека Потрошителя (хотя тот и орудовал ровно напротив, через реку, в Whitechapel, где сейчас галерея) и даже братьев Крэй, которые царствовали в Ист-Энде, а в Whitechapel один из них пристрелил другого гангстера в пабе. Паб существует до сих пор, называется The Blind Beggar, я там пару раз был, местные пьяницы с гордостью показывают отметину от пули, выпущенной Ронни Крэем в своего друга детства, такого же бандита Джорджа Корнелла. Это случилось 9 марта 1966 года; Корнелл и его приятель Элби Вудс зашли в The Blind Beggar, взяли по пинте и устроились у входной двери. Около половины девятого вечера в пабе появились Ронни Крэй со своим подручным Яном Барри; они подошли к Корнеллу и Вудсу; Корнелл успел поприветствовать старину Ронни, мол, кого мы видим, такие люди – и без охраны, в этот самый момент Барри пару раз выстрелил в воздух, а Крэй навел на друга своего детства «Люгер» и спокойно выпустил пулю тому в лоб. После чего Ронни и Ян без особой спешки покинули помещение The Blind Beggar, сели в поджидавший их автомобиль и скрылись. Пуля прошла сквозь голову Корнелла и оставила отметину на декоративной деревянной колонне, у которой Джордж и Элби попивали эль. Именно ее и показывают сегодня зевакам вроде меня.
Да, Дион явно пытался подключиться к драйву времен ранней и высокой модерности, чтобы потом этот драйв классифицировать и выставить на всеобщее обозрение – но уже в мертвом виде. Так и вышло. В разделе Tate Thames Dig – шкафы с идеально разложенными, идеально классифицированными ненужностями: вот пластиковые бутылки, вот осколки стекла, вот предметы бытового обихода, вот кости городских животных, вот черепа городских животных; а если выдвинуть ящички, – все же как положено в хорошем археологическом музее или «кабинете диковинок»! – то там безукоризненно выстроенные ряды и зубов, и курительных трубок, и ножей, и пуль. И верно, все как я люблю, но не радует.
Отчего же? Наверное, оттого что тут намеренно убили историю, разложив выкопанные вещи по полочкам прекрасного деревянного шкафа согласно принципу визуального, попросту говоря, красоты. Типа красиво. Или Красоты, понятой как нечто, лишенное контекста и истории. Но диавол в детали, точнее, во всех этих деталях: делая арт-объект как бы дезинфицированный от истории, получили эпигонскую реплику, пусть красивую, но все же определенных историко-культурных периодов, от антиквариев и коллекционеров диковинок XVII–XVIII веков до ослепительно-идеальных шкафов Дэмьена Херста с хирургическими инструментами. Диону не хватило наглости Херста, его циничной сосредоточенности на форме. Дион тепл – не холоден и не горяч.
И он, конечно, воплощенный нынешний западный цайгайст. Скажем, вот его коллекции, классификации, викторианские издания великих натуралистов и естествоиспытателей и проч. А вот другой бастион штаб-квартиры Диона – раздел Bureau of the Centre for the Study of Surrealism and its Legacy (2005). Нечто вроде реконструкции знаменитой конторы сюрреалистов в Париже 1924-го, которую открыли для посещения публики, жаждущей получить ответы на вопросы о новом революционном арт-течении.
Здесь уж точно сошелся концептуализм (сама идея реконструкции) и сюрреализм (то, что реконструируется), но сошлись они на странной почве. Сюрреалистический офис с его буржуазной мебелью, с обоями на стенах, увиденный сквозь стекло конторской cubicle, наводит на мысль о чем угодно, но только не о глубоком заныре в подсознательное, истинно-реальное, проповедовавшемся Бретоном и его шайкой арт-маньяков. Все очень буржуазно. И хотя мебель там в стиле ар-деко, то есть современная единственному выпуску журнала «Сюрреалист» (октябрь 1924-го), но эта современность иллюзорная: ар-деко отсылает к более раннему ар-нуво, а ар-нуво – к неоготике, прерафаэлитам и прочим романтическим цветкам с викторианской клумбы. И к викторианству как таковому. Тут же вот что интересно: несмотря на свой ультрасовременный характер, сюрреализм помешан на прошлом, будучи по сути ретроспективной художественной интерпретацией прошедших эпох – см. знаменитый список «сюрреалистов до сюрреализма»; пример тому – коллажи Макса Эрнста, на изготовление которых ушло немало визуального материала времен премьерств Дизраэли и Пальмерстона. Дион же реконструирует – в нужном ему деисторизирующем ключе – сюрреализм; получается, что он работает с материалом, который можно назвать «викторианством в квадрате». Из эпохи оптимистической веры в науку, технический прогресс и прогресс человечества вообще – если, конечно, оно встанет на только что проложенные чугунные рельсы капитализма – Марк Дион с помощью остраняющего инструментария сюрреалистов мастерит, по сути, безупречный надгробный памятник модерности. Мне вот это как раз не нравится; я-то считаю, что мы находимся в модерности, живем ей, дышим, она у нас в крови. Запускать кладбищенских червяков себе под кожу не хочется. Думаю, братья Ронни и Реджи Крэй согласились бы со мной в данном пункте.
Верить художникам нельзя никогда, конечно. Сам Дион сказал, вроде, банальность: «Художник должен сопротивляться ностальгии… Когда мы отсылаем к прошлому, то делаем это не ради „старого доброго времени“. Наше отношение к прошлому историческое, а не мифическое». Чтобы лучше скрыть уловку, нужно зарыть ее в ворохе правды. Дион не про ностальгию, это верно. Но он не то что не «про историю» (простите за каламбур, он не pro-history), он против нее – хотя, конечно, вовсе не ради торжества мифологического, отнюдь. Все это ради безмятежного забавного торжества смерти, упакованной в прекрасные старинные шкафы. И тут возвращается зебальдовская тема экзотических животных, навсегда оставшихся на экранах научно-популярных телепрограмм о природе, но хватит болтать.
4 мая 2018 года
В Гризинькалнсе уже почти лето, солнце, смотрю из окна, как местные алкоголики деловито курсируют по пустой улице подо мною, жмурясь от ярких лучей, снискивая себе стакан насущный. Листики еще нежнейшие, небо, облака – те самые, Балтики, воспетые Бродским, и вообще такое ощущение, что всё впереди и много что будет еще. Наверное, это Леон Богданов всплыл в памяти, ощущение при перечтении его заметок: было же такое, никуда не торопиться, сидеть на кухне, попивать чаёк, покуривать всякое разное, слушать радионовости о землетрясениях, почитывать свежую книжку, изданную «Восточной литературой», к примеру, корейские средневековые повести. Вещи сейчас другие, да и не курю, но протяженность пространства-времени вдруг стало то же. Лениво переписываюсь в WeChat с китайскими коллегами, сообщают, что скучают и что студенты тоже скучают. Отвечаю им тем же. Сейчас, конечно бы, сычуаньской еды, огненной, какого-нибудь «бабушкиного тофу» или печеных баклажанов в зеленом перце и масле. Как вернулся в Европу, любая здешняя пища кажется безвкусной. Чаще всего это на самом деле так. Безвкусная и пластиковая. С такой едой непонятно, зачем вообще жить.
Ну а вместо корейских повестей у меня опять Зебальд. Раньше хоть и замечал тихий беспощадный юмор англо-немца, но тут стали проступать детали, черты, как при проявлении фотоснимка (сомнительная, впрочем, метафора, некогда избитая, сейчас забытая, ибо никто не помнит уже, что такое «проявлять фотоснимки». Бедная-бедная метафора: сначала избили, потом, избитую, бросили и забыли). Скажем, Зебальд пишет: некий садовник, что ли, в Сомерлейтоне рассказывает, как он в детстве, в 1944–45-м, наблюдал волны самолетов, направляющихся с недалеко расположенного аэродрома бомбить Германию. И что однажды он видел, как с задания возвращались два американских истребителя, затеяли в воздухе игру в догонялки, или жмурки, черт их разберет, зацепились крыльями и рухнули в озеро. Не взрывом, но всплеском все дело кончилось. Так вот, продолжал нынешний садовник Сомерлейтона свои воспоминания, через пару лет самолеты вытащили из воды вместе с тем, что осталось от пилотов. Американские летчики были: Russell P. Judd from Versailles, Kentucky и Louis S. Davies from Athens, Georgia. Так выглядит топонимика упадка некогда великой цивилизации: счастливо избежав гитлеровских зениток, два воина заигрались и убили друг друга, один из Версаля, другой из Афин. Только Версаль расположен нынче в Кентукки, а Афины – в Джорджии. Ничего уж тут не поделаешь, остается предаваться меланхолии.
Ну и остается сидеть у окна, следить маршруты гризинькалнских алкоголиков и вспоминать, что недавно было. Как обычно, много выставок, часть которых – по разным причинам – смотрел бегло, невнимательно, для галочки или просто в силу стечения обстоятельств. Скажем, дрейфуя по разным бессмысленным галереям в районе Great Portland Street, что в Вест-Энде, между Мэрилебоном и Фицровией, как это было чуть меньше месяца назад. Мы с Т. обошли несколько мест, не шибко заинтересованно, хотя в конце концов попали на занятную выставку. Но то в финале, а пока в абсолютно пустой Pilar Corrias, где на стреме сидели две китаянки, а в офисе в дальней комнате – местные мальчики и девочки с маками, уступившие китаянкам свои места на какое-то время, там была, понятное дело, китайская выставка. На ее беглый осмотр ушло минут пять, не больше, фото и картины с размытыми огромными домами, или в этом роде, короче, урбанистическое, про грусть, но красивую, перенаселенных городов нашего постиндустриального мира, как-то так. На выходе мне всучили брошюрку, которую я, уже приехав в Ригу, выкопал из недр чемодана и изучил от скуки. Выяснилось, что выставка называется Witness, и, кстати, она закрывается вот прямо сейчас, когда я стучу по клавишам в солнечном рабочем некогда районе Риги, 4 мая. Значит, посмотреть мне ее уже по-нормальному не удастся никогда. Остается перечитать пресс-релиз, в котором говорится, что Witness – про бесчеловечность новых китайских городов и свежевозведенных девелоперами районов, что раньше человечность присутствовала – когда дома были старые, грязные, полуразвалившиеся (это я уже сам додумал, точнее, довспоминал, ведь год назад я сам это лицезрел, оказавшись в Чэнду), а нынче нет. Что художники Chen Wei, Cui Jie, Hao Jingban, Zhang Ruyi и демонстрируют.
Кстати, на репродукциях они мне даже понравились, что говорит о многом, о нашем смешном времени, когда копии явно лучше оригиналов, которые тоже, впрочем, копии. Но истинно тронул меня сопровождающий текст, а не картинки. Там есть пассаж о Hao Jingban (кстати, ему всего 33 года), о том, что он целых шесть лет работал над Ballroom Project, предполагающим видеодокументирование разных сторон китайской городской «танцевальной культуры». Переведу его здесь: «Появившись в Китае в „республиканскую эпоху“ (1912–1949), бальные танцы были весьма популярны среди представителей элит, после чего они уже не пользовались благосклонностью властей в течение нескольких десятилетий после образования Китайской Народной Республики под руководством председателя Мао. С конца 1970-х – начала 1980-х, особенно в ходе периода Реформ и Открытия Китая, этот вид танца возродился – уже на городских площадях, прочих публичных местах под открытым небом, в парках и танцзалах». Всё так. Я вспомнил, как ровно год назад наблюдал вальсирующие пары немолодых китайских женщин (да, именно таков гендерный состав коллективно танцующих в этой стране) в нарядных костюмах, впрочем, не слишком праздничных, просто ярких и цветастых, на небольшой площади у жилого комплекса, что расположен у моего кампуса. Я тогда ничего про «танцевальную культуру» не знал, оттого просто наслаждался, наблюдая, как другие наслаждаются музыкой и своим движением под нее. Потом много раз все это видел – и на улицах, и в парках, везде, как и написано в пресс-релизе выставки Witness, только в танцзалы, конечно, не ходил. И мне это ужасно нравилось, хотя и музыка чудовищная, китаизированные вальсочки и вальсифицированное диско 1980-х, и общий мещанский дух был бы невыносим, происходи дело на моей исторической Р., но в других землях зрелище человеческой радости и довольства меня радует и наполняет довольством. Интересно, есть ли сие задача искусства? Если нет, то задача чего? Вот, скажем, смотрю я на алкоголиков, снующих подо мной, и некоторые из них довольны. Необходимо ли мне разделить их чувства? И сделать их, по сути, эстетическими? Вот вопрос.
13 мая 2018 года
Чудом нашел в Rimi киноа и вот варю его сейчас, помешивая параллельно овощи в сковородке. Веганам в Риге не очень сладко, точнее, не очень сытно – кроме того, что по недоразумению в том же Rimi называют «хумусом», да пересушенного фалафеля у «пакистанцев» по божеской цене и не найти ничего. Где-то наткнулся на тофу, оно там не из чистого золота, но из серебра – увы, не могу никак вспомнить, где. Это не жалобы, нет, антропологические наблюдения за экономико-кулинарными традициями одной балтийской страны.
Так вот, варю киноа, потряхиваю сковородку с овощами, усердно посыпаю это дело приправами и гималайской солью и думаю о Дэвиде Линче. О том, что лучший его фильм – это, конечно, двадцатиминутный видеоролик о том, как он готовит киноа с брокколи. Собственно, делает Линч почти то же самое, что и я сейчас, даже кое-что неправильно – киноа надо промыть перед варкой, иначе горчит, – но вот мои кухонные манипуляции есть кухонные манипуляции стареющего джентльмена с покушениями на изыск, а его – произведение искусства. Линч берет кастрюлю, наливает воду, насыпает крупу, зажигает огонь и проч., но, в отличие от меня, комментирует свои действия, сопровождает видео закадровым текстом, что, учитывая его зловещий каркающий голос с густым американским акцентом, налегающим на «ar», превращает невинную стряпню в натуральный триллер с саспенсом. Причем, как у Линча обычно, как бы и непонятно, в чем причина зловещести, что на самом деле происходит и особенно чего жуткого ждать, но уж если верить Гамлету с его «time is out of joint», то вывих времени происходит именно здесь, на режиссеровой кухне, то ли в кастрюле с киноа, то ли в кастрюле с брокколи. Вот так мы, веганы, и погубим этот мир, не взрывом, но бульком подоспевшей каши.
Здесь, конечно, главное не в веганах и даже не в киноа, которое я случайно раздобыл – вообще-то я его не шибко люблю, если честно, с кускусом не сравнить, или там с булгуром, даже гречку можно пристойно сделать, – а в том, что нет у искусства никакого «содержания», ну нет же, черт возьми. Режиссер кухарствует плюс разглагольствует, оператор снимает, потом режиссер монтирует – и всё. Ни тебе про экзистеницию, ни про любовь, ни про права человека с политикой. Чистый арт, чистый. Как он делается, бог его знает. Отмечу только одно: особую жуть видео придает то, что Линч в своем комментарии ничего не сочиняет, собственно, не отходит ни на миллиметр от своих действий, просто называет, мол, беру замечательную кастрюлю с медным дном, насыпаю крупу, наливаю отличную чистую воду из крана, зажигаю превосходный огонь на плите. А ведь такое ощущение, будто он принимается суп из Изабеллы Росселлини варить. Или холодец из Лоры Палмер. Рядом с этим шедевром я бы поставил только ролик, где Луис Бунюэль смешивает dry martini. Там зловещести нет и в помине, там деловитая обыденность, как в немом черно-белом документальном кино, хотя ролик и не немой, и цветной. Вот этим высокий европейский модернизм и отличается от нынешней американской готики: нестрашно, но убойно. Как dry martini по бунюэлевскому рецепту.
Рецепт отличный – и не для скупцов: ополоснув вермутом лед, вермут надо вылить, да, беспощадно вылить в раковину, освободив место для прекрасного чистого прозрачного джина. Употребив аперитив из двух ультрасухих мартини, за обедом можно уже со спокойной совестью распить бутылочку даже не самого великого красного (но и не скверного, умоляю!), скажем, «Кот дю Рон». Отлакировать фруктовым самогоном, вроде того, что в Bolderāja продают. И выйдет настоящий высокий модернизм.
20 мая 2018 года
Ну вот, принц Гарри и Меган Маркл поженились, Элтон Джон важно поприсутствовал на свадьбе, а новых песен ABBA так и не было… И старых тоже. Печаль. Британская монархия – арт-объект, голограмма, пыльная штука на полочке поп-изделий, где-то между Candle in The Wind бровастого Элтона и Wannabe перченых девок времен слогана Cool Britannia (тогда девок, а нынче теток, см. печальную мадам Posh Бекхэм на принцевой свадьбе). Вообще-то, в другой последовательности: сначала ты вся такая Wannabe, а потом раз, поворот колеса Фортуны, парижский туннель, разбитое авто – и уже Элтон Джон поет за упокой твоей нежной души тефлоновую «Свечу на ветру». М-да.
28 мая 2018 года
Разбираю бумажную кучу на столе, выпала открытка из Даугавгривской крепости. Хорошо, что заметил: вещь отличная, дизайн, как часто в этой стране, безукоризненный. Коричневый картон, на нем план крепости XVIII века, почему-то на французском, хотя место публикации – Амстердам. Хотя известное дело: тогда всё полузапретное и сомнительное в Нидерландах печатали. Расцветшая роза бастионов и куртин, медуза графической фортификации, звездный корабль пришельцев из века барокко и века Разума. В какой-то совсем дурацкий мир они прилетели, пришельцы. Но, перефразируя анекдот: что же, время сейчас такое.
Надо будет написать, потом как-нибудь, о Даугавгриве и о строгой опасной красоте старых фортификационных планов и гравюр. О прекрасности схематически изображенной возможности смерти.
1 июня 2018 года
Вернулся из Москвы, раскладываю вещи, из сумки выпала карта, я ее прихватил в отеле. Ничего особенного, карта топографическая, показывает центр, такие обычно лежат на рецепции; но тут смешно, на обложке почти сплошь иероглифы – ведь гостиница называется «Пекин», сталинская высотка рядом с Маяковским. Так уж вышло, не специально, мои китайские приключения ни при чем, жилье заказывала приглашающая сторона. Ну и я об том не пожалел: кажется, в подобных местах никогда не жил. Всякие отели видел в Москве – и как бы новые («Новотель», к примеру, где за завтраком почему-то больше всего средней руки чиновников чичиковского возраста, путешествующих с семейством), и отчасти старые (помню, около Покровки жил в бывшем борделе; профиль заведения поменяли, а вот декор – нет, ходил по вытертым плюшевым коридорам и непонятно отчего вспоминал Куприна; К. Б., которого тоже там поселили, не выдержал и сбежал ночевать к здешнему знакомому, тоже мне, а ведь гусар типа), и какие-то промежуточные. Но «Пекин», ах. Ампир эпохи широченных штанин товарища Лю Шаоци и других китайских товарищей, приехавших навестить мудрого товарища Сталина. Пока рецепционистка искала в компьютере бронь, а портье из бывших ментов устремил сквозь меня безучастный серый взгляд, будучи равно готов и чемодан мой подхватить, буде у меня таковой имелся, и наряд вызвать, буде буянить вздумаю, я бормотал под нос незабвенное:
Москва – Пекин,
Москва – Пекин,
Идут, идут вперед народы
За светлый труд, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Меня окружало именно оно, москва-пекинское: имперский grandeur, состряпанный из ДСП благородной бордовой раскраски, пластиковые цветы на входе в ресторан, собственно, целая из них ярко-кислотная стена с загадочной надписью BAR 2545, зловещий шик средней руки дагестанских гангстеров, утром здесь шведский стол, а ночью неторопливый оттяг совсем не скандинавских плотно стриженных затылков, в холле (я потом выяснил – на каждом этаже) – экраны, на экранах – хроника тех возвышенных лет, когда товарищ Мао и товарищ Лю посещали краснознаменную семихолмовую, а на пересечении улицы Горького и Большой Садовой возводили этот – тоже сильно возвышенный – символ советско-китайской дружбы. «Слышен на Волге голос Янцзы, / Видят китайцы сиянье Кремля». Только уже на следующий день я обратил внимание, что по-английски отель называется по-старому, Peking, а не новомодно – Beijing, все четко, историзм торжествует. Да, а коридоры, длинные коридоры, устланные красной ковровой дорожкой с якобы мандаринским орнаментом, желтые стены над невысокими деревянными панелями под цвет лакировки времен династии Мин, на желтых стенах – картины, темноватые пейзажи то ли под сталинских певцов среднерусской природы, копирующих передвижников, то ли кисти самих сталинских певцов березок, песчаных откосов над неторопливыми реками и шишкинских чащ. Не разберешь. К тому же в коридоре темновато, даже имя автора произведения сложно прочесть. Темные аллеи позднего сталинизма; наверное, сюда водили своих секретарш ширококостные замминистры, не похоти ради, так, снять напряжение, ведь на краю всё, на краю, квартира, дача, «Победа», домработница, всё, стоит неловкое словечко сказать, или расклад сменится в известно каких кабинетах, и конец, и вот ты уже не по коридорам гостиницы «Пекин» ведешь полногрудую Ларису Григорьевну, а это тебя ведут, тащат, потного и измочаленного, по коридору Лубянки, в камеру, после чего понятно что. Пекинская разновидность данного сюжета имеет некоторые собственные – национальные – черты, но, в сущности, все одно. К примеру, тот самый товарищ Лю Шаоци, что в широченных брюках прогуливался по Москве в 1952-м, умер, согласно официальным данным, в тюрьме в1969-м, затравленный хунвейбинами, битый и оплеванный ими десятки раз. И морали тут не обнаружить. Никакой этики, сплошная эстетика.
Заглянул в гугл: оказывается, «Пекин» запустили уже после смерти усатого, при Хрущеве, когда дружба с Китаем потихоньку охлаждалась, строили слишком долго, но переименовывать гостиницу не стали, надеясь, видимо, что Мао, качнувшись влево, качнется вправо. Но насчет коридоров Лубянки мне привиделось не зря, читаю: «Первоначально здание, заложенное в 1939 году на пересечении Садового кольца и планируемой в соответствии с Генпланом 1935 года Ново-Тверской магистрали, предназначалось для размещения Главного управления лагерей НКВД СССР и ведомственной гостиницы при нем. Проект выполнил архитектор Дмитрий Чечулин, занимавшийся с конца 1930-х годов проектированием всего ансамбля площади Маяковского, высотной доминантой которой должно было стать здание НКВД». Вот уж спасибо, поселили, как кур во щи попал. Принюхиваюсь к одежде, вынутой из чемодана – не въелся ли энкэвэдэшный запашок.
И еще забавно: на этой карте, что я утащил из «Пекина», – бодрое приветствие, практически слоган: «Нихао, Москва!» Си-си вам с кисточкой.
Но это все так, лирика. А эпика – она вокруг, Третий Рим, засевший за двумя линиями обороны: Бульварным и Садовым кольцами. Из «Пекина» по этим линиям хорошо гулять, что я и делал, поглядывая по сторонам, прикидывая, каково это все стало и к чему и что жизнь вокруг меня значит – исторически, что ли, или даже в смысле, есть ли эта жизнь уже готовый арт или пока преобладает неокончательность. Иными словами, как выглядит сытый восточноевропейский авторитаризм начала XXI века? Обзавелся ли он «большим стилем»?
Повертев в голове этот вопрос, я оставил его на потом. Меж тем это уже был Страстной, а что там делать, как не осматривать памятники? Первым – понятное дело, почти напротив редакции «Нового мира» – мне встретился Твардовский.
Твардовский, как и положено, страдает. Ну, не страдает, ок, он переживает. Голова его опущена. Руки в карманах плаща, причем левая несколько отведена назад, открывая множество слоев одежды, покрывающей главреда «Нового мира». На Твардовском надето: плащ (или нетолстое пальто), брюки и пиджак, под пиджаком – жилетка, под жилеткой – рубашка с галстуком. Думаю, под рубашкой еще и майка, так тогда носили. Получается пять слоев. И все это, не считая невидимой майки, в складках. Складки у скульпторов В. А. и Д. В. Суровцевых получились знатные: тяжкие, основательные, как честная совписовская проза про жизнь народа. Да, мне Твардовского на этом памятнике жалко – ну за что ему такое наказание после смерти, этот бронзовый кошмар мужского портного старых времен; Твардовский все же другой был человек, другой. И «Теркин» без складок, ни единой. Но тут уж ничего не поделаешь. От словосочетания «„Новый мир“ 1960-х» так становится реалистично и так тягостно, что сам невольно складками покрываешься. Это такой образ «оттепели» и раннего брежневизма у столичной гуманитарной и.: по праву руку закручинившийся о народной судьбинушке Твардовский, по леву резвится бодрый мажор Аксенов. Нет, не В. А. и Д. В. Суровцевы памятник ставили, вся московская интеллигенция вымечтала эту волнуемую ветром истории бронзу.
А чуть дальше сидит Рахманинов; он, наоборот, такой сноб и пижон, нога на ногу, тонкий, ар-декошный, заграничный. Тоже же московской интеллигенции мыслительный продукт, мол, мы тут страдаем неразрешимыми моральными вопросами, как Твардовский, а тем, кому посчастливилось в свое время улизнуть, они что, они там живут и ни в чем себе не отказывают. Но есть в этом памятнике и хитрость: не намекает ли он, что тщательно-сконструированный сладкозвучно-ретроградный музыкальный романтизм Рахманинова, он ведь и есть ар-деко, он звуковой дизайн для богатея, мечтающего о красоте и культуре, что-то типа торшеров Тиффани?
А в конце бульвара раскинул руки бронзовый Высоцкий. Он – кода бывшего будущего, вымечтованного либеральным посетителем ресторана ЦДЛ середины восьмидесятых. И все ведь сбылось! Бронзовый Твардовский публично страдает – и нам, его наследникам, урок. Рахманинова мы вернули на родину, великая русская культура едина, наконец. Восстановили связь времен, так сказать. Ну и – предел мечтаний: теперь Высоцкий – это как раньше Шаляпин и Блок в одном лице, он тоже страдал за всех, но не так скучно, как невнятный главред «Нового мира», кто нынче его помнит, а вот Высоцкого мы отлично помним, мы его любим, он страдал как надо, как мужик: хрипел, пил, покорил француженку, мента Жеглова сыграл.
3 июня 2018 года
Вообще же, авторитаризм – большой стиль нашего времени: мягковатый, консюмеристский, рыночный, популистский, мобилизующий население с помощью комбинации традиционных медиа (ТВ, особенно кабельное) и высоких технологий (блоги, Fb и проч.) Это социально-политически. Но и эстетически, в том, что касается арта, он большой стиль, ибо деньги, которые вливаются в эту сферу, либо государственные (или полугосударственные), если речь о самих авторитарных странах, либо – если о «демократических» – деньги из авторитарных стран, деньги богачей оттуда, либо, наконец, деньги демократических богачей, но «там» сделанные.
Москва – опять город большого стиля.
19 июня 2018 года
В Вентспилсе было несколько теплых дней; увы, «было», сейчас подул ветер и унес куда-то в Центральную Европу истому и летнее безделье. Полежать на пляже удалось только один – почти жаркий – день; по случаю рекреационной погоды там нежилось большее количество людей, чем накануне: не три, а примерно пятьдесят три. Но для меня и того много, отбрел левее вдоль моря, вроде почти пусто, улегся, позагорал, побултыхался в ледяной воде и только потом огляделся и понял, что пляж-то нудистский. Соответственно, встал выбор: либо снимать плавки, либо уходить. Выбрал Срединный путь Будды, то есть ни то, ни другое. Стараясь не смотреть по сторонам, прикрыв плавки локтями, сидел, упершись взором в море, размышлял. Голые тела, по большей части того же цвета, что и песок, так что можно их принять за скопления – или даже завихрения – неорганики, вполне в духе рассуждений Ганса Касторпа о жизни как об упадке, болезни материи. Что сказал бы Люсьен Фройд с его шматами серовато-желтой, с коричневыми и розовыми разводами, плоти? И тут я вспомнил выставку, которую видел в середине апреля в Лондоне. Дело было в Tate Britain, называлась она All Too Human. Bacon, Freud and а Century of Painting Life, даже не в прошедшем, а настоящем времени – называется, ибо закроют только в конце августа. Вроде бы все понятно: где «жизнь», которую «рисуют», там «слишком человеческое», что значит «плоть». Отсюда и Фройд, и Бэкон, и многие другие. Вот интересно: отчего именно тело стало обозначать главное, эссенциальное свойство «человеческого»? Ведь телесны – и только телесны, надо сказать – и животные, и рыбы, и прочие твари (не знаю, можно ли насекомых назвать «животными? Ну уж «рыбами» точно нет). А человек отличается тем, что у него есть как минимум сознание – в возвышенную область душеведения не лезу по невежеству и религиозной индифферентности. То есть интеллект, рацио – вот оно, слишком человеческое, too human. Ан нет. Самые завзятые атеисты современного мира делают вид, что мы – люди, ибо у нас у всех есть две ноги, две руки, голова и органы размножения; а то, что мы думаем, смеемся, строим города, пишем книги или даже в больших количествах истребляем себе подобных с помощью самой утонченной техники, нами же придуманной, это так, от Лукавого, или, наоборот, от Всеблагого. Нынешнее западное сознание себя выдает; оно – при всей пропаганде прогресса, порожденного «серыми клеточками» – в серые клеточки не верит, по-прежнему считая, что кто-то их в нас вживил, что ли. Ну, отпилил крышку черепа, положил пару половников мозгятины, крышечку обратно приклеил. Вроде как чип; мы думаем, что это мы думаем, а на самом деле это Он за нас. Или Оно.