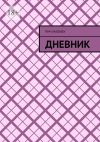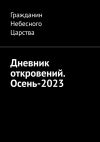Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
16 февраля 2018 года
Уф, уже в Европе, после 29-часового перемещения. В Лондоне оказался в чужой квартире; от скуки и этической невнятности ситуации купил бутылку Cotes-du-Rhones и тут же выпил ее, хотя зачем? Красное сухое после сорока пяти, ох, сколь жовкой мышцатой печенью надо обладать, чтобы делать это? Я – нет. Но купил и выпил. «Время наебениться», как у БГ недавнего. Красным наебениться сложно, скорее осоловеть, клевать клювом, тяжелеть, осесть, опасть и окуклиться. Вымачивая свою темно-бордовую печень в темно-рубиновом красном, решил уж окончательно опасть духом и порылся в CD-коллекции хозяйки. Кто-то здесь давно, лет 15 назад, нарезал диски из всякого старого русского музона. Тоже, как сказал бы покойный Петя Вайль, карта Родины, но звуковая. Что же, вспомним былое. «Аквариум», «День серебра» и «Снежный лев» на одном самопальном CD. Первый – один из лучших, второй – не самый плохой. Но разница ужасает вообще-то. Что же там у них, советских, становившихся постсоветскими, сломалось году в 89–90-м? Откуда задушевность, откуда купола с крестами через слово, откуда что взялось, у ИТР-а? Будто Троеперстный Талибан пришел, и советский интеллигент сам, по своей воле, записался в духовные рекруты. Доброволец православия и народности; с самодержавием, да, есть еще некоторые споры, но и то не так чтобы уж очень, эмоции в основном. Новобранец загадочной русской души. Мол, такова уж моя идентичность, и все тут, не мельтешите.
Кстати, в «Снежном льве» некоторые песенки хорошие, натюрлих, кто спорит, но вообще это феномен другого эона, нежели «День серебра». Петр Великий обрил боярам бороды, 190 лет спустя они принялись расти обратно – ментальные бороды, конечно, дело было до появления реальных хипстерских.
Мне кажется, невыносимый «русский рок» (а ведь был же! был! и Майк, и ранний Цой, и «Странные игры», и ДК, и «Не ждали!», и много что еще, хотя штука, конечно, в том, что не был он «русским», а являлся по сути «подпольным», «андеграундным», в этом дело) нацориентации – невольно, конечно, как языку, не идеологически – научил Башлачев, которого БГ научил тому, что в этом жанре можно вообще писать песни на русском. Научил, а потом у ученика поднабрался. Такое бывает. Вообще, надо бы написать историю «национализации» бывшей андеграундной культуры на грани перестройки и постсовка. «Сведи меня скорей с Максимом-лесником, / Может, он подскажет, как в чисто поле выйти». Какой такой Максим-лесник? Ну что за ужимки в онучах? Баре о мужиках грезят, допились, дококаинились. А ведь за десять лет до того было иное совсем:
Сидя на красивом холме,
Я часто вижу сны,
И вот что кажется мне:
Что дело не в деньгах,
И не в количестве женщин,
И не в старом фольклоре,
И не в «новой волне».
Да-да, дело не в. Так куда же все это исчезло? Нет, я серьезно, куда, еще в девяностые, исчезло многое, что раньше было интересного? Как вышло, что мозги – и не самые худшие – залил этот ванильный гной? Пришел Максим-лесник, махнул рукавом ватника, и вот оно, постсоветское, родилось; народ неумело перекрестился – и шмыг в баню с комсомолками.
Отсюда и постсоветское визуальное, припадающее на тот же расписанный в Хохломе костыль. Комедия Островского «Ирония судьбы, или С легким паром».
Нет, ну правда, не могу остановиться: «Куда же все делось?» – думал я, приканчивая разом бутылку среднего красного и запись «Снежного льва». Вроде бы слушал человек всё на свете, щеголял челочкой, как у Боуи в семьдесят восьмом, записывался с Курехиным, и вдруг вот вам: вальсочки с фузом. Но не Уэйтс, увы, и не Арно, у тех раз-два-три принципиально иное.
С постсоветским искусством, с тем, что продается и покупается, то же самое вышло: по сути, вальсочки с фузнячком. А ведь пелось же когда-то:
Хочу я всех мочалок застебать,
Нажав ногой своей на мощный фуз.
Это вам не костромамонамур.
Впрочем, не все так плохо. Нынче время специальное, время наебениваться от скуки и тоски, не так ли, дорогие мои?
Но мы идем с тобою
В странных местах,
И все, что есть у нас, —
Это радость и страх…
Exactly so, Sir.
21 февраля 2018 года
Есть удивительная группа Tindersticks, участники которой со временем стали похожи на доцентов провинциального института, на разных, кто помоложе и с амбициями, кто постарше и уже махнул рукой, но общее у них одно – они такие пижонски-похотливые на вид, но каждый на свой манер. Впрочем, группа отличная, особенно песня Show Me (Everything). Правда, сейчас проверил, а группы уже на самом деле и нет, так, собираются иногда, два года назад выпустили последний альбом. Сейчас так многие. И столь меня восхитивший их внешний вид – шестилетней давности, если верить ютьюбу.
Интересно, как Tindersticks выглядят сейчас? Уже не доцентами? Уже докторами наук Ардатовского областного пединститута? Это все, кстати, не шуточки. У нас в Британии мириад инди-групп, таких, где играют тонконогие стрекулисты в узеньких черных левайсах, но толку никакого. Это вообще не искусство, а так, ну, деятельность общественно-полезная, вроде плетения корзин или краеведческих изысканий из истории местного паба. А классный музон делают люди с внешностью обывателей – что правильно. Роберт Фрипп всегда выглядел как бухгалтер. И Моррисси, пока не скурвился от глупой злобы, был вылитый волосатый автомеханик из Манчестера. Про художников и не говорю. Хотя нет, Люсьен Фройд был порочно-прекрасен. Опасная лиса, всегда готовая либо исподтишка перо в бок всадить, либо шампанским угостить за свой счет (а потом денег у тебя же и занять, без отдачи). Ну Фройд вообще, кажется, все про все человеческое, слишком человеческое понимал. А вот Бэкон с его запьянцовской опухшей рожей, он понимал что-то другое, у него сквознячки, мощные, страшные на картинах. Ирландец, одно слово. Совсем не внук Зигмунда Ф., у того все телесно и затхловато. Но, черт возьми, как круто, в то же время. Эта желтоватая плоть, будто не очень свежие ощипанные курицы на советском колхозном рынке.
23 февраля 2018 года
Видел сегодня на сайте Би-би-си сильно постаревшую Трейси Эмин. Странно, никогда не слышал ее голоса, высокий, почти писклявый. Говорила очень правильные вещи, а я, циник, вспоминал лучшую песню прошлого года, Edith Piaf (Said It Better Than Me) с последнего альбома Sparks, там есть такой речитатив:
Live fast and die young,
Live fast and die young,
Live fast and die young,
Too late for that,
Too late for that.
Но ведь это и про меня, да и про многих из нас. И причем здесь Трейси Эмин?
Песня, кстати, гениальная. Там есть еще один речитатив, который, как девиз, следовало бы поместить на ленточке, что трепещется над гербом contemporary art:
I was born to be better,
I was born to be better,
Not this time,
Not this time.
24 февраля 2018 года
После китайского годового арт-голодания (или аскезы? как посмотреть) бегаю по лондонским выставкам, а то скоро ехать в Восточную Европу, а там не разгуляешься в этом смысле. Да и сама В. Европа – выставка непонятно чего. Здесь же пока самое лучшее, что видел, – Андреас Гурски в Hayward Gallery. Выставка идет относительно давно, так что еще до приезда в Лондон прочел несколько рецензий, обязательных: все-таки классик, да еще и первое мероприятие в Hayward после ремонта.
Естественно, уже загодя было представление о том, что увижу, да и АГ неплохо знаю, но кто его не знает? Зря читал, дежурная чушь, записных арт-рецензентов нужно уволить из приличных изданий и отправить писать комменты на питерскую фабрику троллей. Английский у них хороший.
Никто не заметил самого важного – как АГ менялся за тридцать с лишним лет карьеры. Первые два, даже три зала исключительно интересные, остальные… Ну, скажем, там висят великие его работы, не преувеличиваю, великие, но их сложно назвать именно интересными. Они безукоризненны, они создают жуткий визуальный эффект смещения плоскостей и точек зрения, пол уходит из-под ног, ну и – если непременно об этом говорить – да, там и про капитализм, и про социальную атомизацию, и все такое. Но вот сначала было другое. АГ явно «продолжал» Тернера, который в какой-то период, как известно (и как он сам говорил), «продолжал» Клода Лоррена. В ранних работах АГ классицизм перемешан с романтизмом, нет, не борется, нынче время другое, а именно перемешан, как в любом из нас, европейцев, они перемешаны, иначе не европейцы мы, а хрень какая-то. Тогда, кстати, он еще не занимался монтажом, все как бы «честно», что ли, несмотря на сомнительность применения этого слова к искусству, которое все есть обман, и все есть, в то же время, самая подлинная реальность. Скажем, Mulheim. Anglers (1989) – классицистический ландшафт, с неторопливой, вечной, онтологичной природой на первом плане (и вообще на 99,9% фото) и с маленькими такими людьми в самом углу, как у Лоррена.
Там еще есть автомобильный мост, он выполняет роль таких же – но для пешеходов и гужевого транспорта, конечно, тогда иного не было – живописных мостов в старом арте вообще, даже не обязательно в классицизме. Разговор с Тернером венчается прекрасным фото белой галерейной стены, на которой висит три работы Тернера, с размазанными красками, из тех, что считают слишком медленной предтечей слишком раннего Моне. Тернеровские работы обрамлены простыми коричневыми рамами; работа АГ, их изображающая, тоже. И висит на белой стене. Даже не трибьют, а точка, поставленная в завершении своего определенного этапа. Чтобы намекнуть другим, мол, все, дальше двигаюсь в других направлениях. И что же, никто не заметил?
Других направлений было несколько; некогда моя любимая вещь АГ Schiphol (1994) – это, конечно, Магритт. Но не только это. Это тихий стейтмент. Если теперь искусство – все что угодно, что в рамочке, то здесь природа – то, что дано (предъявлено) нам в аэропортовском окне.
А дальше начались коллажи и монтажи, от Магритта к гламурному дадаизму и уже рекламному сюрреализму. Здесь зацепиться сложно, взгляд либо скользит, либо проваливается в щелочку между каким-нибудь дорожным покрытием, тщательно взятым крупным планом, и строением, обычно складским или фабричным, которое, будто во сне, уплывает от тебя. Остается рассуждать о социальном, историческом и проч. Скажем, индустриальные фото АГ двадцатилетней-тридцатилетней давности показывают нам удивительно архаический мир совсем недавно еще новых технологий. АГ историю вообще в виду не имел и не имеет, она не предполагается в его вещах, но так вышло, она тут есть. Иногда кажется, что на некоторых его фото осталась только она. Chicago Board of Trade III (2009) очень похожа на старые батальные полотна, особенно – на «Бородинскую панораму» Рубо. Трейдеры и брокеры в разных униформах – а когда-то это были уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Все промелькнули, и эти тоже промелькнут. И куда попадут в конце концов? Куда мы все попадем? В ад, конечно. Его АГ изобразил, самым, мне кажется, точным для нашего времени образом. Концерт Мадонны, снято в 2001-м. Жуткая штука. Мадонна на сцене – маленькая, того же размера, что и зрители. Она как бы Диавол, но с маленькой буквы, просто диавол; с той же строчной буквы – рядовые грешники и обслуживающие их черти (секьюрити, работники сцены, музыканты, подтанцовка). На что АГ намекает? Уж не демократия ли в Аду, где начальника заведения народно избирают с помощью известных процедур? А вдруг там раз в пять лет ротация – с учетом рейтингов Billboard, iTunes и проч. Мысль утешительная. Вообще поздние работы Гурски в сравнении с ранними – от меланхолии к спокойному холодному ужасу.
В Лондоне меж тем ниже нуля; такого холода в это время, говорят, давно не было. Весны, говорят, не будет в обозримом будущем.
1 марта 2018 года
Опять в самолете, теперь из Лондона в Ригу. Вырвался из метелей брекзитерского острова, который, кажется, погружается не только в снег, но и в ничтожество, причем в последнее сознательно погружается. Нет, все хорошее вроде на месте: книжные, музеи, турецкие и индийские забегаловки, рынок на Ridley Road, люди, которых считаешь хорошими, такими и остались. Выпивали в Сохо с Оуэном Хэзерли, в Montagu Pyke, это бывшее третье помещение клуба Marquee, там The Clash играли и кое-кто еще. Сейчас это один из сетевых пабов Wetherspoon, хоть и дороже, чем, скажем, Rochester Castle у нас в Stokey, но для Сохо еще терпимо; хотя жуть конечно, даже здесь пинта уже четыре фунта. Но дело не в этом. Оуэн, как всегда, прекрасен, рассказывал о том, что собирается писать книгу о… Харькове, городе очень специальной культурной традиции. Вот ведь как. Я вскинул брови, но был поставлен на место. Ок, будем с нетерпением ждать книжку. Но все же тоньше он чувствует свое британское. Его The Ministry of Nostalgia вроде вещь проходная, как сам он считает, но отличная. Кто бы на русский ее перевел. Нет, не реклама сочинения приятеля, действительно интереснейшая книга, сюжет которой – нынешняя неолиберальная ностальгия в Британии по временам послевоенного социализма, эпохе талонов на еду и вообще всякой экономии, Blitz Spirit, ностальгия, как феномен очень характерный, как своего рода – это уже моя интерпретация, не Хэзерли – товаризация социализма, прежде всего его образов, визуальных и звуковых. Отсюда и дикая популярность военного лозунга (на самом деле так и не пущенного в свое время в оборот и только недавно вспомненного) Keep Calm and Carry On, и хипстерская мода на бруталистскую архитектуру, и, конечно же, хонтологическая музыка, жидкие разлюли первых синтезаторов, голоса из старых пропагандистских фильмов, все-все-все, что есть в лейбле Ghost Box. Да, и тут, конечно, подверстывается нынешняя Россия и вообще все постсоветское, утонувшее в кислотных ностальгических соплях, вот что важно. Министерство Ностальгии функционирует нынче чуть ли не в каждой стране.
Все так, все прекрасно в Лондоне, как и раньше, разве что дорожает еда и алкоголь, но дух другой, странно. Будто подгнило что-то в морозилке за несколько месяцев, вынули, оно оттаяло и припахивает. Какие-то психи всплыли из задворок – впрочем, роскошных – жизни и принялись рулить. Вустеры сбежали от своих Дживсов и оказались министрами и медийными звездами. Понадобилось двадцать лет, чтобы Cool Britannia стала Pathetic Britannia.
И, будто специально, попал как бы на брекзитерскую выставку; точнее, мне так сначала показалось, а потом нет, другое, интереснее. С чего я решил, что она брекзитерская? Ну, наверное, место. Royal Academy, институция хоть и не шибко консервативная, но название обязывает – как и соседство, Королевское общество антиквариев и проч. Все джентльменское, тори. Да еще рядом Берлингтонский жилой комплекс, что-то вроде пансиона для богатых английских холостяков: живешь себе в квартире, но никаких хлопот, убирают, обслуживают, кажется, даже кормят. Но не только холостяков, последние лет двадцать Исайя Берлин с женой там обитали; впрочем, это уже какой-то набоковский вариант. Выжил бы Берлин в Монтрё? Выжили ли бы В.В. и Вера на Пикадилли? Но вообще идея такого безбытного (а значит, безгрешного) жилья мне нравится; жаль, денег нет и не будет никогда.
Помимо места выставки – ее тема, конечно. «Карл Первый – коллекционер искусства». Тут и монархия, и скрытый упрек собственным цареубийцам, ну и вообще, что мы хоть и отдельные и на острове (и скоро вовсе отчалим от Европы, поплывем, как «Катти Сарк», станем окончательным Лапуту, как Сингапур какой-нибудь), но изящное всегда ценили, его творцов поддерживали, артефакты собирали.
В общем, я оказался кругом неправ, хотя с подозрением сначала посматривал на публику, которой, кстати, было полно, что странно – тема весьма далекая, а на улице шло дело уже к нулю, дубак усугублялся резким ветром. Но нет, пришли, и, конечно, не те, что ходят на современное искусство, да даже и на модернизм с авангардом прошлого века. Много пожилых пар, просто пар, явно приехавших в Лондон погулять в выходные, подростки, причем, сами, без педагогического конвоя, туристов мало, почему-то только французы (из-за Генриетты, печальной вдовы Карла, сестры Людовика XIII? Вряд ли галльское тщеславие по поводу галльского прошлого зашло так далеко).
И сама выставка отлично сделана; каждый зал тематический, причем сквозной логики нет – то собрание собранного Карлом арта по странам и периодам (Италия, Германия с Фландрией), то то, что висело в конкретных покоях дворца, откуда беднягу, кстати, и повели отрубать голову. Темно-серые и темно-зеленые стены, отличная подсветка объектов, в меру драматичная, делающая плохое искусство выносимым, среднее – хорошим, хорошее – уже почти гениальным. Кураторам пришлось нелегко, Карл собрал очень много всего, из этого многого немало было распродано и разошлось по разным уголкам цивилизованного мира, кое-что погибло, как водится; тем не менее осталось, и в Royal Academy представлено столько, что, заглянув на полчаса, я под конец заставил себя ускорить темп и ушел часа через полтора. И среди этого многого много искусства, на сегодняшний взгляд, никакого; но ведь, на взгляд Карла и его современников, чуть ли не только такое и было искусством. Условные позднеренессансные и барочные мифологические и библейские полотна, парад плоти, драпировок плоти, вооружения, призванного плоть умерщвлять (чужую) и защищать (свою), родные, друзья и спонсоры художников, вписанные в сюжеты про Давида или Психею. Плоть представлена более всего Рубенсом; его вообще сложно терпеть, но здесь особенно, вещи все дежурные, поточные. Рубенс приехал в Лондон сначала как дипломат, а потом его, кажется, Ван Дейк пристроил уже по изобразительной линии. А Ван Дейк при Карле Первом был по этой линии главный авторитет.
И все равно выставка сделана так, что массовая арт-продукция эпохи Контрреформации не раздражает, наоборот, наводит на размышления. Тем более что рядом висят вещи отличные. Скажем, много Гольбейна-младшего, который за сто лет до Ван Дейка был при английском дворе как бы прото-Ван-Дейком. Нарисовал всех или почти всех. Как раз известных его портретов Карл не собрал (или они после разошлись по разным местам), но висят полдюжины других. Удивительно вот что: Гольбейн будто не людей изображал с как бы персональной личностью и соответствующей психологией, нет, он изображал социальные функции. Вот это бесценно. Но не только портреты. Странная вещь Noli me tangere (1526–1528), неловкая то ли от неловкости самого художника, то ли от того, что сам он картину рисовал не всю, детали отдал ученикам (Ван Дейк по этому принципу настоящую портретную мануфактуру завел). Сюжет известный: Мария Магдалина приняла Христа за кого-то другого и хочет вступить с ним в тактильный контакт. Тот отпрянул и твердо попросил, мол, не трогай меня, noli me tangere. Так вот, у Гольбейна Христос будто стоит в боевой позе карате, ладони вверх, взгляд твердый и напряженный. А Мария Магдалина, похоже, издевательски раскланивается. Я бы назвал эту картину «Ссора с сэнсэем».
Карл собирал много итальянцев, и это зрелище никакое, зато есть и немцы с фламандцами/нидерландцами, хотя их меньше, конечно. Как это часто бывает с теми, что рисовали севернее Альп, некоторые вещи выглядят таинственно современными, такое с Вермеером сплошь и рядом происходит. В Royal Academy весьма нынешним был мужчина, изображенный неким немцем (наверное, все же немцем, принципиально гуглить не буду, это нынче любой может) по имени Johannes Froben. Начало двадцатых годов XVI века. Простая одежда, без модных тогда беретов и камзолов с разрезами, похожа на темное пальто времен Золя и Мопассана, коричневый шарф (конечно, это не шарф, если присмотреться, а воротник, но нам же важно первое впечатление, мы же не искусствоведы, а странствующие любители прекрасного безо всякой казенной надобности) и – особенно – ультрамариновый фон. Стоило бы поговорить серьезно о том, что значит «выглядеть современным», когда речь об арт-объекте пятисотлетней давности, а то и старше. Привычный нам цвет (или тип цвета, скорее; импрессионисты научили нас совсем другой палитре)? Поза? Одежда? Выражение лица или даже сам тип лица? Там была одна такая вещь, неожиданный для Бронзино портрет («Портрет дамы в зеленом», 1530–1532) – у женщины на нем удивительный взгляд, который можно датировать концом XIX – началом XX века, живописью того времени, конечно, и чуть позже, в сторону Серебряковой. Вопрос простой: почему конец XIX – начало XX века для нас (для части «нас», конечно, причем части незначительной, но «мы» еще как-то держим под умеренным контролем дискурс, важный и для других) есть современность? А, скажем, начало XIX столетия – уже нет? Дело же не в каких-то жалких семидесяти, скажем, годах. Античность нам ближе раннего Средневековья, высокое Средневековье понятнее времен «пламенеющей готики». Просто мы начали думать и видеть мир таким образом, каким мы думаем и видим мир сейчас, именно тогда, в эпоху расцвета модерности и ядовитого позднего романтизма. Оттого все тогдашнее сегодня исключительно актуально: марксизм, расизм, фрейдизм, модернизм, телефоны с автомобилями, звукозапись с кино.
То же самое и со вкусом. Нам уже не понять сегодня вкуса Карла и Генриетты; остается лишь либо хихикать, либо пожать плечами и пройти мимо. Скажем, восьмой зал выставки, The Queen’s House, то, что висело в покоях королевы, изобилие невыносимой большого формата живописи с тщательно и обильно изображенными розовато-белыми женскими телами (особенно старался некто Orazio Gentileschi, он, как написано в пояснительном тексте, подвизался при дворе Карла). Что это? Зачем? Так ли мы – по «20 лет спустя» – представляли Генриетту? Особенно тут удивителен Гвидо Рени с его «Туалетом Венеры» (1620–1625). Какой-то лесбийский gangbang, так бы сегодня прочли сию картину.
В общем, хорошо, что ноги сами привели меня в Royal Academy, есть еще чутье, слава Богу, не все испарилось в пересушенном воздухе дешевых крылатых скотовозок. И вот летишь в одной из таковых и думаешь следующее:
– А ведь Карл Первый, наверное, был первым настоящим коллекционером искусства среди британских монархов (Алиенора Аквитанская не в счет, тогда собирали не искусство, это считалось чем-то другим, да и вообще Алиенора и все вокруг, включая ее супруга Генриха II, были французы, только титул сбивал с толку: «Король Англии», «Королева Англии»). Есть ли тут связь между этим фактом и тем, что Карл был не только первым в этой стране, но и единственным (пока), которого торжественно, как бы законно убили его собственные подданные?
– Пуритане, отрубившие Карлу голову, были малоприятными ребятами; искусство и словесность они вытаптывали тупо и с огоньком. Это был своего рода христианский «Талибан», что ли.
– Меж тем почти все, за исключением нескольких честных эстетов историографии, считают пуритан с Кромвелем «прогрессивными». А Карла – «нехорошим», «реакционным» и все такое. На кой черт нам такой прогресс? Вот вопрос.
С тем я и лечу сейчас из Лондона в Ригу. Посмотрим, что будет здесь.
4 марта 2018 года
Пить в одиночестве в Гризинькалнсе зубровку (ничего романтического, просто за тридцать лет забыл вкус, опрометчиво решил освежить) и в сотый раз пересматривать Stop Making Sense. Концерт великий, что говорить, иначе не пересматривал бы. Вот что кокаин животворящий с богемой Восточного берега делал (делает ли сейчас?). Драйв и все такое. Собственно две только мысли остались от сотого просмотра. Первое. Весь драйв – вживую, не в записях – сделан чернокожими музыкантами, «голый» (в смысле, stripped of session musicians) Talking Heads не канает в смысле энергии и проч. Обычный белый постпанк, милый, умный, как все нью-йоркское, ничего больше. А тут получилось совсем другое. Второе. Не мысль, сожаление. Куда испарился арт из поп-музыки? Чтобы и потанцевать, и не посожалеть о потере эстетической невинности? Вот вопрос. Ушли те времена. Мухи арта отдельно, котлеты поп-музыки – сепаратно.
Да, но Psycho Killer – тут не нужно было ни белокожих, ни чернокожих музыкантов. Бирн соло с драммашиной. Белоснежный кокаин и грязноватый Нью-Йорк второй половины семидесятых. Этот брак совершался на небесах.
10 марта 2018 года
«Орбита» выпускает фотоальбомы, стильные, как всегда, один из последних сижу сейчас, листаю. Rīgas Licis. Это какой-то визуальный Баллард, но лишенный сегодняшнего контекста, без которого не было бы Балларда и особенно баллардинанства. То есть в Crash или Concrete Island – там понятно: поздняя модерность, бездушный капитализм, превративший высокую науку сначала в высокую технику, а потом в технику профанную, в мир техники, автобанов, автостоянок, супермаркетов, заправок, мотелей, ennui пригородов. Дивному новому миру должны соответствовать дивные новые обыватели, вроде роботы, но с человеческой плотью, впрочем, подверженной садистическому расчленению и всяческим манипуляциям, см. Atrocity Exhibition. Вне того позднего индустриального мира, в котором Баллард писал, в котором разворачивалось действие его прозы, в котором отчасти и мы до сих пор живем, все это имеет совсем другой смысл, пустой, чистая фикция, гениально, впрочем, сочиненная на пустом, опять же, месте. Кстати, непонятно, то ли мир субурбии и шопинг-моллов создал Балларда, то ли Баллард определил наше отношение к миру субурбии и шопинг-моллов. Хорошо, не «наше» отношение, мое и некоторых известных мне людей. Но как читается баллардовский (не баллардианский, это другое) мир за пределами определенного устройства сознания и жизни, жизненного пространства и проч.? Скажем, как я увидел Китай, то – если сознательно забыть местную экзотику – Баллард есть ключ к пониманию этой страны, взятой как вечное сейчас, как протяженный в вечности ad hoc. Но Филиппины или, скажем, с другой стороны, Греция – нет. Нет баллардианского ennui, этого следствия пустоты вдоль и вокруг бетонных контуров зданий и трасс, и в Палермо, где я был чуть больше года назад. Там скука другая, порой тоска, но не та, ибо сущность пустоты совсем иная. Тоска, которой предается Мастроянни в «Разводе по-итальянски». В России Красноярск – баллардовский город совершенно. Про Москву я и не говорю, ее нынешнюю Баллард будто на том свете сочинил, насмотревшись Первого канала и постсоветских сериалов. Есть наверняка такое подразделение ада, где крутят только русское телевидение 24/7.
Да, но Rīgas Licis. Здесь ennui двойной дистилляции, возгонка из двух емкостей давно и бесповоротно завершившейся истории, плюс еще и отфильтровано пижонским, как обычно, орбитовским дизайном. Этот дизайн, кстати, не хипстерский, а именно пижонский, в классическом смысле этого слова, оттого мне нравится. Хипстерские штуки всегда на что-то кивают, намекают, с чем-то играют, указывая на свое вполне закономерное происхождение из некоей почтенной традиции. Хипстер отращивает бороду вроде потому, что это cool и что другие хипстеры ее носят. На самом же деле он, чаще всего сам того не понимая, апеллирует к временам, когда окладистые бороды носили уважающие себя господа, месье и джентльмены, ко второй половине XIX века, к началу высокой модерности и второй индустриальной революции, к акмэ колониализма. Звучит смешно, но хипстер есть часть общей западной реакции на кризис модерности, попытка хотя бы цирульной деталью намекнуть на былое величие Белого Запада и Среднего Класса. Пижонство книжного дизайна орбитовских книг – оно вроде продолжает традиции местные, латвийские, советских времен с безупречными местными черно-белыми фото и радиоприемниками, простые линии, отчасти даже минимализм, нарушаемый хорошо продуманной деталью, но тут и другое. Прежде всего другое. Это идеальный дизайн для несуществующих идеальных литературы и арта. Тут умолкаю. Но продолжаю про Rīgas Licis.
Да, альбом как бы состоит из пустоты истории кончившейся и истории несостоявшейся. Это ennui чистейшее, где присутствуют вещи, имеющие происхождение, жесты, имеющие житейское объяснение, выражения лиц, вроде бы знакомые, но все это столь же нам эмоционально понятно, как барельефы из Древней Месопотамии в Британском музее. Там длиннобородые цари истребляют с колесниц львов, берут вражеские города и потом лицезреют процессию поверженных жителей, что вереницей бредут мимо под конвоем, несут дары – и себя влачат в качестве дара. Вообразить их психологию невозможно; без включенности в историко-культурный контекст психология исчезает. Иными словами, им невозможно сочувствовать, этим бедным пленникам, они для меня, стоящего на первом этаже Британского музея, не люди. Антропологическая солидарность отключается в случае отсутствия хотя бы минимальной связи между двумя разновидностями андроидов – зрителя и героя арт-объекта. Странно, но вот здесь, листая Rīgas Licis, примерно то же самое вышло. Там такое: серия постановочных фото, где две разнополые пары (или просто двое молодых женщин и двое молодых мужчин), наряженные в стиле советских модных журналов второй половины 1960-х – начала 1980-х (еще и парики, и накладные усы), резвятся в некоем пустом здании, судя по всему, рекреационного предназначения, но с явным официозным оттенком (собственно, санаторий Rīgas Licis). Помещение также имеет дизайн закончившейся советской эпохи, тоже идеальный, никогда в жизни не встречавшийся, там биомасса будто не предполагалась. Но не «Одиссея 2001 года», ибо не чужое и не сочиненное будущее. Минимализм и пустота помещены в прошлое, но их там никогда не было, вот в чем дело, любой бывший советский вам скажет. То есть ретроспективная утопия, но по поводу того, что якобы еще не стерлось из памяти – осев там в совсем другом, сконструированном сегодня виде. Психологически похоже на нынешние толки о забитых вкусностями и полезностями полках и витринах советских гастрономов. Опровергать бессмысленно; понятно, что ничего подобного не было. Эти разговоры напоминают придуманный Борхесом «хрёнир», «объект, созданный чистым желанием». Rīgas Licis не имеет такой интенции, конечно. Он как бы чистое искусство, флоберовское ни о чем, но в «Бовари» ennui Эммы – от монотонности жизни, а здесь от монотонности вымысла, что ли.
Судя по всему, было так. Владимир Светлов 15 лет назад решил сделать серию постановочных фото в бывшем советском санатории. Попросил актеров (отлично сыграли, кстати, класс), собрал старую одежду – и отправились они в Rīgas Licis. Там сделали фотосессию. Прошло 15 лет. Решили издать соответствующий фотоальбом. Чтобы как-то создать контекст не имеющему уже больше никакого контекста (кроме биографического участников), придумали, что это о советской курортной архитектуре Латвии, преимущественно Юрмалы, снабдили соответствующей статьей и архивными фото архитектуры, плюс один нынешний снимок Светлова. Вышесказанное, кстати, я вывел дедуктивным путем, внимательно изучив выходные данные книги и информацию на последней странице. Если туда не заглядывать, то вроде это сейчас и о людях в странных одеждах, которые приехали на костюмированное swingers party в странное место. И вправду, учитывая довольно случайный подбор вещей, надетых на героев, условный советский модернистский стиль, но с поправкой на журнал Burda, эту усладу западногерманских домохозяек (журнал присутствует, кстати, на паре снимков), то точно, то ли винтажные свингеры, то ли персонажи немецкого и голландского порно второй половины семидесятых – первой половины восьмидесятых. Вообще, все что происходит на этих фото, зловеще-нелепо и чудовищно-непристойно. Особенно инфернален «боржоми» (санаторий же!) в имеющих быть эротическими сценах.