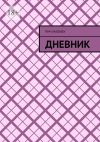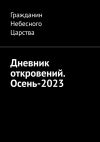Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
В общем, в Tate много плоти, отлично нарисованной. Вообще, как часто в последнее время в Лондоне, выставка разом и беспомощная (концептуально), и восхитительная (в смысле того, что выставлено). Скажем, зал, где рядом Бэкон и Джакометти, – полное счастье, и это при том, что я же был на Джакометти в Tate Modern за несколько месяцев до того. Кстати, сразу понимаешь: при всей искренности оммажа ирландца итальянцу, они о разном; грубо говоря, у Бэкона плоть будто в адском пламени плавится, она буквально стекает с его персонажей, а герои Джакометти уже закалились в этом огне, вышли оттуда такие сухие, крепкие, несгибаемые. Что же до Фройда, то как раз «до Фройда» был Стэнли Спенсер (1891–1959); кажется, он, еще в тридцатые прозрел фройдовские тела среднего и позднего периодов. Все это надо бы исследовать подробнее, додумать, но выставка огромная, под конец уже ноги подгибались. Схожу еще раз, в конце месяца, когда окажусь в Лондоне.
Там еще Паула Регу; она плоть Спенсера-Фройда нарядила в трансвеститские костюмы, жутковато и смешно. Регу как бы двигается к Бальтюсу, но у старого греховодника желтый другой, какой-то декоративный, нет, он плоский, как на плакатах, или нет, он будто нарисован на кукольных телах нимфеток. Желтые бедра и ключицы блестят, отражая свет из окна. Отсюда понятно, что плоть a la Lucian Freud – вещь островная, чисто британская. Что это? Некогда упругое, под завязку набитое богатством тело Империи, а теперь опадающее местами, старое, целлюлитное? Нынче деньги на острове еще есть, но не свои, а саудовские и русские. Пора рисовать британскую плоть нового образца.
21 июня 2018 года
Погода совсем испортилась, стало, как в Голуэе или в Абериствите, плюс семнадцать, тучи, ветер, так что лучше всего бросить дела и отправиться гулять – без опаски встретить кого-то в без того пустом городе. Что и сделал. Вентспилс пуст и прекрасен, идеальное место для образцового меланхолика постиндустриальной эпохи, ощущение, будто ты в огромном музее – или даже в бесконечном музее из рассказа Набокова или из сна в постановке де Кирико. Все кажется здесь отдельным, особым, размещенным специально именно так, а не эдак, сообщающимся с окружающими объектами только волею музейного куратора. Все имеет особый смысл, постигаемый, если смотреть на данный городской пейзаж определенного места, улицы, площади и проч. вместе, охватив сразу целую картину, не упуская, впрочем, ни одной детали. Иными словами, для постижения прекрасности Вентспилса требуется опытнейший ценитель Прекрасного, даже идеальный, а таковым может являться лишь Бог. Не для него ли сделали город таким, какой он есть? Не в том ли тайный замысел, похитрее любых масонских или розенкрейцерских? Ах, как славно думать о Вентспилсе как о Храме вольных каменщиков. И ведь верно, каменщики здесь неустанно трудятся: улицы выложены камнями, плиткой – и они идеально чисты, как помыслы тех, кто хочет усовершенствовать человеческую природу.
Ок, если Вентспилс – музей, то музей чего? Сразу нескольких эпох, сразу нескольких способов устройства жизни этих эпох. Скажем, тут была индустрия, даже разные индустрии разных времен. До Первой мировой была одна – от чего архитектурные остатки в порту, кое-какие здания в городе, высокая модерность, сложенная из приводящих меня в священный восторг темно-желтых с грязноватыми пятнами кирпичей. Была модерность советская – здесь она, как и вообще в Латвии, немного угрюмая, не столько панельная, сколько, опять же, кирпичная, но в восторг советские кирпичи не приводят – они скучного пыльно-серого цвета, будто в «Экстру» за три шестьдесят две насыпали пепла от «Примы» за четырнадцать копеек и размешали хорошенько. Вид этих домов – при том что, скажем, панельные хрущевки я нахожу даже красивыми и уютными, особенно, если они потрепаны жизнью и потерты историей – вызывает тощую изжогу. Но есть любопытные штуки, конечно, руины советской индустрии, советской модерности – в порту, там, где бухта и рыбзавод с техникумом, почти все брошенное, мощные вытертые, рассчитанные скорее на субтропики здания, какой-то алжирский модернизм, а рядом с ними в заливчике покачиваются яхты и разноцветные траулеры, некоторые облупленные и ржавые, некоторые свежевыкрашенные. Вид портят краснокирпичные гаражи напротив рыбзавода.
Если не идти на пирс, а нынче он закрыт, то можно пройти вдоль еще функционирующего органа портовой пищевой индустрии, мимо окошка с надписью «Шпроты», где тетенька торгует свежезакрученными банками – о да, конечно, шпрот прежде всего – то слева траулеры, а за ними сверкают на солнце серебристые газовые терминалы, салютуют грузовые краны, виднеется бордовый борт грузовоза из Шотландии, все как надо, и людей практически нет. Сон. Сон о конце модерности. А с другой стороны, если пойти вдоль моря, но по городской улице, не доходя до берега, там виллы и дачи Империи, Первой республики, в которых сегодня то ли местные или рижские богатеи, то ли пансионы, не разберешь. У реки – Труд, у моря – Отдых. Классическое деление классического города Нового времени: здесь работают, а здесь отдыхают. Как истинный ситуационист, я совершал дрейф, пересекая незримые границы этих зон, пока не оказался в лесу. По прошлым приездам знаю, если всё идти и идти мимо заповедничка для, кажется, оленей, выйти на трассу, то можно добрести до самого, думаю, странного горнолыжного курорта в Европе. Горная трасса в самой плоской стране континента. Восторг.
Но может, я и неправ по поводу вентспилской пустоты, может, у меня концепция пустоты неправильная, что ли. Кажется, я забыл, что писал здесь же, в начале месяце, насчет урбанистического/эстетического мейнстрима современного авторитаризма. Тогда так: пустота Вентспилса подобна пустоте нынешней («собянинской») Москвы, пустота большого стиля нового авторитаризма. Точнее, если учесть разницу в размерах В. и М., пустота малой версии большого стиля нового авторитаризма. Здесь можно долго рассуждать и сравнивать, было бы неплохо об этом книжку написать кому-то, но не мне. Оуэн Хэзерли мог бы, но он языком не владеет – значит, и материал не до конца просекает. Но вдруг кто это прочтет и заинтересуется? Тогда вот одно мелкое соображение. Помимо всего прочего, общая деталь М. и В.: любовь нового большого стиля к общественной скульптуре среднего и мелкого размера. Разница стилей этой скульптуры – разница культурной географии большого стиля.
В Вентспилсе не кончился потешный провинциальный модернизм. Но он все равно выглядит лучше, чем бессмысленный, мусорный, намеренно тупой псевдомодернизм, скажем, нынешней публичной скульптуры в Лондоне. Про Москву и не говорю вовсе. Здесь же еще даже слегка сюрреализм, что – вкупе с пустотой, геометрией деревьев, зданий и неба – возвращает нас к Кирико.
23 июля 2018 года
Да, Вентспилс один из самых прекрасных городов Европы. Не «лучших», не «интересных», а именно «прекрасных»; прекрасность его считывается с трудом; но без труда не вытащишь рыбку из Балтийского моря, чтобы в порту закатать ее в консервную банку, не так ли?
Ну а если серьезно, сочетание этих двух местных комбинаций – «река плюс море» и «лес плюс дюны» – оно есть романтизм или классицизм? Бродский, воспевший облака Балтики летом, все время путался, он то вторым заражался, то первый бил у него холодным ключом в венах.
25 июля 2018 года
Совсем забыл про постсоветский слой в археологии Вентспилса; он нагляден. Порт, опять порт. Грузят калий открытым способом, вонь проникает повсюду; грузят уголь так же. Это все старая индустрия, модерная. А вот газ – это да. Вообще, современность здесь – если считать постсоветское «современностью», в чем я не уверен (оно как бы закончилось) – логистическая, инфраструктурная, транспортная, коммуникационная. Скоро вся Восточная Европа превратится в полустанок на пути китайских товаров в Европу Западную. Жизнь будет происходить лишь по бокам железнодорожного пути Belt & Road. Настанет цивилизация пакгаузов, фур и погрузчиков.
Ну и, конечно, в Вентспилсе новая архитектура – две библиотеки, главная и Парвентская, отличные, туда бы еще книжки хорошие завести, я бы там поселился.
30 июня 2018 года
В Лондоне, в Regent’s Park, в «розовом саду», где высажены самые разные сорта с прекрасными названиями, вроде Commonwealth и Ingrid Bergman, есть Nostalgia. На дощечке с названием стоит номер 7 – то ли часть бренда, как у духов, шанель-номер-пять и так далее, либо все розы здесь проинвентаризированы. Так или иначе, восемнадцать дней назад я бродил по любимому своему парку, в котором слишком редко бывал все годы, что жил в этом городе. Чувствовал ли я ностальгию, нюхая восхитительную красную розу, аромат которой, как и соответствует названию, горьковатый, это не вино в уксус превратилось, нет, а сладость, когда ее слишком много и она слишком долго, отдает горечью, будто желчь разлилась. Потому и столь нечасто сюда приезжал из своего Хакни, чтобы все же сладость не загорчила. Сейчас можно – из другой страны, из другой жизни. Нет, не ностальгия, а меланхолия. А о Regent’s Park надо будет еще непременно подумать и написать здесь.
1 июля 2018 года
Только сейчас добрался до нового альбома Kamasi Washington. Наткнулся недавно на его запись в KCRW (вещь Street Fighter Mas) – выглядело, пожалуй, торжественно и даже монументально, не будь во всем этом какого-то колониалистского, жюльверновского душка, мол, чернокожий саксофонист, гений джаза и борец против несправедливости, он должен выглядеть, как африканский царь – глазами белых искателей приключений на черном континенте, конечно. Он и соответствует. Хотя Вашингтон такой же царь, как нью-йоркские интеллигенты—искатели приключений. Все равно то видео в KCRW очень крутое, удивительная приподнятая серьезность музыки и музыкантов в нынешнее мусорное время – как-то трезвеешь, что ли, настраиваешься на совсем иной лад. Я бы даже сказал, сборка этической вертикали внутри происходит, вот оно как. Так что сегодня слушаю весь Heaven and Earth, предварительно почитав рецензии, сплошные четыре-пять звезд. Но, кстати, тоже уклончивые, хотя и восторженные – бывает же такая смесь. Пишут, что да, здорово, джаз опять на топе, вот новая суперзвезда, безо всякого снисхождения к массовым вкусам и проч. Но. Но. Это кусочек – из Sun Ra. Вот это звучание – Joe Zawinul. Тут сакс – совсем как у Wayne Shorter. Все вместе было бы невозможным без Bitches Brew. В общем, я читал и поражался крохоборству рецензентов, ну что, не могут они без этого? То на то похоже, это – отсюда и проч. Впрочем, у них работа такая – сравнивать. После чего принялся слушать Heaven and Earth. И мне стало стыдно – зачем я критиков ругаю? Все ведь верно. Тут Sun Ra, тут Zawinul, тут Shorter; я бы добавил, что общая идея джазовой вещи, как сюиты с пением, смесь спиричуэла с босановой – это Charles Mingus, конечно. Остался доволен своим открытием. Новым альбомом Камаси Вашингтона остался не очень довольным.
И вот странно – все же на месте, все хорошо, слушай, получай удовольствие. Да, но многое смущает, прежде всего, слово «удовольствие». Непонятно, что это такое. Satisfaction – это понятно. «Наслаждение» – ясное дело. «Радость» – еще яснее. Удовольствие же… Это когда специальной чесалкой с длинной ручкой скребешь между лопаток, если там свербит? Или все-таки это satisfaction? Наверное, удовольствие прежде всего бывает от повторения известного, ожидаемого, но, быть может, ожидание чуть – несильно – превышается, чуть лучше, чуть приятнее. Heaven and Earth – об этом и для этого. Он для удовольствия, настоящего, глубокого, как был секс до появления PornHub. То, что сегодня называют «джазом», – то же самое; я про самое лучшее говорю, конечно, прочее – так, для фона крутить в хипстерских или буржуйских кафе или в «Старбаксе», скажем. Странно, данное обстоятельство ретроспективно накладывает отпечаток на времена высокого джаза. Например, великий Something Else Эддерли уже первой нотой вызывает во рту привкус химического кофе. Есть, конечно, исключения, и сегодня тоже, вроде Donny McCaslin, но тут я не могу быть объективен, он же с Боуи сделал Blackstar, а от этого не отмахнешься.
Не только джаз, конечно. Все сегодня такое. Прекрасные романы Теджу Коула, там, как надо, как у хороших людей, от Зебальда до постколониальных штук. Столь же прекрасные проекты Ай Вэйвэя. Удовольствия (собственного, не претендую на общий глас) от просмотров «Великой красоты» и «Молодости» Соррентино – не передать. Недавно прислали кучу ссылок на оторванный феминистский рэп, хотел было прийти в дикий восторг или неистовство, ан нет – сплошное удовольствие. Прекрасный протест. Только это уже было, всякое было.
Не новизны хочется, а современности. Действительно современного искусства, не трактующего современность, не изображающего ее, а из современности состоящего, как из нее были сделаны стихи Бодлера, проза Чехова, картины Ротко, как из современности сделан Шостакович, к примеру, или The Clash, или вот Майлз всегда состоял, пока не принялся догонять уже другую современность – со второй половины семидесятых и далее. То есть не авангард, он предполагается впереди, и не концептуальные штуки, вроде Уорхола или Боуи, где современность берется как существующая вещь, в рамочках, кавычках. И из нее делают уже что-то другое, похожее на существующее, популярное, убер-популярное, но все же другое, и кайф возникает из зазорчика – если чуешь его, конечно. Авангард сейчас невозможен, концептуальный подход жив и процветает – а что ему будет? – а вот с современным искусством дело обстоит скверно. Проглядывал сейчас на айпэде уикендовый выпуск Guardian, что там пишут, какие книги, выставки, музычка. И все там вот такое – с удовольствием слушаешь, смотришь, читаешь, как саму газету Guardian.
Но веганские рецепты там отличные, кстати. М.б., они и есть единственно современное. Скажем, как сготовить листья от цветной капусты, которые обычно же выбрасывают. Сижу почти без денег, так что прочел с большим интересом и – надеюсь – с пользой для себя.
7 июля 2018 года
Звонила К., она в Палермо, рассказывала, как там хорошо, вкусно, я знаю, был полтора года тому. Хотя нет, с веганской едой было совсем никак, а сейчас, говорит К., даже в задрипанных минимаркетах есть веганское Cornetto. Отлично, мы побеждаем. Но только победы – ни окончательной, ни промежуточной даже – я не увижу. Впрочем, это и неважно. Главное, как говорила А. А. будущему нобелевскому лауреату, – величие замысла. Замыслить мир без трупоедства – дело великое.
Еще К. рассказывала, как ходила на «Манифесту». Я сначала недоверчиво хмыкал, мол, зачем в одном из самых роскошных на визуальное городов еще и современное искусство, туды его в качель, но потом понял, неправ. Все-таки иначе Палермо совсем станет руиной, памятником роману писателя Лампедузы, ученой книге историка Канторовича, «Крестному отцу» во всех его вариантах. А contemporary art здесь так неуместен, что возникает уже совсем новый сюжет – не арабы и нормандцы, не Бурбоны, Гарибальди и мафиози, нет, это остров, вокруг которого тонут бедные беглецы с Юга, а художники пытаются сделать из сего искусство. Вот К. об этом говорила, о том, что в одной из локаций «Манифесты» была работа Кадера Аттиа The Body’s Legacies. The Post-Colonial Body, от которой она чуть было не расплакалась. Там было о работороговле, о том, как рабство трансформировало тела тогдашних рабов и их потомков, о том, как белые апроприировали не только тела чернокожих и результаты их труда, но и – в каком-то смысле – их душу. Их пение. Их танцы. Все. И это правда. Нам платить и не расплатиться за столетия страданий, плодами которых мы довольно сытно кормимся до сих пор, страданий африканцев, индийцев, китайцев, узбеков, всех не перечислить. Захватили их землю, прикарманили их плоть, вырвали и высушили их сердце, выкачали их мозг, а теперь имеем наглость бормотать, что не пустим чужаков сюда, к нам, в Европу и Штаты, в наш позорный жалкий убогий рай. А они все пытаются прорваться, их ловят, закрывают в концлагеря, отбирают их детишек; а здесь, в Старом Свете, они и вовсе не добираются до наших изобильных стогн и мирных пажитей, тонут, тонут, тонут в ласковом Средиземном море. И не принимать участия в этом преступлении невозможно. Веганство дает способ улизнуть от мучений и убийства животных, то вот от мучений и убийства людей не ускользнуть, разве что самого себя порешить. На «Манифесте» много работ про воду, про беглецов, понятно, это никому не поможет, никакого разъевшегося орангутанга в шапочке Make America Great Again, никакую фашизоидную фейсбучную крысу, довольную собой, своей ипотекой на пригородный домик, своим баночным пивасиком, не убедит, орангутанги и крысы не интересуются артом. Это чтобы собственную совесть успокоить; сие, кстати, неплохо, ибо сигнализирует наличие оной хотя бы у художника.
Еще, судя по всему, на «Манифесте» много про природу, про Природу, точнее. И про наши отношения с ней. Тоже своего рода успокоить совесть, разыгравшуюся было по прочтении новости о гибели кита, объевшегося пластика. Но тут дискурс уже выстроенный, с большой буквы, мейнстримный; все-таки уже сколько веков назад мы с Натурой вступили в садомазохистские отношения. Тут ходы и отмазки отработаны. Сейчас тема актуализировалась, вернувшись на линию фронта из тылового нарратива, несколько даже отвлеченного и коммерчески успешного (ибо этически безупречного). Спасибо, опять-таки, оранжевому дурачку. Дурачок вообще встряхнул мир, что говорить; помню, М. В. восхищался даже, мол, дадаист стал начальником мира. М-да. Недавно И. О. рассказывал о Тцаре, что тот в пятидесятые превратился в сталиниста, партийного функционера в скверно пошитом костюмчике. А я вспоминал заброшенную могилку Тцары на Монпарнасском кладбище, недалеко от изумительно-идиотского роскошного мавзолея Порфирио Диаса. На входе посетитель мест упокоения великих и невеликих может заметить уютную двуспальную могилку Сартра и де Бовуар. Идеальная пара получилась, идеальная, назло моралистам. Впрочем, что моралисты: почти в любом из них сидит потный педофил; см. толпы в шапочках Make America Great Again.
К. – на «Манифесте», а я на днях ходил на RIBOCA. Я тоже не промах. В прошлый уикенд, в страшный холод – был в Андрейсале, в порту, а эту среду – в бывшем биофаке. В порту всё про холод, море, паромы и проч., а здесь – само место диктует! – про Природу. Взял с собой айпэд, бродил по кафедрам и аудиториям, кои Наука покинула, а Искусство апроприировало. И вот что из этого – из прогулок по биофаку и из апроприации Науки Артом – вышло. Точнее, что настукано пальцами по экрану в приложении Notes:
Отличная кураторская работа. Был Цех Науки, стал Музей Прошлых Образов Науки, Музей Реконструкции Времен Любви к Знанию. Полная меланхолии выставка. При полном отсутствии «истории» тут – прошлое, longing for the past. Современности нет, она как бы не считается. Будущего точно нет.
Идеальная чистота и белизна лабораторий уже не выглядят футуристическими, на манер «Одиссеи 2001 года». Лаборатории 1920–1960-х, то есть, высокого индустриального периода – милый пост-стимпанк. Современные лаборатории – про хонтологию, но уже не про будущее (см. Kerstin Hamilton, «Zero Point Energy», 2016). Плюс тема природы, Природы, которая, как водится в последние лет сто, есть тема чисто романтическая, ретроградная, консервативная, даже фашизоидная.
Из общих тенденций: много человеческого голоса, текста. Визуального оказывается недостаточно в нашем мире; наверное, потому что оно слишком везде. В каком-то смысле человеческий голос здесь играет роль Природы, к которой возвращаются, которую используют, к которой апеллируют художники. Ну, почти весь видеоарт здесь о том же; он не видеоарт, конечно, а кино, в котором, сколько бы Гринуэй ни старался, чисто визуальное испытывает кризис убедительности; ему нужен сюжет, нужно слово. Оттого прекрасна инсталляция Hans Rosenstrom «So Far By Now» (2018) – комната пустых деревянных старомодных полок (до 1960-х!), наверное, там когда-то стояли научные журналы или документация, то есть нечто важное и дельное, но нынче полки пусты, и ты идешь между ними под печальный голос, рассказывающий неважно какую историю. От Эпохи Надежного Знания остались только дурацкие грустные истории, рассказанные непонятно кем. Собственно, от жизни осталась только эта история, но только не полная шума и ярости… а идиот ли рассказчик… кто знает? Шекспир четыреста лет как мертв, его не спросишь.
Ходил по биофаку, выстукивал по экрану айпэда вышеприведенное, и тут вспомнил, что накануне же был на выставке «Орбиты» в NOASS. И бормотания – прекрасно организованного, надо сказать – там было в изобилии. Порылся во вчерашних записях в Notes, и точно, да, писал и там примерно о том же:
«Орбита». Старомодные машинки по производству поэзии. Поэзия – винтаж. Машинки эпохи машинного производства в том виде, в котором оно началось во времена написания известного сочинения Беньямина. Бобок, бормочущий из-под земли – вот что такое настоящая поэзия сегодня, а поэзия «Орбиты» – настоящая. Конечно, идея тончайшая – особенно у Ханина и Пунте, – как малейшие колебания воздуха, перепады соединения зубчатых колес и бобин индустриальной жизни рождают поэзию, причем, вовсе не случайную, несмотря на, казалось бы, случайный характер говорения, и, особенно, обрыва говорения. Каждая фраза, которую удается там услышать, каждое слово, каждый обрывок и даже звук исполняется невероятным значением, глубоким, настоящим. Это классическая поэзия позднего модернизма, поэзия Целана и проч. Но дело в том, что она таковой является только для тех, кто внутри культурной эпохи, ее породившей. Снаружи, как для тех, кто оставил модернизм позади, так и для тех, кто никогда и не ночевал там, это все пижонские – или даже бессмысленные – штуки. Заметим, что из сегодняшней перспективы тот, кто ушел от модернизма, и тот, кто туда никогда не приходил, – одно и то же. Это слияние развеселого постмодернизма девяностых (фейковый «модернизм» следует за столь же фейковым «пост») с культурой Кобзона, журнала «Юность» шестидесятых, «Иронии судьбы» и поэта Дементьева. Как бы условно-концентрированный Павел Пепперштейн. Вот выставка «Орбиты» – совсем о другом, но и об этом тоже. О том, что модернизм кончился и кончилась поэзия как таковая. Но она и о том, что они же были, черт возьми, поэзия с модернизмом, и в этом смысле, они, значит, ЕСТЬ.
На этом запись, сделанная в NOASS, кончается. Так что вернусь к заметкам с биофака. После пронумерованных рассуждений там следуют краткие – столь же отрывочные – комментарии к нескольким работам, хорошим, надо сказать.
Diana Lelonek, «Centre for Living Things» (2016–2018)
Пластик / вообще неорганика versus органика, материя versus жизнь (вспомнить Касторпа).
Хоть вроде и развеселая штука, но производит мрачное, чуть ли не постапокалиптическое впечатление. «Zoo» Гринуэя, апдейт.
Katrina Neiburga, «Pickled long cucumbers» (2017)
Ну как бы типичная латышская языческая одержимость стихиями – водой, землей и огнем.
Новые Робинзоны.
Будто натуралист Стэплтон не утонул в Гримпенской трясине, а спрятался там от полиции и Холмса и все там и живет, с женой, и даже обзавелся ребенком.
Очень красиво снято, ярко.
На болотах всегда яркая цветущая ряска.
Sven Johne, «A Sense of Warmth» (2017)
Опять о Природе, о натуральном, о назад туда. Опять изумительно красивое видео, но текст банальный. Банальность консервативного, ретроградного современного искусства.
Nikos Navridis, «All of old. Nothing else ever…» (2018)
Инсталляции из книг (замечательные, так как книга сама по себе объект прекрасный) часты; это одна из них. Но стоит приглядеться к книгам, превращенным в строительный материал арта, становится бесконечно пусто, и тоска с отчаянием переполняют сердце. По привычке принялся разглядывать страницы, нашел старое (первое?) издание «Дела петрашевцев». Зачем все это было? Тайные встречи в прокуренных комнатах с взволнованным чтением Фурье? Достоевский неказнимый? Люди? История? Страдания и радость, все? Надо сказать, что эта инсталляция противоречит – содержательно – своему названию. Old здесь как «мусор», как «старье», но не как «старое», «бывшее», имевшее (и м.б. имеющее) смысл. Даже вечностью жерлом не было пожрано, ушло на строительный материал contemporary art’а. Все мы сдохнем, любой смысл выветрится, и останки наши пойдут на инсталляции.
8 июля 2018 года
Чтобы освежить в памяти, решил найти рассуждения Ганса Касторпа о материи (неорганической и органической) и о том, как она связана с жизнью. Не поленился, полез в «Волшебную гору». Вот лишь немного из того, что нашел. Ганс «дошел до взгляда на материю, как на грехопадение духа, как на вызванную раздражением злокачественную его опухоль»; для него материя есть «постыдное перерождение нематериального», а жизнь – «лихорадка материи», «распутство материи, болезнь». Т. Манн рисует картину последовательной градации извращения, болезни: материя есть злокачественная опухоль духа, а жизнь есть лихорадка, болезнь материи. Получается, что жизнь – болезнь духа, возведенная в третью степень; собственно, жизнь – дистиллированная болезнь тройной очистки. Жизнь – чистая болезнь.
22 июля 2018 года
В нижегородском «Арсенале» выставка «Горький. Модернизм» – не про писателя, который в каком-то смысле все-таки был модернистом (Шкловский говорил когда-то, что очерки о Ленине и Толстом – это новая проза, значит, добавлю я от себя, модернистская), а про город имени писателя. Сразу понял, что пойду, все-таки родился здесь, после чего оттрубил по полной 36 лет горьковской, а потом и нижегородской жизни. Горьковской – 26, а нижегородской – 10, хотя, конечно, между Нижним Новгородом 1.0 (до 1917-го), промежуточным Нижним Новгородом 1.1 (1917–1932) и нынешним (окончательным? это мы еще посмотрим) Нижним Новгородом 2.0 – пропасть. Любой может что-то сказать про НН 1.0 – нечто долгополое и бородатое: Минин, купцы, староверы, ярмарка, Дмитриев с Карелиным. И все это не так или не совсем так. Бородатость присутствовала, конечно, и пили основательные старообрядческие торговые люди по 12 чашек чая из блюдечка, потея, отдуваясь, приглаживая сальные шевелюры мощной пятерней, но вот куда деть и Сормовскую слободу с заводом, и вообще все остальное, включая провинциальную интеллигентскую жизнь, негромкую, но устойчивую? Вот и Ульянов (пока еще не Ленин, просто Ульянов) сюда ездил – с местными марксистами встречаться, а не иконы покупать в Керженецких лесах и петь там с местными по крюкам. Впрочем, Клюев что-то такое чуял, сочинив в 1918-м совсем дикое, дичее любого Хлебникова:
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».
Да, все так, но встречался Володя Ульянов все-таки с марксистами, а не с игуменами и игуменьями. Нижегородские марксисты, если верить легенде, даже писали Энгельсу письма, мол, просим Вас высказать мнение по поводу развития капитализма в России, что думаете на сей счет? Энгельс мнения не высказал, ибо готовился умереть о рака, а Володя У. высказал, сочинив в конце 1890-х одноименную книгу. Вот она, эстафета коммунистической идеи; палочку ее будто в НН 1.0 передали – от Фридриха Э. Володе У. А нынче нам рассказывают про бородачей, осеняющих себя крестом. Ладно, проехали. Нечего желчь гонять.
Про НН 1.1 вообще мало что известно; тут разные странные люди обитали, одни коротко, другие долго, от Бориса Садовского до Павла Флоренского, впрочем, первый вообще почти местный, в Ардатове родился. Еще, конечно, любопытно, кого судьба в НН 1.1. заносила: Флоренский – законченный антисемит и явный русский фашист, Садовской – православный монархист протофашистского извода. Но, в отличие от сочинений П. Ф., стихи и прозу Б. С. читать интересно. Кстати, тут был еще один поэт и писатель, но еще в НН 1.0 – Мариенгоф, он здесь родился и провел детство и юность, которые были совсем о другом, о современности, а не о жидоборстве и «Боже, Царя храни». Мариенгоф учился в Дворянском институте; ах, какой это был город: «Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередке города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом – пьяные монопольки под зелеными вывесками». Но откуда здесь у меня вдруг возник Мариенгоф??? Занесло меня, однако, стоило только на немалую родину приехать (сижу в арсенальской резиденции в Кремле, ночью, Кремль заперт, «Арсенал» заперт, не выйти, сигнализирую настольной лампой, что здесь я, у Дмитровской башни, окно мое горит негасимым светом, как у Сталина в другом, московском Кремле. Чушь, конечно, тем более что окна в этой резиденции вверх, так что увидеть меня, стучащего по клавишам мака в кромешной нижегородской тьме, в кромешной нижегородской июльской духоте могут только птицы. Да летают ли они здесь?). Но все же. Мариенгоф с его НН 1.0 (под рукой книги нет и не могу найти в сети, а ведь как имажинист описывал торжественный туалет Дворянского института!) является в Москву в 1918-м и почему-то несет свои стишки Бухарину, а тот – делать ему, что ли, нечего было, все же «Правдой» заведовал, дело хлопотное – читает, стишки не нравятся, но мальчик одаренный, отчего бы ему не поработать в издательстве ВЦИК литсекретарем. Там Мариенгоф знакомится со всякими людьми, в частности с Есениным. Ну а уж где Есенин, там Клюев. И это тот же 1918-й. Круг замкнулся.
Да, но Горький же, не НН 1.0 и 1.1. Их тоже два. Первый Горький – это как бы НН 1.1 плюс только что построенный Автозавод, не город, а несколько городов в одном (Нагорная часть, Сормово, Канавино, Автозавод), слабо связанных, разделенных гигантскими пустырями вдоль Оки и Волги. Это Горький 1.0. А Горький 1.1 – это то, что стали строить в конце пятидесятых, мосты, спальные районы, заштриховавшие хрущевками и брежневками белые пятна на картах, НИИ, стадионы, город закрытый и современный. Наконец, современный, хотя и по-уродски, по-советски. Там я родился и жил, все это ненавидел и иногда даже любил, потому не сходить на «Горький. Модернизм» невозможно. Тем более что выставка в том же «Арсенале», где я ночами при свете электрических лучин, разбираюсь в своих старых текстах и старых чувствах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!