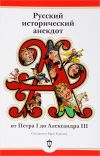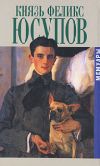Текст книги "Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века"
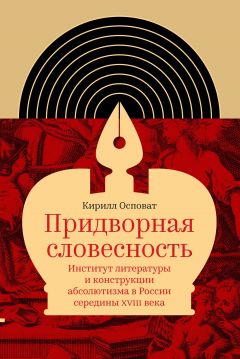
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
<…> душа <…> постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых, – вообще на всех, кого контролируют, воспитывают, муштруют и исправляют, на душевнобольных, на детей в школе и дома <…> Душа в ее исторической реальности, в отличие от души в представлении христианской теологии, не рождается греховной и требующей наказания, но порождается процедурами наказания, надзора и принуждения (Фуко 1999, 45).
Дисциплинирующее чтение было узловым моментом «института литературы», в котором место личного авторства занимал авторитет верховной власти, транслируемый сотрудниками императорских учебных заведений посредством официальных типографий. Раев и Лотман подчеркивают процессуальное и темпоральное измерение запущенного петровскими реформами процесса чтения, подчинившего культурную историю нескольких поколений общей задаче формирования политического субъекта.
Надо признать, что ни у Лотмана, ни у Элиаса, ни у Фуко очерченный нами момент полного единомыслия между литературой и абсолютизмом не оказывается окончательной формулой культурной истории XVIII в. Для Лотмана главным диахроническим сюжетом была «борьба литературы XVIII в. <…> за право на общественную независимость, за то, чтобы быть голосом истины, а не отражением мнений двора». Эта борьба была связана, среди прочего, с «мощной освободительной мыслью французского Просвещения» и вела к «поколению декабристов» (Лотман 1996, 93, 112). Элиас, отправляясь от формулировок Канта, прослеживает постепенную эмансипацию немецкой интеллигенции, противопоставляющей учтивой цивилизации двора свою культуру, связанную с идеей добродетели и «достижениями в духовной, научной или художественной деятельности» (Элиас 2001, I, 64–65). Наконец, Фуко в эссе «Что такое критика?» (1978) и других статьях рассматривает интеллектуальную эмансипацию Просвещения на примере работы Канта «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?» (1784). Корни критического Просвещения Фуко, подобно Лотману, локализует в масштабном культурном сдвиге начала Нового времени, в ходе которого техники религиозного дисциплинирования были апроприированы светскими инстанциями и послужили основой для экспансии «искусства управлять», охватившего теперь педагогическую, экономическую и политическую сферу. Установившееся таким образом соотношение «власти, истины и субъекта» стало источником и предметом критики как «движения, благодаря которому субъект берет себе право вопрошать истину о заложенных в ней эффектах власти и вопрошать власть о ее утверждениях истины». Критическое движение XVIII в. (совпадающее с Просвещением Канта и литературой Лотмана) определяется диалектической нераздельностью вопросов «как управлять» и «как быть управляемым иначе», искусства «добровольного непокорства» и потребности в позиции властного авторитета (Foucault 1996, 384–387). Но это темы для другой книги.
* * *
За пределами предлагаемой книги осталось несколько смежных с ней работ. В первую очередь это разборы трагедий Сумарокова, составившие отдельную монографию (Ospovat 2016). Кроме того, это статьи, исследующие пути адаптации Ломоносова и Сумарокова к культурным требованиям «придворного общества» (Осповат 2007; Осповат 2009а; Ospovat 2011). Глава VI представляет собой дополненный и переработанный вариант статьи, опубликованной в сборнике «Европа в России» (М., 2010).
Многолетняя работа над книгой была в разное время поддержана исследовательской стипендией Фонда Александра Гумбольдта и профессором Мартином Шульце-Весселем (Ludwig-Maximilians-Universität München); Ньютоновской стипендией Британской академии и профессором Андреасом Шенле (Queen Mary, University of London); и, наконец, стипендией Фонда Фрица Тиссена и профессором Сюзанной Франк (Humboldt-Universität zu Berlin). Им и многим другим собеседникам и друзьям автор выражает свою искреннюю признательность.
ЧАСТЬ
I
Начала придворного вкуса
Глава I
«Польза и забава»: поэзия, государственность и двор в середине XVIII в
В посмертно опубликованной статье «Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750‐е годы» Г. А. Гуковский заключает, что литературная рефлексия этой эпохи «была направлена на определение и утверждение общественной функции литературы». «Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков (и вместе с ними Кантемир), – продолжает исследователь, – утвердили накрепко положение новой русской литературы как государственной, учительной, носительницы ответственных идей, как вместилища и выразительницы серьезнейших интересов нации» (Гуковский 1962а, 105, 113). На специфическом литературоведческом языке сталинской эпохи Гуковский артикулирует важнейшее соотношение между литературной теорией и политическим мышлением послепетровской империи. В настоящей главе мы проследим это соотношение на материале складывавшегося в России 1730–1750‐х гг. языка литературной теории.
I
Очертания культурной политики русского двора первой половины XVIII в. хорошо выяснены в работах последних десятилетий. По точной формулировке В. М. Живова, «петровская государственность вводит перевоспитание населения в число важнейших политических задач» (Живов 2002б, 446). Марк Раев так характеризует программу петровского государственного «просвещения»: «Начатая при Петре I перестройка моделей поведения, касавшаяся в первую очередь служилого сословия (очередь других придет потом), не могла состояться и укорениться без существенных усилий: следовало в буквальном смысле устанавливать дисциплину, грозить карами и сулить награды, воспитывать с самого раннего возраста. <…> Целью образования по западному образцу было усвоение новых ценностей вкупе с новыми знаниями и формами поведения» (Raeff 1991, 107–108). В трактате Пуфендорфа «О должности человека и гражданина» «учения публичные» причислялись к политическим прерогативам «высочаишаго правителства»:
<…> понеже <…> зело не многие собственным умом правильно и честно разсуждати могут: Того ради во граде надлежит, да бы тое учениями объявлено было, что правилному концу и употреблению во градех приличествует, и да бы умы гражданов измлада в том обучаеми были. А кто таковых учении во граде учить явственно, могл бы быть достоин? о том определять высочаишаго повелителства есть дело <…> (Пуфендорф 1726, 418–419).
В этих видах создавались главные педагогические учреждения послепетровского времени – Академия наук (1725), Сухопутный шляхетный корпус (1732) и Московский университет (1755; см.: Федюкин и Лавринович 2015). Основатель Московского университета И. И. Шувалов писал в записке о «воспитании юношества», что первая задача дворянского образования – «вселенная учением к отечеству должность» (Шувалов 1867, 71). Академия наук, основанная вскоре после смерти Петра по одобренному им проекту, задумывалась как центральный орган государственного просвещения и перевоспитания подданных (см.: Gordin 2000; Ospovat, в печати). Саксонский дипломат писал в 1743 г., что Петр учредил Академию «для насаждения чужеземных нравов» («zu Fortpflanzung fremder Sitten» – Сб. ИРИО 6, 480). Х. Гросс, занявший в новоучрежденной Академии кафедру нравственной философии, а затем сделавший придворную карьеру в качестве наставника детей вице-канцлера А. И. Остермана и секретаря брауншвейгского посольства, в своих лекциях (1732–1736) вслед за Пуфендорфом обосновывал государственную пользу образования и включал его в сферу непосредственного ведения абсолютного монарха:
Das Recht und die Pflicht wegen guter Erziehung und rechter Unterweisung der Jugend ist seine Gewalt und Schuldigkeit, alles dasjenige in dem gemeinen Wesen zu verordnen, wodurch den Verstand der Untertanen und denen zur gemeinschaftlichen Glückseligkeit nötigsten Künsten und Wissenschaften gezieret, der Wille durch Tugend-Übungen gebessert <…> Weil die Wohlfahrt des gemeinen Wesens ensteht aus den guten Taten der Untertanen. Diese aber urteilen und tun, wie sie in ihrer Jugend unterwiesen werden; so ist leicht zu erkennen, daß dieses Recht, welches die Anordnung guter Auferziehung und Unterweisung der Untertanen betrifft, wann es recht verwaltet wird, dem gemeinen Wesen herrlichen Nutzen schaffen könne.
[Право и обязанность доброго воспитания и подобающего наставления юношества входит в его полномочия и должность, все то в государстве обустроивать, чем разум подданных и необходимые к их общественному благополучию искусства и науки украшаются и воля упражнениями в добродетели воспитывается. <…> Ведь благополучие государства возникает из добрых дел подданных. Они же судят и поступают, как их научили в юности; так что легко понять, что это право, касающееся устройства воспитания и наставления подданных, при правильном распоряжении может принести государству величайшую пользу.] (Цит. по: Grasshoff 1966, 48)
В 1731 г. ученики Академической гимназии поднесли императрице Анне Иоанновне латинскую оду, в которой «разум» и «науки» восхвалялись как инструмент общественной дисциплины и государственного правления. Эта ода сохранилась, в частности, в переводе Кантемира:
Народами той же Разум управляет,
Преступающих же с злочинств достягает,
Он царства правит. <…>
Есть бо уму врожденно
Науки искати, которых советом
И действом свирепство народ усмиренно
Много бывает, и теми правы
Насаждаются, нам в пользу, нравы.
(Кантемир 1956, 211–212)
На фоне такого рода идей, как указывает Раев, следует рассматривать русское книгоиздание первой половины XVIII в., в котором не последнее место принадлежало компендиумам практической морали, формировавшим облик подданных в соответствии с потребностями послепетровской государственности (см.: Raeff 1991, 102–104, 107–109). По словам Живова, «в условиях петровской культурной реформы, воплощавшейся в последовательной и массовой индоктринации» подданных, литературные тексты «делаются средством перевоспитания дворянского общества» (Живов 2002а, 562). В. Н. Татищев, практик-администратор петровской складки, в 1748 г. напоминал о том, «сколько книг и к распространению наук и как науки к просвещению людей и пресечению безумных суеверств и вредных рассуждений, а к приобретению великой государственной пользы потребно и нужно» (Татищев 1990, 336).
При жизни Петра ряд переводных наставительных публикаций был открыт такими изданиями, как «Юности честное зерцало». Приведенное выше замечание Татищева относилось к издательской деятельности Академии наук, наследовавшей петровским начинаниям; в первые десятилетия после смерти Петра ей почти полностью было вверено русское гражданское книгопечатание. Нравоучительное книгоиздание при Академии особенно оживилось к началу елизаветинского царствования. В 1737 г. вышла приписывавшаяся Ф. Фенелону «Истинная политика знатных и благородных особ» в переводе Тредиаковского; в 1741 г. увидел свет «Придворной человек» Б. Грасиана в переводе С. Волчкова. В елизаветинские годы оба этих руководства появились вторично – «Истинная политика…» в 1745 г., а «Придворной человек» в 1760 г. Кроме того, при жизни Елизаветы Волчков трижды (в 1747, 1759 и 1760 гг.) выпустил перевод приписывавшегося Ж. Б. Морвану де Бельгарду «Совершенного воспитания детей», «Науку щастливым быть» некоего William de Britaine (1759) и первый том «Светской школы…» Э. Ленобля (1761). В 1743 г. Волчков поднес наследнику престола Петру Феодоровичу рукописный перевод книги Бельгарда «Истинной християнин и честной человек», напечатанный затем в 1762 г. «Юности честное зерцало», четырежды изданное в 1717–1723 гг., было вновь выпущено Академией в 1740 и 1749 г. Такого рода литература пользовалась высочайшим покровительством: так, русскую версию книги Грасиана лично одобрила к печати Анна Иоанновна (см.: МИАН IV, 423).
Академию первой половины XVIII в. не стоит представлять устоявшимся ведомством, проводившим самостоятельную политику. Как показал Саймон Веррет, положение Академии в послепетровские десятилетия было шатко, ее существование часто находилось под угрозой и зависело от поддержки влиятельных патронов при дворе (см.: Werrett 2000; Werrett 2010). В этом отношении Академия была, конечно, «вспомогательным учреждением», действовавшем «при дворце» (Гуковский 1936, 13). По устойчивой европейской традиции президентами Академии с момента ее основания становились члены придворного общества, выступавшие покровителями ученой деятельности и направлявшие ее от имени двора. Связь между двором и Академией могли осуществлять и другие просвещенные царедворцы; в начале 1730‐х гг. эту роль какое-то время исполнял Татищев, затем фельдмаршал Б. Х. Миних, а в начале 1740‐х гг. кн. Н. Ю. Трубецкой.
В середине 1740‐х гг., вскоре после воцарения Елизаветы, произошло некоторое оживление придворного интереса к «наукам» и Академии. В 1746 г. на должность президента Академии, долгое время пустовавшую, был назначен гр. К. Г. Разумовский, брат тогдашнего фаворита А. Г. Разумовского. В 1747 г. Елизавета торжественно даровала Академии устав; этот факт был отмечен фейерверком в Гостилицах, имении фаворита, и знаменитой одой Ломоносова, поднесенной императрице от имени Академии. В следующем году Елизавета по предстательству Разумовского пожаловала Ломоносову, его прямому подчиненному, две тысячи рублей в награду за оду; об этом сообщали «Санктпетербургские ведомости» (см.: Билярский 1865, 118).
Юный президент принадлежал к довольно узкому кругу елизаветинских вельмож, о которых Ломоносов писал в 1746 г. в посвящении к переводу «Волфианской экспериментальной физики»: «<…> знатных военных, статских и придворных особ беседы редко проходят, чтобы при том о науках рассуждения с похвалою не было» (Ломоносов, I, 421). Это посвящение адресовано М. Л. Воронцову, бывшему камер-юнкеру Елизаветы, получившему в 1744 г. пост вице-канцлера, а еще десятилетие спустя, в 1758 г., – канцлера. В 1743 г. Кантемир, в то время русский посланник в Париже, обращался к Воронцову с просьбой представить его стихи императрице и так объяснял свой выбор: «<…> прошу извинить меня, что я сими безделками вам докучаю. На то я отважился по словам господина Шетардия, который мне изъяснил, сколь вы к наукам и к читанию охотники» (AB I, 358). Охоту к чтению Воронцов разделял с К. Разумовским и с другим бывшим камер-юнкером Елизаветы – Н. И. Паниным, с 1747 г. послом в Дании и Швеции, с 1760 г. – воспитателем вел. кн. Павла Петровича. В 1748 г. Воронцов высылал Панину в Стокгольм сочинения Ломоносова и Тредиаковского вместе со своими «великодушными рефлексиями» о них (AB VII, 459–461), а в 1757–1760 гг. сообщал К. Разумовскому в Глухов французские литературные новинки (см.: AB IV, 427–449). В 1740‐х гг., до возвышения И. Шувалова в конце 1749 г., именно они – вместе с кн. Н. Ю. Трубецким – составляли, по словам Гуковского, «вельможную группу, командовавшую литературой». Гуковский называет их «орудиями „меценатской“ деятельности центральной власти» (Гуковский 1936, 10). Это не совсем так: на деле они входили в ту высшую придворную и чиновную страту, которая, собственно, и отправляла «центральную власть». Вице-канцлер Воронцов и генерал-прокурор Сената Трубецкой принадлежали к первым сановникам империи.
Осуществлявшаяся под придворным покровительством книгоиздательская политика Академии, от имени правительства адресовавшаяся всему российскому дворянству, фактически направлялась культурными потребностями и представлениями немногочисленного круга высокопоставленных «охотников к наукам и к читанию». Сама императрица, надо думать, отчасти разделяла культурный узус этого круга; однако, лишь изредка вмешиваясь в дела книгоиздания и словесности, она не брала на себя деятельной роли и только подкрепляла своим авторитетом действия приближенных. Именно так нужно расценивать издательские начинания Разумовского. В январе 1748 г. от высочайшего имени он отдал в Академию приказ, формулировавший елизаветинский извод унаследованной от Петра издательской программы:
Всепресветлейшая державнейшая государыня императрица Елисавет Петровна Самодержица Всероссийская имянным своим изустным указом всемилостивейше повелеть мне соизволила стараться при академии наук переводить и печатать на русском языке книги гражданския различнаго содержания, в которых бы польза и забава соединена была с пристойным к светскому житию нравоучением <…> (Билярский 1865, 277).
Какого рода «книги <…> различнаго содержания» имелись в виду, можно заключить из более конкретных инициатив Разумовского. Еще в конце 1747 г. Академия выпустила в свет роман Фенелона «Похождение Телемака, сына Улиссова» в переводе А. Ф. Хрущева «по ордеру Академии наук президента графа Кириллы Григорьевича Разумовскова, которому объявлен от ее императорского величества именной указ о напечатании книги Телемака сына Улиссова» (Ломоносов, XI, 211–212). Через несколько дней после январского указа 1748 г. Разумовский велел Тредиаковскому перевести «книгу, называемую „Аргенис“ Баркляйя, на российский язык» (МИАН IX, 60; по признанию самого Тредиаковского, его переводу «Аргениды» поспособствовали к тому же двое других молодых царедворцев – «новыи наши <…> Пилад и Орест», то есть, по всей видимости, И. Г. Чернышев и И. И. Шувалов – Аргенида 1751, I, LVII–LVIII, CIV; Васильчиков 1880, 178). Как видно, указ 1748 г. вводил художественную словесность в канон высочайше одобренной книжности, наставляющей «к светскому житию». Апологию нравоучительных «вымыслов», в том числе романов Барклая и Фенелона, содержит «Краткое руководство к красноречию…» (далее – «Риторика») профессора Академии Ломоносова, сданное в печать в начале 1747 г. и вышедшее летом 1748 г.:
Вымыслы разделяются на чистые и смешанные. Чистые состоят в целых повествованиях и действиях, которых на свете не бывало, составленных для нравоучения. Сюда надлежат <…> из новых – Барклаева Аргенида, Гулливерово путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. Французских сказок, которые у них романами называются, в числе сих вымыслов положить не должно, ибо они <…> в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях. Смешанные вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных действий, содержащих в себе похвалу славных мужей или какие знатные, в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоучение. Таковы суть: Гомерова Илиада и Одиссея, Виргилиева Енеида, Овидиевы Превращения и из новых – Странствование Телемаково, Фенелоном сочиненное.
Возникшая по ходу набора вторая редакция этого рассуждения еще лаконичнее и яснее формулировала такой взгляд на задачи литературы «вымыслов»:
Повестью называем пространное вымышленное чистое или смешанное описание какого-нибудь деяния, которое содержит в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; такова есть Барклаева Аргенида и Телемак Фенелонов (Ломоносов, VII, 222–223).
Нужно полагать, что мнения Ломоносова соотносились со вкусами его придворных читателей – «Риторика» вообще имела успех среди петербургской публики и хорошо продавалась. В частности, вскоре по выходе она заслужила похвалу Татищева (см.: Татищев 1994, 342).
Формулируя в приведенных абзацах общий взгляд на изящную словесность, Ломоносов рассматривает и дифференцирует ее с точки зрения социальных практик, стоящих за практиками чтения. Два типа романов соответствуют двум модусам социального существования. «Французские сказки» плохи тем, что «служат <…> к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях»; иными словами, чтение их сопутствует праздному досугу. Нравоучительные романы хороши потому, что содержат «примеры и учения о политике и о добрых нравах». «Политикой» в языке этого времени именовалась, по определению Татищева, «мудрость гражданская» (Татищев 1979, 119) – знание государственных дел. «Аргенида», по уже знакомому нам определению Пумпянского, представляла собой «полный свод абсолютистской морали» (Пумпянский 1983, 6).
Именно эту социально конкретизированную «абсолютистскую мораль» ломоносовская «Риторика» подразумевала под «добрыми нравами». В параграфе 25 Ломоносов предлагает образцовую тему: «неусыпный труд препятства преодолевает». Исходный тезис распространяется далее при помощи таких «идей», как «утро, в которое неусыпный человек рано встает», а также «богатство, которого неусыпный желает, или честь, которая его побуждает», «свободный доступ к знатным», «власть, похвала» и даже (в черновом варианте) «ордены». Успешному трудолюбию противостоят «леность» и «гульба», а главную из преодоленных им тягот составляет «война» (Ломоносов, VII, 110–115). Этот пример риторического развертывания мог опираться на II сатиру Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных», в числе прочих сочинений присланную автором в Академию в начале 1740‐х гг. Кантемир разрабатывал тот же контраст между досужей роскошью и службой, истинным предназначением дворянина:
Пел петух, встала заря, лучи осветили
Солнца верхи гор – тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты под парчою,
Углублен мягко в пуху телом и душою,
Грозно соплешь, пока дня пробегут две доли;
Зевнул, растворил глаза, выспался до воли,
Тянешься уж час-другой, нежишься, сжидая
Пойло, что шлет Индия иль везут с Китая <…>
(Кантемир 1956, 71)
Постулаты государственной этики, в том числе антиномия службы и досуга, служили фоном для социальной легитимации словесности (см.: Степанов 1983). В 1748 г. несколько человек из высшего круга, среди них Н. Панин, оплатили издание «Разговора… об ортографии…» Тредиаковского; посвящая им «Разговор», Тредиаковский писал:
Вам невозможно не быть благородныя крови Особам: знаменитейшаго воспитания сердца обыкновенно бывают чувствительнее к такому увеселению, которое производит просвешченная добродетель, неумеюшчая сама никогда корыстоваться, а всегда готовая служить законной ближних пользе (Тредиаковский 1748, 4–5, без паг.).
Эти строки суммируют репутацию литературы в придворном обществе. Утверждение о том, что особы «благородной крови» и «знаменитейшего воспитания» составляют лучшую аудиторию словесности, апеллирует к определенному взгляду на аристократию. Тот извод европейской дворянской этики, который импортировался в Россию Петром и его преемниками, рассматривал образованность как важное обоснование сословных привилегий (см.: Stichweh 1991). В переведенной Тредиаковским «Истинной политике знатных и благородных особ» говорится: «<…> те, которые превосходят других своею породою, или достоинством, долженствуют их превысить и высокостию своего знания» (ИП 1745, 20–21). А. Л. Шлецер, наблюдавший петербургские нравы на рубеже 1750–1760‐х гг., сообщает: «Петр I убедил своих подданных, что современный мир должен управляться учеными знаниями; и действительно, при нем началось литературное образование среди его гражданских и военных чиновников» (Шлецер 1875, 253–254)11
Под «литературным образованием» Шлецер понимает, конечно же, не чтение изящной словесности, но всякое книжное знание.
[Закрыть]. Освященная именем Петра программа дворянского просвещения делала культурное потребление («науки») элементом социальной дисциплины и соответствующим образом регулировала практики чтения.
Понятия «пользы» и «добродетели», которыми оперирует Тредиаковский в посвящении, обозначали наставительную функцию чтения. В «Совершенном воспитании детей» об образцовом дворянине говорится:
Добрыя и полезныя книги, то ему ужина и обед <…> С теми нималаго сходства не имеет, которые все то без разбору и разсуждения <…> читают, что им ни попадется <…> Он о всяком деле или материи лутчих писателей книги выбирая мало читает, да много помнит и разсуждает; а изо всего лутчее избирая, к пользе себе и другим в действо произвесть старается. <…> Буде чему учится, или книги читает, то все сие для приведения себя в лутчее совершенство, а не для того делает, чтоб перед людьми ученым и премудрым казаться <…> (СВ 1747, 207–209).
«Пользу» чтения и его место в жизни дворянства иллюстрирует один из редких у Кантемира положительных персонажей, портрет которого находится в ранней редакции той же сатиры II:
Каков же мой отец был – кто того не знает?
Паллас, Марс, судилище об нем воздыхает:
В делах войны искусен, ран полно все тело;
Битвы, осады, миры – все то его дело <…>
В гражданском правлении, ей, был не последен —
Ришелье и Мазарин пред ним в делах беден.
В науках весьма глубок, над книгами ночи
Просиживал – тем горбат был и слаб на очи.
Библиотека его предивная была,
Хоть не очень велика – совершенна слыла;
Книги разны собраны по лучшей примете…
(Кантемир 1956, 370–371)
Элементы сходного идеального образа инкорпорированы в мемуарную ткань «Чистосердечного признания» Фонвизина:
Отец мой <…> читал <…> все русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг. Он был человек добродетельный и истинный христианин, любил правду и <…> не терпел лжи <…> Ненавидел лихоимства и, быв в таких местах, где люди наживаются, никаких никогда подарков не принимал (Фонвизин 1959, 82).
Здесь имеются в виду академические публикации, выходившие в 1750–1760‐х гг., на памяти родившегося в 1745 г. мемуариста: оплаченные Шуваловым «Мнения Цицероновы… с французскаго языка на российский переведены капитаном Иваном Шишкиным» (1752) и два многотомных исторических труда Шарля Роллена в переводе Тредиаковского: «Древняя история» (1749–1762) и «Римская история» (1761–1767). В предисловии переводчика к «Древней истории» сообщалось, что президент Академии «совершенно уверен о превеликой пользе, кою имеют получить Российскии читатели от издания оныя», поскольку Роллен «благоразумным и высоким Министрам подает способ к твердым и благоуспешным советам» и «острым Политикам предлагает руководство к прозорливым поступкам» (Роллен 1749, без паг.). И в стихах Кантемира, и в мемуарном отрывке Фонвизина чтение «нравоучительных книг» точно так же увязывалось с достойным отправлением государственной службы.
В то же время в категориях государственной «пользы» осмыслялся и дворянский досуг (см.: Живов 2009, 64–67). В посвящении к «Разговору об ортографии» Тредиаковский именовал словесность «увеселением». В «Истинной политике…» читаем:
<…> буде у них еще несколько останется времени, то упражняются они в чтении книг, которыя столько им нравятся, столько их и научают, или <…> трудятся в той из всех наук, к которой больше они имеют охоты и смысла. Самое искусство [опыт] нам показывает, коль великая есть польза таким способом употреблять свободное время <…> (ИП 1745, 72; курсив наш. – К. О.)
Как следует из выделенных курсивом слов, именно назидания дворянских учебников об употреблении досуга стояли за высочайшим указом 1748 г., предписывавшим издание книг, «в которых бы польза и забава соединена была с пристойным к светскому житию нравоучением». Высочайшее определение словесности сращивает категории дворянского социального быта с понятиями классической литературной теории. «Польза» и «увеселение», о которых говорится в посвящении Тредиаковского, складываются в хрестоматийную формулу из «Науки поэзии» Горация. Тредиаковский цитирует ее в предисловии к «Аргениде»:
Подлинно, «все вообще пииты ни о чем больше в сочинениях своих не долженствуют стараться, как чтоб или принесть ими пользу, или усладить читателя, или твердое подать наставление к чесному и добродетельному обхождению в жизни». Но мой Автор все сии соединил в себе преимущества <…> так что можно сказать смело, что «он совокупил полезное с приятным некоторым похвальным и благородным, если притом и непревосходным образом» (Аргенида 1751, I, XIII).
Как видно, формула Горация, часто варьировавшаяся в эстетических декларациях середины XVIII в., вписывала рефлексию о литературе в систему социальных ценностей, определявших культурный обиход дворянства и придворного общества. Замечательное свидетельство этому находим в письме Татищева, одного из внимательнейших читателей словесности 1740‐х гг., к Шумахеру, главе Академической канцелярии, от 7 августа 1747 г. Татищев описывает свои литературные досуги и отзывается на упоминавшиеся выше академические издания:
Я весьма присланными от вас книгами новой печати удовольствовался, ибо когда для болезни писать не могу, то забавляюсь читанием таких, разсуждению нетяжких, а читанию, наставленей мудрых ради, приатных увеселяюсь. Я все сеи, яко же басни Езоповы, Апофтегмата и о возпитании детей, нахожу весьма за полезны и особливо господина Волчкова за его труд и прилежность к доброму, внятному и приатному переводу достойно похвалять не могу <…> Что Езоповых басен принадлежит, то <…> сожалею, что басни, сочиненные покойным князем Кантемиром <…> хвалы достойные, не внесены (Татищев 1990, 326).
Письмо являет в действии культуру назидательного чтения, предписанную аристократической моралистикой. Читая ради отдыха и «забавы», Татищев все равно «увеселяется» «наставленей мудрых ради». Этой читательской потребности отвечают и учебники поведения – в данном случае это «Совершенное воспитание детей», – адресовавшиеся (как мы видим) не только не посвященным в секреты «политики», но и вполне искушенным читателям вроде Татищева. Они могли восприниматься как особый род словесности, точнее – нравоучительной философии; неслучайно тот же Волчков переводил Марка Аврелия и Монтеня. В эту же нишу Татищев помещает и поэзию, представленную в его письме баснями Эзопа и Кантемира. Хотя в корпусе сочинений и переводов Кантемира басни занимают скромное место, нет сомнения в том, что социально-дидактический взгляд на задачи словесности определял всю его литературную работу.
II
Князь А. Д. Кантемир, которого Тредиаковский в 1732 г. наградил титулом «без сомнения главнейшего и искуснейшего пииты российского» (Тредиаковский 1963, 370), был продуктом петровской придворной культуры. Он принадлежал к знатнейшим дворянам империи и получил хорошее образование под руководством профессоров Академии, в том числе Гросса. Посмертная французская биография Кантемира свидетельствует:
Il étudia <…> la Philosophie morale sous Mr. Gross, qui l’avoit aussi conduit dans l’étude des Belles Lettres, & qui, de son aveu, avoit le plus contribué au goût décidé, qu’il a toûjours eu depuis pour la Littérature. Cependant la Philosophie Morale devoit être préférée, selon lui, à toutes les autres Sciences. C’est proprement, disoit-il, la Science de l’Homme, celle qui lui apprend à se connoître, à se conduire, à se rendre utile à la Société.
[Он изучал <…> нравственную философию у г. Гросса, который к тому же сподвиг его на занятия изящной словесностью и который, по его собственному признанию, более всего способствовал решительной склонности, которую он с тех пор испытывал к литературе. Однако же нравственная философия, по его мнению, должна быть предпочтена всем прочим наукам. Это, говорил он, и есть собственно наука о человеке, которая учит его познавать себя, направлять свои поступки и быть полезным обществу.] (Cantemir 1749, 35–36)
Это сообщение, укореняющее литературные интересы Кантемира в прикладной этике, подтверждается разысканиями Х. Грассхофа, обнаружившего множественные переклички между лекциями Гросса и сатирами Кантемира (см.: Grasshoff 1966, 47–60). Как отмечает И. В. Шкляр в работе о мировоззрении Кантемира, «то, на чем основывалось преподавание этики в Академии наук, было также теоретической установкой реформы Петра» (Шкляр 1962, 36). Неудивительно, что Кантемир, остававшийся в числе патронов Академии и присматривавшийся к посту ее президента, соотносил собственные литературные труды с воплотившейся в Академии доктриной государственного просвещения. Государственная монополия на книгопечатание сообщала всем академическим изданиям известную официальность; не удовлетворяясь этим, Кантемир, пересылая свои сочинения для публикации при Академии, требовал для них особого высочайшего одобрения (см.: Гершкович 1962, 195–196). В 1740 г., еще в аннинское царствование, он писал Гроссу:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?