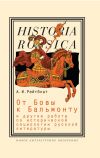Текст книги "Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века"
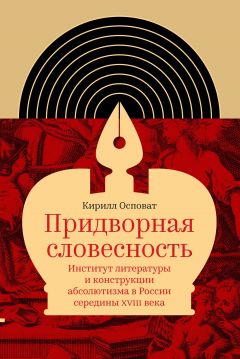
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сей муж, породою и саном быв почтен,
Был музам верный друг до смерти от пелен.
Ко добродетели он путь всегда свой правил
И житием своим свой род и сан прославил.
(Майков 1966, 285)
Ренье видел в поэтических занятиях прелюдию к государственной службе. Кантемир осуществил этот карьерный сценарий: он стал полномочным министром России в Англии и Франции, а в начале 1740‐х гг. обсуждалась возможность его назначения на пост вице-канцлера. Тогда же он пересылал ко двору в Петербург свой итоговый сборник с эпиграфом из Буало, отождествлявшим литературные и общественные амбиции: «Не злословить, но себя оказать меж нами / Жадность правду воружи сатиры стихами» (Кантемир 1956, 442; курсив наш. – К. О.). Стихотворные сочинения, вписавшиеся в общий горизонт государственной книжности, становились одной из опор карьерного роста. Как можно заключить, карьера Кантемира и его литературные труды воплощали происходивший при его жизни социокультурный сдвиг, в результате которого «науки» все больше становились в русском дворянском обществе и государственной иерархии фактором социального престижа, или, в терминологии П. Бурдье, – «культурным капиталом».
III
Значение умершего в 1744 г. Кантемира для литературы елизаветинской эпохи решительно недооценено. Хотя его сочинения, как сетовал в 1755 г. Тредиаковский, «и поныне <…> письменные только обносятся» (Критика 2002, 166), до начала 1760‐х гг. он оставался едва ли не самой почитаемой фигурой русской словесности. Скупой на похвалы Ломоносов в 1748 г. констатировал, что «в российском народе сатиры князя Антиоха Дмитриевича Кантемира с общею апробациею приняты, хотя в них все страсти всякого чина людей самым острым сатирическим жалом проницаются» (Ломоносов, IX, 621). В 1749 г. покойный поэт удостоился беспримерной почести: по инициативе русского двора сборник его сатир вышел во французском переводе (см.: Cantemir 1749; Копанев 1986а), а в 1752 г. последовал немецкий перевод (см.: Kantemir 1752; Grasshoff 1973, 171–180).
В 1762 г. Академия, руководствуясь отчасти коммерческим расчетом, выпустила наконец русское издание «Сатир», ходивших до тех пор в списках и не допускавшихся к печати. Помещенное здесь «Житие… Кантемира» сообщало: «<…> изрядныя наставления подали причину, что многие его стихи вошли в пословицы» (Кантемир 1762, 5). В том же 1762 г. Домашнев счел нужным (в известном противоречии с хронологией) включить Кантемира в канон елизаветинской словесности: «Князь Антиох Кантемир был человек превосходнаго разума. Знатность его породы и чина не препятствовали ему упражняться во всех науках. <…> Россия могла бы ожидать в нем великаго Стихотворца и Философа» (Ефремов 1867, 192).
Литературное воздействие Кантемира не ограничивалось редкими сатирами елизаветинского времени. Вельможный стихотворец и его сочинения образцово воплощали «горацианскую» модель легитимации словесности, доминировавшую в теоретико-литературной рефлексии 1740–1750‐х гг. По приказу Трубецкого в 1744 г., вскоре после смерти Кантемира, при Академии были изданы в его переводе десять первых посланий первой книги Горация с приложением стиховедческого трактата Кантемира «Письмо Харитона Макентина». Хотя соединение двух этих трудов под одной обложкой не входило в намерение автора и было, на первый взгляд, произвольно, за этим стояла определенная культурная логика: «Письма» Горация (к ним примыкало не переведенное Кантемиром «Послание к Пизонам», оно же «Наука поэзии») имели отчетливо выраженное металитературное измерение.
Мы видели уже, что освоение римской тематики у Кантемира опиралось на политическую аналогию между империей Августа и русской монархией (см.: Пумпянский 2000, 41–42; Веселовский 1914, 3–5). Описанные в посланиях Горация отношения поэта к римскому двору могли рассматриваться как образец для русских литераторов и их покровителей. Открывающее книгу послание обращено к Меценату, о котором Кантемир сообщает в примечаниях: «Меценат, к которому письмо сие писано, был один из главнейших министров и временщик Августа Кесаря, над всеми ему любимый, особливый защитник наук и ученых людей, искренний приятель и благодетель Горациев» (Кантемир 1867–1868, I, 390). В III послании первой книги литературные занятия усваиваются придворному обществу:
В чем же упражняется ученая свита?
Да и то желаю знать, кто Августа действа
Писать взялся? Кто войны, кто миры известны
Учинив, позднейший век дивиться заставит?
Чтож делает Тициус <…> который напился
В Пиндаровом, не бледнев, источнике дерзок,
Общих озер, и ручьев воды погнушався? <…>
Латинским ли соглашать струнам стихи ищет
Фивейские, помочью благосклонной музы,
Иль силится в зрелищах трагиков искусства
Неистовство оказать и великолепность?
(Кантемир 1867–1868, I, 416)
К первому стиху Кантемир делает примечание: «Ученая свита. Studiosa Cohors. В сем месте Cohors значит свиту, двор, служителей князя какого. Тибериева свита была от большей части составлена из ученых и грамотных людей». Этот стих Горация мог проецироваться на русские обстоятельства; как известно, словосочетание «studiosa cohors» было источником уже фигурировавшего выше понятия «ученой дружины», которое Феофан употребил в отклике на I сатиру Кантемира (см.: Радовский 1959, 32; Николаев 1996, 111). С. И. Николаев, не обращая внимания на упоминание двора, предлагает понимать под «ученой дружиной» «корпорацию ученых людей вообще», сообщество «деятелей культуры нового типа»; однако горацианский источник вместе с его русским толкованием подтверждают скорее точку зрения М. П. Одесского, усматривающего за этим условным наименованием определенный круг «представителей высшего общества», образованных царедворцев (Одесский 2004, 254). Издание 1744 г. опиралось на культурный узус этого круга.
«Письма» Горация в переводе Кантемира положили начало целой серии теоретико-литературных публикаций, опиравшихся на авторитет римского сатирика. Мы имеем в виду «Сочинения и переводы» (1752) Тредиаковского, содержавшие переложение «Эпистолы к Пизонам о поэзии»; конкурирующий перевод этой эпистолы, выпущенный в 1753 г. учеником Ломоносова Поповским; известные статьи 1755 г. «О качествах стихотворца рассуждение» и «Рассуждение о начале стихотворства», напечатанные в «Ежемесячных сочинениях» Г. Н. Тепловым, наставником К. Г. Разумовского; и, наконец, вышедшие уже в начале екатерининского царствования «Сатиры» Горация в переводе другого ученика Ломоносова, Баркова, с прибавлением «Науки поэзии» в переложении Поповского (1763; см.: Берков 1935а). Барков не только перевел сатиры Горация, но и одновременно подготовил упоминавшееся выше издание сатир Кантемира.
Горацианский язык осмысления словесности был узловым элементом складывавшегося в елизаветинские годы «института литературы». Вписывая литературную деятельность XVIII в. в «„регулярную“ систему метагосударственности», Лотман и Успенский констатируют, что в послепетровской России «социальное творчество переносится из сферы текстов в область „грамматик“» и, в частности, «в литературе этого периода в такой же мере заметно стремление к созданию метатекстов, нормирующих „правильное“ творчество, как и в государственной практике» (Лотман, Успенский 1996а, 432–433, 438). Роль таких «грамматик», в которых регламентация литературы смыкалась с конструкциями политического порядка, играли елизаветинские переводы и вариации Горация.
Пожалуй, самое значительное место в этом ряду принадлежит «Сочинениям и переводам» Тредиаковского. Как указывает в специальной работе А. Б. Шишкин, этот двухтомный сборник многострадального автора представлял собой «более или менее систематично составленный компендиум теории и практики „словесных наук“ (понимаемых достаточно широко), где теоретические положения одновременно иллюстрируются соответствующими примерами» (Шишкин 1982б, 142). Представленная Тредиаковским литературная программа носила отчетливо горацианский характер. Двухтомник открывался стихотворным переложением «Науки о стихотворении и поэзии» Буало, «почерпнутой», по выражению переводчика, из «Флакковы Эпистолы» (Тредиаковский 2009, 7). Затем следовал упоминавшийся выше прозаический перевод «Науки поэзии». Две авторитетнейшие переводные поэтики, благодаря многочисленным перекличкам изъяснявшие и распространявшие друг друга, обеспечивали точку отсчета для восприятия помещенных далее собственных теоретических работ Тредиаковского – известного «Способа к сложению российских стихов», а также не столь масштабных «Мнения о начале поэзии и стихов вообще», «Письма приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии», «Речи… о чистоте российскаго языка» и пр. Кроме того, в сборник вошли два нравоучительных слова, оригинальное и переводное, а также стихотворения «о разных материях», в том числе переложения псалмов и отрывков из других библейских книг, переводы стихов из «Аргениды» и «Нескольких Эзоповых басенок».
С аннинских времен переводы Тредиаковского – «Езда в остров любви», «Истинная политика знатных и благородных особ» и «Аргенида» – находились в средоточии русской придворной словесности. В 1746 г. Елизавета давала понять, что считает их непревзойденными (см.: МИАН VIII, 95), а годом раньше высочайшим распоряжением было оформлено назначение Тредиаковского «профессором как российския, так и латинския элоквенции» Академии наук. По этому поводу он произнес, а затем напечатал с посвящением Воронцову пространную апологию своего ремесла – «Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве». Для этого и других своих опытов в литературной теории Тредиаковский (как и Кантемир) добивался высочайшей санкции. В марте 1751 г. он доносил К. Разумовскому: «Сочинил я довольныя величины книгу о российском стихотворении и поэзии; и поднес оную Ея Императорскому Величеству, которая уповаю и поныне в комнатах Ея Величества обретается» (Тредиаковский 1849, I, 804). В 1752 г., прося академическую канцелярию об издании «Сочинений и переводов», он сообщал: «Ея Величество, по обыкновенной своей щедроте, изволила мне, всеподданнейшему своему рабу <…> пожаловать сумму точно на печатание оных моих двух томов, коих материю высочайшею своею аппробациею чрез тож удостоила» (цит. по: Пекарский 1870–1873, II, 163–164; см. подробнее: Тредиаковский 2009, 483–485). В составе самого сборника о благосклонности Елизаветы к Тредиаковскому и вообще «наукам» говорит «Ода VI. Благодарственная»:
Монархиня велика!
Зерцало героинь! <…>
Приводишь в честь науки,
Созиждешь им и дом;
Их предваришь докуки —
Насытишься плодом:
Те возвеличат славу
И ублажат державу. <…>
Щедрот твоих зрю тайну
Последнему и мне,
Внутрь верность чрезвычайну,
Усердие в огне
Зришь и кладешь со други
За самые заслуги.
(Там же, 172–174)
Комментируя это стихотворение, впервые опубликованное в «Сочинениях и переводах», Я. М. Строчков указывает, что поводом для благодарности Тредиаковского могло быть, помимо назначения 1745 г., «введение первого устава Академии наук, утвержденного Елизаветой 24 июля 1747 г., строительство здания для большого глобуса Петра I после пожара в здании Академии наук 5 декабря 1747 г. <…> повеление отпустить Тредиаковскому книг на 2000 рублей после пожара в его доме 30 октября 1747 г. или обещание императрицы дать средства на печатание подготовленного Тредиаковским двухтомника» (Тредиаковский 1963, 504). Напоминая читателю об оказанных ему высочайших милостях, Тредиаковский преподносил их как следствие воплощенного в Академии покровительства высшей власти «наукам».
Программа такого покровительства была составной частью импортировавшейся Тредиаковским классической поэтики. Авторитетнейший Буало в IV песни «Поэтического искусства» основывал благополучие литературного цеха на благосклонности монарха:
И какой же страх в сей век, в кой наук соборы
Щедры на себя влекут от светила взоры,
В кой премудрый промысл скиптродержного везде
Не дает достойным бедностей познать нигде?
(Тредиаковский 2009, 50)22
В приведенных строках Буало можно было усмотреть очертания действующего социального механизма. Так, в 1749 г. «Санктпетербургские ведомости» сообщали из Версаля, что «король славному стихотворцу, господину Кребиллони старшему <…> определил по 2000 ливров жалованья в год, и притом свободную квартиру в Луврском доме. Сие подало причину некоторому знатному господину при дворе сказать: что подмога стихотворцам особливо надобна, чтоб они в своем намерении от голода препятствия не имели» (цит. по: Старикова 2005, 284–285). Сходным образом при русском дворе смотрели на злоключения Тредиаковского, имевшие некоторый резонанс. Когда он погорел в 1747 г., Татищев утешал его: «<…> е. и. в. всемилостивейшая государыня, прикладом преславного родителя ея, трудясчихся о пользе счедро награждениями изъявлять не оставляет» (Татищев 1990, 329–330). Сам Тредиаковский, несколько преувеличивая, сообщал французскому корреспонденту, что императрица «с подлинно царским великодушием пожаловала мне особым указом, подписанным ее собственной рукой, 3000 рублей», и рассказывал «о великодушной щедрости ко мне едва ли не всех придворных кавалеров и дам» (Письма 1980, 57; ориг. на франц.; не столь радужные документальные свидетельства см.: Пекарский 1870–1873, II, 121–123).
[Закрыть]
Тредиаковский адаптирует эти строки к русским обстоятельствам, вводя в них упоминание «наук собора»: в поэтическом языке – например, в известной ломоносовской оде 1747 г. – так именовалась петербургская Академия. Организационный стереотип академии подразумевал первостепенную роль власти в регулировании культурного пространства, в том числе изящной словесности. Второй том «Сочинений и переводов» открывался «Речью… о чистоте российского языка», произнесенной Тредиаковским в 1735 г. в связи с учреждением при петербургской Академии наук недолговечного литературного подразделения – так называемого Российского собрания. Его утопической целью – по примеру Французской академии – провозглашалась кодификация нового литературного языка, источником которого должен был стать «двор ея величества в слове учтивейший», «благоразумнейшие ея министры» и «знатнейшее и искуснейшее благородных сословие» (Там же, 149; см.: Успенский 2008, 118–120; Живов 2002а, 573–574). Кроме того, Российское собрание должно было составить нормативную «стихотворную науку» (Тредиаковский 2009, 146).
Неслучайно поэтому, что с академической идеей связывались стихотворные поэтики Горация и Буало, в переводе Тредиаковского прививавшие русской словесности не только новые для нее литературные формы, но и определенную модель «института литературы». В одном из примечаний Тредиаковский приводит сообщение «древнего толкователя» о том, что упомянутый Горацием ценитель словесности Меций входил в ареопаг критиков, собиравшихся в Риме «в храме Аполлиновом, или Музам посвященном», – и добавляет: «Сей есть преславный повод к нынешним Академиям Словесным и касающимся до чистоты языка» (Там же, 65). Дасье – чьим изданием Горация вслед за Кантемиром пользовался и Тредиаковский – приводил версию о том, что сама «Наука поэзии» была издана от имени литературной академии, учрежденной Августом (см.: Horace 1735, 70–71). В таком истолковании горацианская доктрина служила «абсолютистской» регламентации литературы и вписывала ее в число государственных институтов.
В самой «Науке поэзии» стихотворные назидания объявляются одной из исконных основ гражданского порядка:
В древние времена в сем состояла мудрость, чтоб отличать общее от собственного, священное от мирского, чтоб запрещать скверное любодеяние и подавать правила к сожитию сочетавшимся законно, чтоб городы строить и уставы вырезывать на дереве. Сим честь и славу божественные прорицатели и их стихи себе получили. После сих знаменитый Гомер и Тиртей мужественные сердца на военные действия изострил стихами. Стихами ответы давались божеские. Стихами исправляемы были нравы, и все учение состояло. Стихами приходили пииты и у царей в милость (Тредиаковский 2009, 65).
В послании «К Августу» (II, 1) Гораций, как поясняет в примечании к своему переводу Кантемир, увещевает императора «ободрять стихотворство своим великодушием», поскольку оно наставляет «младенцев»:
Хотя он [стихотворец] ленив к войне и негоден,
Полезен отечеству, буде ты признаешь,
Что великим малые вещи пособляют.
Уста шепетливые, нежные младенца
Складно речь изображать стихотворец учит;
В самом мягком возрасте от скверных отводит
Речей ухо, и потом сердце исправляет
Сладким наставлением, изгоняя зависть,
Суровость, гордость и гнев. Поет дела славны,
Собит наступающим временам примеры <…>
(Кантемир 1867–1868, I, 516, 526–527)
В «Слове о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве» Тредиаковский призывал ученых соотечественников:
<…> да обогащают Россию выборнейшими Книгами; да утоляют жажду во многих, которую они имеют к чтению, к получению наставления, к наслаждению разума и сердца, к приобретению не токмо бóльшаго в разуме просвещения, но, что вящшее есть, и твердейшаго исправления в добродетельное сердце; да будут, да будут благовременно и себе, и всему Отечеству, и Самодержице, и православной Церькви, чрез такие труды полезнейшими и нужнейшими людьми <…> (Тредиаковский 1849, III, 585).
В соответствии с этими представлениями о задачах литературы выстраивалась и система требований к ней. В статье «О качествах стихотворца рассуждение», в которой П. Н. Берков справедливо обнаруживает «серьезную программу литературы как гражданского служения» (Берков 1936, 170), Теплов поучает будущего поэта:
Положи основание по правилам Философии практической к благонравию. <…> Когда Сафо, когда Анакреонт, в сластолюбиях утопленны, мысли свои писали не закрыто, когда Люкреций в натуре дерзновенен, когда Люциан в баснях бесстыден, Петроний соблазняет, оставь то веку их, к тому привычному, а сам угождай своему и нежности и в словах благопристойных. Ежели из правил политических знаешь уже должность гражданина, должность друга и должность в доме хозяина, и все статьи, которых практика в Философии поучает; то стихами богатства мыслей не трудно уже украшать, был бы только дух в тебе стихотворческой.
Материю о всем у Сократа найдешь,
К материи слова не трудно приберешь.
(Цит. по: Берков 1936, 183–184)
Как тут же поясняется в сноске, Теплов цитирует «Науку поэзии» Горация, – тот фрагмент ее, где сочинителям действительно предписывается познание «правил политических»:
<…> материю могут вам подать философические Сократовы книги, а речи за промышленною материею сами потекут. Кто познал чрез учение, что он должен отечеству и что приятелям, как должно почитать родителя, как любить брата и обходиться с гостем; какая сенаторская и какая судейская должность, наконец, в чем состоит служба на войну посланного полководца, – тот поистине умеет каждую особу описать прилично и дать ей слова по ея свойству (Тредиаковский 2009, 62).
Теплов в статьях 1755 г. фактически сводит всю словесность к «учительным поэмам» (см.: Берков 1936, 184). По всей видимости, под этим термином следует понимать не особый жанр, но всякий назидательный вымысел. Работа Тредиаковского «Мнение о начале поэзии и стихов вообще», вошедшая в «Сочинения и переводы», заканчивается пространной выпиской из Роллена о воспитательной задаче всех основных литературных родов – эпической поэмы, оды, трагедии, комедии, сатиры и проч.: «<…> с самого начала все они шли к одной цели, а именно, чтоб сделать человеков лучшими» (Тредиаковский 2009, 109).
Горацианские теоретические сочинения не только диктовали литературную норму, но и определяли лицо своей аудитории, осуществляя социальную канонизацию словесности в качестве инструмента (само)воспитания элиты. В одном из переведенных Кантемиром «Писем» Горация (I, 2) подробно изъясняются культурные функции чтения:
Знамените Лоллие, пока удивляешь
Ты Рим сладкоречием, я прочел в Пренесте
Троянской списателя войны, кой Хрисиппа
И Краптора учит нас пространней и лучше,
Что честно, что гнусно нам, что к пользе, что вредно.
Для чего я так сужу, коль досуг – послушай.
Баснь, в ней же описана греков многолетна
С варвары война любви Парисовой ради,
Народов неистовство и царей содержит. <…>
Добродетели, впротив, и мудрости силы
Полезный представил нам образец в Улиссе <…>
Еслиб он с сопутники, безсмыслен и жаден
<…> остался бы во власти блудницы
Глуп и гнусен; прожил бы или псом нечистым,
Иль сластолюбивою в стыд себе свиньею.
Себя можем мы узнать в женихах докучных
Пенелопы, что число умножать лишь годны,
И рождены пожирать плод земли бездельно.
Мы моты, и молодцы Алциновой свиты.
Прилежны нежить свое тело через меру,
Коим лутче всего спать мнилось до полудни,
И под звуком засыпать гуслей свои думы. <…>
Если ты требовать не будешь
Пред зорей книгу с свечой, и сердце к наукам
И к честных дел знанию свое не приложишь,
Любовь иль зависть, отняв сон, тебя измучит. <…>
Теперь, пока молод, ты в чисто прими сердце
Мои слова; теперь ты вручи себя лучшим
Наставникам, и делам обыкай полезным. <…>
(Кантемир 1867–1868, I, 407–414)
Читательские презумпции, заставляющие рассматривать поэмы Гомера и другие основополагающие тексты европейской литературной традиции в качестве источника политических и нравственных истин, были хорошо укоренены в русской культуре середины XVIII в. Мы уже видели, что Ломоносов в «Риторике» – как и Феофан в «Поэтике» – называл эпические сочинения Гомера и Вергилия в числе «смешанных вымыслов», «с которыми соединено бывает нравоучение», и связывал этот теоретико-литературный тезис с осуждением «людей, время свое тщетно препровождающих» и склонных «к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях». Сходное назидание Гораций выводит из истории Одиссея и его спутников. Дидактическая аналогия между гомеровскими героями и современниками поэта обнажается в строках: «Себя можем мы узнать в женихах докучных <…> Мы моты, и молодцы Алциновой свиты. / Прилежны нежить свое тело чрез меру», – к которым Кантемир делает пояснение: «<…> молодые придворные Алциноя <…> Житье тех молодиков состояло в праздности и в сластолюбии. Алциной сам о своем дворе говорит в 8 книге Одиссеи: Празднества, музыка, танцы, убор, бани, сон, праздность составляют наши упражнении» (Там же, 410–411). Сам Гораций тоже обращался к придворным: адресат его послания Лоллий, как сообщается в примечаниях Кантемира, был военачальник и приближенный Августа, «человек в правительстве не меньше чем в любомудрии искусный». Кантемир так объясняет цель этого послания:
Гораций, будучи в деревни и читав Илиаду и Одиссею греческаго стихотворца Омира, причину от того берет писать к Лоллию, чтоб ему подать советы против зависти, сребролюбия, любосластия и гнева, злонравии, которым Лоллия вдаваться усмотревал. Но советы те таким искусным образом представляет, что кажется больше наставлять, каким образом должно честь помянутаго князя стихотворцов, и какую в том чтении пользу весь свет искать должен, чем обличать приятеля (Там же, 407).
Гораций предписывает придворной аудитории культурные модели чтения, приобщающие ее к определенному нравственному кодексу, и моделирует архетипическую ситуацию воспитания читателя. «Воспитание» в данном случае можно понимать буквально: Лоллий «пока молод» и обладает «чистым сердцем». Именно таков облик лучшего читателя «басен», как названы в послании поэмы Гомера.
«Басня» в такой интерпретации вообще оказывается важнейшим изводом «вымысла». В «Риторике» Ломоносов объединяет под названием «вымыслов» древние эпические поэмы и «новые» политические романы с «трагедиями, комедиями, эклогами» и «Езоповыми притчами» (Ломоносов, VII, 222–223). «Эзоповы басенки», которыми завершается первый том «Сочинений и переводов» Тредиаковского, могут в этой перспективе рассматриваться как своеобразная квинтэссенция нравоучительной литературы. В подборку Тредиаковского входит басня «Сынок и мать»:
Всяк день в будни мальчик в школу к мастеру ходил,
Там когда тетрадки каждый так не хоронил
Ученик, как надлежит, в ящик за замочек,
Оные тот кражей брал добренький сыночек
И домой вседневно к матери носил своей.
Кража та ребячья нравилась толь много ей,
Что не только никогда сына не стегала,
Да и окриков за ту с бранью не давала.
Воровать тот в малом утвердил свою как страсть,
Так уж и большое, выросши большой, стал красть.
Некогда ж на воровстве явном он поиман
А на пытку, много раз бывши в том, подыман.
На-смерть напоследок достодолжно осужден
И на место казни прямо был уж приведен. <…>
Вот же что и говорил: <…>
«<…> Если б за тетрадки, в малолетстве что крал я,
Был хотя однажды прутом сечен от нея,
То уж красть бы больше мне было неугодно,
И сегодни б не висеть в петле всенародно».
(Тредиаковский 2009, 124–125)
В «Езоповых баснях» с разъяснениями Р. Летранжа, вышедших в переводе Волчкова за несколько лет до «Сочинений и переводов», смысл этой басни поясняется так: «Злые нравы и склонности у детей надлежит заблаговременно укрощать, дабы из того обычай не зделался, которой очень трудно отменить» (Эзоп 1747, 305). «Злые нравы и склонности» оборачиваются в данном случае нарушением общественного закона; чтобы защитить его, традиционная власть, государственная и родительская, должна прививать гражданскую дисциплину при помощи школы. Притча о пользе прилежной учебы и печальной судьбе плохого ученика оказывается своего рода метапритчей. Ее мораль совпадает с педагогическими постулатами, при помощи которых доказывалась польза басен как таковых. В предисловии к изданию Летранжа–Волчкова говорится:
<…> кто <…> себе образами или баснями полезное нравоучение представляет, все то учинил, что в малолетной поступке к честному и добродетельному житию способствовать может. А без сего бы заблаговременнаго рачения и прилежнаго примечания, почти всякаго человека от пелен за потеряннаго почитать надлежало; по тому что с молоду воображаемое в нас учение до смерти пребывает, а доброе воспитание человека совершенным творит (Там же, 3).
Идея воспитания, на которой основывается Летранж, определяла прикладную этику дворянских руководств; у Грасиана читаем: «Человек родится суров, и ничем от животных, кроме учения, не разнится; а чем более учен, тем более человек бывает <…> Ничто так не грубо, как незнание, и никакая вещь человека более политичным не творит, как наука» (Грасиан 1760, 14, 127). Теплов, парафразируя Аристотеля, в «Рассуждении о начале стихотворства» объяснял зарождение поэзии склонностью человека «к подражанию и к переимке видимого перед собою образца» – той самой склонностью, благодаря которой «воспитание делает младенца иным на возрасте человеком». Поэтологические выкладки Теплова отталкивались от педагогической утопии:
Хотя народы разный язык имеющие имеют разные нравы, разные обычаи и разные вкусы, но то бывает по причине воспитания. Ежели бы дикого и степного человека от самого рождения воспитать в истинном благонравии и просвещении наук политических, то какова бы его природа ни была, он всегда уж будет инородный своим родителям (цит. по: Берков 1936, 191).
Литературный канон представал слепком с процедур социального воспитания. В «Сочинениях и переводах» Тредиаковский напечатал «Слово о мудрости, благоразумии и добродетели», возражавшее на знаменитое рассуждение Руссо о вреде наук. Согласно официальному объявлению Тредиаковского, его слово было лично одобрено Шуваловым (см.: Пекарский 1870–1873, II, 167–168). Классическая литература инкорпорировалась здесь в нормативную модель политического воспитания:
Вами, вами самими, о! глубокие наши мудролюбцы, благоразумные законоположники, краснословные витии, сладкопесненные стихотворцы, свидетельствуемся, коих многие сочинения христианскими не без великия обращаются пользы руками, свидетельствуемся вами и вас взываем, не от вас ли предано, что «мудрость есть матерь всем изрядным учениям и царица всем добродетелям, коея ни полезнее, ни преславнее, ни бесценнее ничто не дано свыше человеческой жизни»? Не наши ль восклицания побуждают не токмо обучаться мудрости, но и самой добродетели? Не гласят ли они: «научись, о! каждый отрок, добродетели и совокупно постоянному, великодушному да и достодолжному трудолюбию»? Не мы ль и поныне в книгах вопием наших: «кто обучился исправно и верно преизящным наукам, тот свои нравы и украсил добродетелию, и умягчил их, и удобрил, и совокупно не стал быть ни диким, ни грубым, ни невеждою»? Так громогласно трубят на неисчетных местах в сочинениях своих все оные язычники! Того ради не науки, поистине, не науки причиною развращенных нравов, но, почитай, общее презрение к учениям и потом злое употребление рассуждения, необузданная страсть, слабость попущенная природы, прелесть мирских сластей и роскошей <…>
<…> о! российские всякого чина и состояния чада, не взирая на недостойную сию клевету и злословие и удостоверяясь, всеконечно, что нет полезнее и спасительнее благих и разумных учений человеческому роду, снискивайте мудрость, научайтесь благоразумию и навыкайте добродетели от мягких ногтей. Проложен прямый и гладкий путь, ведущий к священному храму наук, отверсты и царские врата к самому их престолу – всем вам вход невозбранен. Внидите в самое их внутреннее обиталище, приимут вас там и обымут радостно, ласкосердо и приветливо святые, красноличные и сладкопеснивые музы. Не пренебрегайте, как златокованныя, сея душевныя утвари, не презирайте и бесценного сего дара, коим всем нам милостивно обогащаемым быть и наслаждаться судила, повелела и даровала к тому способ чрезвычайно действительный, как безмерно щедрый, общая Матерь Отечества, пресветлая, державнейшая, великая государыня императрица, Елисавета Первая, самодержица всероссийская. <…>
И се паки к вам, российски удобопоятные юноши, слово при окончании. Не пренебрегайте, повторяю и повторить о сем не могу довольно, и не отщетевайтесь толикого вам благодеяния от толикия и таковыя монархини и Матери. Возжелайте просвещаемы быть учениями и украшаемы добронравием вяще и вяще. Все вас к тому призывает: польза Отечества, должностей звание, почесть за изрядные услуги, слава и хвала за трудоположение и подвиги; собственное при том увеселение, подражание мудрым еще народам, честь в сравнении тем себя с ними или и в превышении оных; а всего более – душевное спасение (Тредиаковский 2009, 316–317, 320–321).
Необходимость «учений» Тредиаковский обосновывает речениями Цицерона, Вергилия и Овидия (имена авторов педантично приведены в сносках). Защита поэзии ассимилируется с идеологией государственного воспитания, стоявшей за деятельностью Академии и ее учебных подразделений, в очередной раз оживленных в 1747 г. при непосредственном участии Тредиаковского. Ссылаясь на волю императрицы, Тредиаковский имел в виду высочайше утвержденный академический Регламент 1747 г., провозглашавший: «<…> весьма бы не мешало, ежели бы во всех состояниях, как военном, так и гражданском, внутрь и вне государства были российские люди ученые». Учеба в университете должна была обеспечивать преимущества по службе («почесть за изрядные услуги»): «Дворяне также имеют своих авантажей ожидать, как и в кадецком корпусе, ежели они по экзамене академическом явятся в науках довольны <…> ежели обучатся такие свободные люди высоких наук, о таких делать представление в надлежащих местах, дабы они определены были в штатские чины по достоинствам их, и давать им ранги обер-офицеров армейских» (Уставы 1999, 60).
IV
Предназначая свой сборник «для Юношества» (Тредиаковский 2009, 15), Тредиаковский вместе с литературными познаниями предлагал своим читателям групповой социальный и политический идеал. Среди прочего, в «Сочинения и переводы» вошли два дидактических стихотворения – «Образ человека христианина» и «Образ добродетельного человека». Второе из них, переведенное из Фенелона, публиковалось до этого вместе с «Истинной политикой знатных и благородных особ», а в его оригинальном заглавии вместо «добродетельного человека» фигурирует понятие honnête homme, французское самоназвание членов высшего общества (см.: Тредиаковский 2009, 648–649). Обобщенный облик адресата, стилизованный в соответствии с аристократическим идеалом, очерчивается в кратком «Заключении» к двухтомнику Тредиаковского под видом похвалы неназванному меценату (надо думать, И. И. Шувалову), —
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?