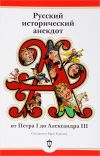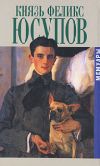Текст книги "Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века"
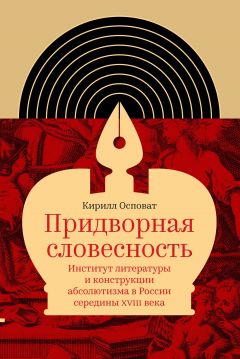
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Так может быть для всех сатиры брань страшна?
Кто совести в себе и чести не имеет,
Хоть надорвись браня, так тот не покраснеет.
Когда признания в ком нет и нет стыда,
Слова его ничем не тронут никогда,
Не любит сын отца, что он содержит грозно,
Потом, что в воле жил, раскается, но поздно.
(Поэты 1972, II, 398–399)
Мерцающее соотнесение фигуры сатирика с патриархальным идеалом отца было устойчивым жанровым ходом и восходило к Горацию. Римский поэт обосновывал собственный авторитет ссылками на воспитание, полученное под руководством отца (см.: Oliensis 1998, 24–26, 33–34). Процитируем сатиру I, 6 в переводе Баркова (1763):
Когда алчбы во мне и гадкости не видно,
Когда я по шинкам не волочусь безстыдно,
Но в непорочности похвально жизнь веду,
И мил за то друзьям, что верность к ним блюду:
Всему тому был труд родителя причиной <…>
Кой <…> для наук меня в Рим отвезти потщился,
Где вместе я с детьми шляхетскими учился,
И меж Сенаторских был наставляем чад. <…>
Он не был от меня отлучен никогда,
Храня обычаи от всякаго вреда;
При всех учителях старался сам прележно,
Чтоб стыд был вкоренен воперьвых в сердце нежно,
Стыд, добродетели краса и перьва честь,
И чтоб не только зла не смел я произвесть,
Но чтоб безчестнаго и слова опасался.
(Барков 2004, 90)
Хотя этические назидания иллюстрируются у Горация примером двух плебеев – самого поэта и его отца, «отпущенника», – однако наставления сатирика предназначались далеко не только честолюбивым простолюдинам, но и самим «римским вельможам». Сатиру I, 6 Гораций адресовал Меценату, своему могущественному и родовитому покровителю, и вменял ему – а на его примере и всему знатному сословию – свое понятие о сословном достоинстве. Как объяснял Барков (близко следуя комментариям Дасье к этой же сатире), Гораций в сатирах «наиболее всего доказывает, что прямое благородство состоит не в знатности и древности предков и не в великом достоинстве, но единственно в добродетели, которой знатные Римские вельможи для безмерной роскоши весьма мало последовали» (Гораций 1763, без паг.). Сумароков заимствовал это толкование «Сатир» римского поэта в «Эпистоле II»:
Гораций <…> страстям ругался,
В которых римлянин безумно упражнялся.
(Сумароков 1957, 125)
История воспитания Горация инсценировала архетипическую для сатиры коммуникативную ситуацию отцовского наставления – и одновременно являла пример преемственной родовой добродетели, «прямого» аристократического наследования. Такое наследование, парадоксально сближенное с этосом «новых людей» (в послепетровской России ему соответствовала идеология Табели о рангах), обеспечивается образованием: отец отдал сына лучшим учителям, так что тот «вместе <…> с детьми шляхетскими учился, / И меж Сенаторских был наставляем чад». Неудивительно, что обличение «родителей, пренебрегающих воспитанием» стало общим местом сатирической традиции (Щеглов 2004, 352–354). В частности, к этой теме обращался Кантемир в программной «Сатире VII. О воспитании»:
Петр, отец наш, никаким трудом утомленный,
Когда труды его нам в пользу были нужны.
Училища основал, где промысл услужный
В пути добродетелей имел бы наставить
Младенцев <…>
Был тот труд корень нашей славы:
Мужи вышли, годные к мирным и военным
Делам, внукам памятны нашим отдаленным.
Но скоро полезные презренны бывают
Дела, кои лакомым чувствам не ласкают. <…>
Детям уж богатое оставить наследство
Печемся, потеем в том; каково их детство
Проходит – редко на ум двум или трем всходит;
И у кого не одна в безделках исходит
Тысяча – малейшего расхода жалеет
К наставлению детей; когда же шалеет
Сын, в возраст пришед, отец тужит и стыдится.
Напрасно вину свалить с плеч своих он тщится:
Богатства сыну копил – презрел в сердце нравы
Добры всадить.
(Кантемир 1956, 158–159)
Под пером Кантемира – с сатирами которого, как мы помним, Ломоносов соотносил «Две эпистолы» Сумарокова – язык горацианской сатиры транслировал идеологию государственного образования дворян и, в частности, «публичных училищ». К их числу относились Академическая гимназия, где учился сам Кантемир, и Сухопутный шляхетный корпус.
Кантемир переложил стихами гимназическую оду 1731 г. и с молодыми поэтами «рыцарской академии» говорил на одном поэтическом наречии. В цитировавшейся только что сатире «О воспитании» (1739) сказано, что из петровских школ «Мужи вышли, годные к мирным и военным / Делам», что «Главно воспитания в том состоит дело, / <…> чтоб чрез то полезен / Сын твой был отечеству» и что такое воспитание «может быть, к чину / Высшему отворит вход» (Там же). Четырьмя годами ранее необходимость образования для службы изъяснялась в корпусном панегирике «Еже Россиа ныне восклицает…» (СПб., 1735), взывавшем к императрице Анне от имени «юности Твоего народа» (без паг.):
Прежде мы в незнании провождали лета,
Ты же отворила нам учения света.
Которои путь истинныи к жизни нам являет,
И в не лености сущих ясно озаряет.
Кто по учреждениям ревностно поступит,
Тот особливо пользу с честию доступит. <…>
И дабы за прилежность нашу наградити,
Тщится со возвышением милость приложити.
Эти мотивы варьируются в собственной корпусной оде Сумарокова (1740), где от лица всех кадет провозглашается:
Анна, мы с тобой видим свет науки!
Анна, нам и впредь матерь буди, буди!
Мы из ничего становимся люди.
Ты ж бы здесь когда, матерь, не владала,
Жизнь бы наших лет даром пропадала.
(Сумароков 1957, 51)
Емкая формула «из ничего становимся люди» суммирует роль образования, обеспечивающего политическое существование дворянина. Спустя несколько лет Кантемир, наставляя в «Сатире II. На зависть и гордость дворян злонравных» нерадивого дворянина Евгения, включал сходную метафору в портрет совершенного государственного мужа:
За красным судить сукном Адамлевы чада
Иль править достоин тот, кому совесть чиста <…>
Наизусть он знает все естественны прáва,
Из нашего высосал весь он сок устава,
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный.
(Кантемир 1956, 74–75; курсив наш. – К. О.)66
Строки Кантемира и Сумарокова восходят, несомненно, к общему источнику – речи канцлера Г. И. Головкина, произнесенной в 1721 г. при вручении Петру I императорского титула, где говорилось: «<…> мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света и, тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены» (ПСЗ VI, 445). Этот факт, однако, не упраздняет вопроса об общности «доломоносовского» поэтического языка 1730‐х – начала 1740‐х гг. Текстологические выкладки З. И. Гершковича позволяют гипотетически восстановить пути возможного взаимодействия «Сатиры II» с ранними стихами Сумарокова. В «первоначальной» редакции сатиры, сложившейся к 1731 г., строки «Коими стали мы вдруг народ уже новый» нет. По сообщению Гершковича, содержащая эту строку «окончательная редакция определилась к началу 1743 г.» (Кантемир 1956, 445), то есть спустя три года после публикации сумароковских од на новый 1740 г. Гершкович указывает на существование двух бытовавших в России промежуточных редакций сатир, в том числе «Сатиры II», но датирует их октябрем–ноябрем 1740 г. и началом 1742 г. (Там же, 502). Если эти датировки верны, то можно предположить, что оформлению интересующего нас стиха предшествовало знакомство Кантемира с одой Сумарокова. Хорошо известно, что Кантемир выписывал книги, выходившие в Академии наук; перевод гимназической оды подтверждает его интерес к печатавшейся там стихотворной продукции столичных школ. Этот перевод был осуществлен «с русского готового переводу» (Кантемир 1956, 466; Алексеева 2005, 72–75). Таким образом, в обоих случаях Кантемир выказывает собственное мастерство, соревнуясь с младшими собратьями по перу в освоении их собственного литературного материала.
[Закрыть]
Очерченный Кантемиром педагогический идеал соответствовал постоянным усилиям русской монархии «внушить дворянству хотя бы какую-то озабоченность состоянием правосудия», описанным в исследовании Р. Уортмана: «В течение целого столетия самодержавие донимало дворян официальными призывами не гнушаться канцелярской службой и утверждало ее достоинство вопреки всякой очевидности». Как точно отмечает Уортман, правосудие теоретически должно было исполнять ту же воспитательную и «дидактическую роль, которая признавалась в XVIII в. за литературой». Изящная словесность – в том числе сатиры самого Сумарокова – постоянно трактовала обязанности судей, и вопросы дворянского образования рассматривались в этой государственно-прагматической перспективе (Уортман 2004, 75–83).
В «Эпистоле I» перечислялись формы освоения родного языка, обоснованные педагогическими теориями и применявшиеся в Сухопутном корпусе для воспитания государственных мужей. В их число входили переводы: кадеты должны были «трактовать немецким, русским, французским слогом, делать переводы в сих языках» (Долгова 2007, 79). Кроме того, Сумароков подробно останавливается на двух речевых жанрах – личном письме и торжественной речи:
Письмо, что грамоткой простой народ зовет,
С отсутствующими обычну речь ведет,
Быть должно без затей и кратко сочиненно,
Как просто говорим, так просто изъясненно.
Но кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.
Слова, которые пред обществом бывают,
Хоть их пером, хотя языком предлагают,
Гораздо должны быть пышняе сложены,
И риторски б красы в них были включены,
Которые в простых словах хоть необычны,
Но к важности речей потребны и приличны
Для изъяснения рассудка и страстей,
Чтоб тем входить в сердца и привлекать людей.
(Сумароков 1957, 113–114)
В программе обучения кадет фигурировало «письмо и составление писем» (Берк 1997, 228). Локк рекомендовал обучать юношей «писать письма, не требуя того, чтобы в них показывали остроту разума, или излишия учтивости, но научая их изъяснять свои мысли просто, не збивчиво, легко и натурально <…> Писать письма толь великая всякому нужда, что ни один благородный человек избежать того не может, чтобы чрез них не показать своего разума» (Локк 1759, II, 202–203).
По торжественным случаям ученики корпуса выступали с речами (см.: Берк 1997, 229): риторическое искусство считалось необходимым навыком будущих государственных мужей. Татищев, причастный к созданию Сухопутного корпуса (см.: Федюкин 2018, 260), подробно излагал свои представления о «шляхетских школах» в «Разговоре двух приятелей», где, в частности, писал: «<…> человеку, обретающемуся в гражданской услуге, а наипаче в чинах высоких <…> полезно, а иногда и нуждно знать красноречие» (Татищев 1979, 91).
Общие требования стиля, составлявшие едва ли не главную тему «Эпистолы I», также были связаны с нуждами «гражданской услуги». Известно, что правительственные реформаторы добивались внятности государственного делопроизводства (Уортман 2004, 182; Живов 2002в, 265–266). В 1764 г. Панин за столом у наследника хвалил «штиль Иностранной коллегии», а его собеседники жаловались, «что нигде такого черствого штиля нет, как в Военной коллегии» и «как худо у них в Комиссии о коммерции пишут» (Порошин 2004, 57). Кн. Т. К. Голицына писала в 1756 г. своему сыну-дипломату за границу:
Что же у вас не имеетца исправных писцов в руском езыке, надеюсь и здесь весьма немнога. Етаму причина, что росиские почьти все не учется по ортографи[и] росиской писать. А паче дварянство х таму прилежание не имеют. Пот[ь]ячие не по науке, болше по практике исправно пишут (Писаренко 2007, 40).
Восполняя этот дефицит, употреблению языка «по науке» старались обучать в Сухопутном корпусе и других образовательных учреждениях. Осведомленный биограф Шувалова (в 1762 г. ненадолго возглавившего Шляхетный корпус – см.: Наумов 2007) сообщал:
Шувалов пекся об основании московскаго Императорскаго университета. Сие полезное и на пристойных правлению нашему правилах основанное учреждение принесло России не малую пользу, образовав множество людей способных к употреблению в службе: ибо до сего времени, в штатской или гражданской, мы имели токмо в нижних чинах, что называлось, подьячих, едва умеющих читать и писать, и то без порядочнаго расположения речи и слогу и без всякаго притом почти правописания, от чего запутывались дела и не мало судьям причиняли затруднения в их разбирательстве. Сверх того обучившиеся в университете молодые люди, и получив кроме наук хорошее нравственное воспитание, умели себя вести добропорядочно и достигали до больших чинов. Равным образом и некоторые дворяне, получивши также свое просвещение в университете с отличностию отечеству служили (Голицын 1853, 90–91)
У Сумарокова хрестоматийная апология ясного слога также соседствует с осуждением подьячих:
Кто пишет, должен мысль прочистить наперед
И прежде самому себе подать в том свет;
Но многие писцы о том не рассуждают,
Довольны только тем, что речи составляют.
Несмысленны чтецы, хотя их не поймут,
Дивятся им и мнят, что будто тайна тут,
И, разум свой покрыв, читая темнотою,
Невнятный склад писца приемлют красотою.
Нет тайны никакой безумственно писать,
Искусство – чтоб свой слог исправно предлагать,
Чтоб мнение творца воображалось ясно
И речи бы текли свободно и согласно. <…>
Но льзя ли требовать от нас исправна слога?
Затворена к нему в учении дорога.
Лишь только ты склады немного поучи,
Изволь писать «Бову», «Петра Златы ключи».
Подьячий говорит: «Писание тут нежно,
Ты будешь человек, учися лишь прилежно!»
И я то думаю, что будешь человек,
Однако грамоте не станешь знать вовек.
Хоть лучшим почерком, с подьяческа совета,
Четыре литеры сплетай ты в слово «лета»
И вычурно писать научишься «конец»,
Поверь, что никогда не будешь ты писец.
(Сумароков 1957, 113–115)
Исследователи привыкли относить сумароковские насмешки и предписания к изящной словесности. Действительно, поэт осмеивает лубочные романы, а процитированным стихам предпосылает издевки над писателем (как принято думать, Тредиаковским), который «прозой и стихом ползет» (Там же, 113; см.: Гринберг, Успенский 2008, 225). Однако сумароковское рассмотрение «русского языка» не ограничивается собственно литературной продукцией. Следуя логике текста (и учитывая словоупотребление Голицыной), под «писцом» или «творцом» нужно понимать не только неудачливого беллетриста и стихотворца, но и делового автора писем и речей.
Обращенное к нему требование «знать грамоте» принадлежит вполне определенному идейному контексту. «Лексикон» Татищева, ожидавший печати при Академии в те же годы, когда сочинялись и издавались «Две эпистолы», в двух соседних статьях давал почти тождественные дефиниции «грамоты» и «грамматики», которая
<…> представляет правила не токмо другого языка скоро и правильно научиться, но и свои совершенно разуметь и правильно писать, еже особливо в делах, разсуждения остраго подлежащих, яко в законех, указех или определениях (Татищев 1979, 246).
Практический вопрос вразумительности государственных актов, по всей видимости, был фоном для опытов языковой нормализации. В 1736 г. Татищев отозвался на «Речь… о чистоте российского языка» Тредиаковского длинным письмом, где обосновывал потребность в «исправлении языка» и хвалил начало «столь нуждного и чрез много лет желаемого дела». Вопрос о языке Татищев связывал с проблемой ясности законов, над которой, по его мнению, власть должна работать вместе с литературой:
<…> чужестранных слов наиболее самохвальные и никакого языка не знающие секретари и подьячие мешают, которые глупость крайную за великой себе разум почитают и, чем стыдиться надобно, тем хвастают. И сие мнится мне, хотя не вскоре, но исправить удобно в канцеляриях указом, а во употреблении народном – общим представлением и пристойными сатиры или сложенными комедиами и вымышленными разговорами, подобием спектатора. <…>
Главное и нужнейшее есть дело всякому человеку закон божий и гражданский разуметь, дабы всяк оные хранить мог. <…> надобно, чтоб закон просто и внятно таким языком написан был, которым подзаконные говорят, чтоб и простейшей человек силу закона и волю законодавца правильно разуметь мог. <…> (Татищев 1990, 224).
Внятность закона представлялась важнейшим условием правильной работы всего государственного механизма (ср.: Фуко 1999, 139–140). Описывая утопическое «счастливое общество», Сумароков не забыл упомянуть, что «в Государственном совете и во всех судебных местах <…> писцы их пишут очень коротко и ясно» (Сумароков 1787, VI, 366). Ясность в сообщении власти и подданных должна была обеспечиваться не только стилем законодателя, но и распространяющейся грамотностью. О «счастливом обществе» Сумароков писал: «Книга узаконений их не больше нашего Календаря, и у всех выучена наизусть, а грамоте тамо все знают» (Там же, 365). В «Слове на день коронования Екатерины II» Сумароков вменял эту утопическую программу новой императрице и возвращался к положениям «Эпистолы I»:
<…> повели <….> основати училищи готовящимся исправити и наблюдати, предприятыя премудростию Твоею законы! Повели перед писцами разогнути книгу естественныя грамматики, начало нашего пред животными преимущества, которыя многия наши писцы и по имени не знают! Повели им научиться изображати дела ясно, мыслить обстоятельно и порядочно, дабы знало общество, что написано; ибо без того и те могут противузаконствовать, которыя Монаршу волю всею силою исполняти устремляются <…> (Там же, II, 235–236).
Политико-административный идеал прозрачного делопроизводства и незамутненного сообщения между верховной властью и подданными стоял за сатирическим осмеянием подьячих, к которому Сумароков многократно возвращался. В статье 1759 г. «О копистах» (которую Панин читал юному Павлу) с подьячим связывалось одновременно негодное исполнение служебных обязанностей и недолжный уровень образования, грамоты: «Подьячий то[т], кто писати правильно не умеет и берет за плутни Акциденцию [взятки]» (Там же, VI, 374).
Двойному осмеянию подьячих соответствовал двойной императив нового политического образования, увязывавший грамоту со знанием и пониманием законов. Как уже говорилось, юриспруденция входила в программу Сухопутного корпуса. В 1748 г., согласно официальному рапорту, около сорока кадет обучались естественному праву, «юс натуре» (Гусарова 2007, 56; см. также: Петрухинцев 2007, 133–134, 141). Юсупов предполагал отводить «несколько часов на политику, естественное и гражданское право», а позднее наставлять кадет «в римском праве, публичном и феодальном» (Долгова 2007, 80). Татищев писал в «Разговоре двух приятелей»:
Законов своего государства хотя всякому подзаконному учиться надобно, но шляхетству есть необходимая нужда. Первое, понеже шляхтич всякой по природе судия над своими холопи, рабами и крестьяны, а потом может и по заслуге чин судии нести яко в войске, тако и в гражданстве. <…> Правда, что судии законы пред собою имеют, да все ль они сущую силу и волю законодавца разумеют, в оном великое сумнительство; ибо многие приклады того видим, что, кроме коварства или пристрастия, не разумея силы закона, противно истинны решат которые по законам нередко перерешивают. <…> И тако, неученой судья будет подобен безразумной машине, которая ничего собою в себе исправить не может и за неудобностию к надзиранию устроившаго часто вместо пользы вред приносит (Татищев 1979, 128–129).
Неисправность «неученого судьи» происходит от его неспособности понять написанное. В «Сатире II» Кантемира, друга и единомышленника Татищева, невежество нерадивого дворянина «в знаниях, приличных судейскому чину» метафорически сближается с плохим знанием собственного языка:
Арапского языка – права и законы
Мнятся тебе, дикие русску уху звоны.
(Кантемир 1956, 75)
Согласно авторскому примечанию, это значит: «<…> самые речи право, закон кажутся тебе речми арапского языка, дикими русскому уху» (Кантемир 1956, 86). Сумароков в сходных выражениях обличал недостаточные познания своего адресата в церковнославянской письменности, которой принадлежало само понятие закона:
Не мни, что наш язык не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой нерусскими зовем.
Он тот же, а когда б он был иной, как мыслишь
Лишь только оттого, что ты его не смыслишь,
Так что ж осталось бы при русском языке?
(Сумароков 1957, 115)
Учение о языке и стиле разворачивалось в «Двух эпистолах» с опорой на педагогические идеи и требования общественной коммуникации, следовавшие из понятия об административном государстве: исправному слогу «писцов» должен был соответствовать образованный ум их читателей. «Эпистолы», как и предшествовавшие им сочинения Кантемира, представляли собой ту самую «пристойную сатиру», которую Татищев в 1736 г. желал для исправления делопроизводственного языка реформированной империи.
В «Эпистоле II» предлагалось осмеять «судью, что не поймет, что писано в указе» (Там же, 121). Эту тему развивает опубликованная в 1759 г. сатира Сумарокова, подхватывавшая мотивы первых двух сатир Кантемира и напоминавшая о проблематике и персонажах «Двух эпистол». В 1748 г. Сумароков взывал к дворянскому сыну, которого «не выучил» отец. Теперь этот отец получал слово:
Невежа говорит: «Я помню, чей я внук;
По-дедовски живу, не надобно наук;
Пусть разоряются, уча рабяток, моты,
Мой мальчик не учен, а в те ж пойдет вороты…» <…>
О правах бредит так: «Я плюю на рассказы,
Что за морем плетут, – потребно знать указы».
Не спорю, но когда сидишь судьею где,
Рассудок надобно ль иметь тебе в суде?
Коль темен разум твой, приказ тебе мученье,
Хоть утром примешься сто раз за Уложенье.
(Сумароков 1957, 507–508)
Лейтмотив рассудка объединяет «Две эпистолы», не советовавшие перенимать негодный слог подьячих, с сатирой 1759 г., вменявшей в обязанность дворянину образование и навыки чтения, необходимые для отправления службы. «Рассказы, что за морем плетут» – по всей видимости, «других государств законы», которые, как напоминал Татищев, Петр I «перевести повелел» (Татищев 1979, 128). В первой редакции II сатиры Кантемира от имени невежды-дворянина говорится: «Гроциус и Пуфендорф и римские правы – / О тех помнить нечего: не на наши нравы» (Кантемир 1956, 373). Во второй редакции сатирик ставит на вид своему нерадивому герою судью, который «знает все естественны прáва, / Из нашего высосал весь он сок устава, / Мудры не спускает с рук указы Петровы». Ф. Голицын, биограф Шувалова и куратор Московского университета, гордился тем, что его питомцы, выучившись «расположению речи и слогу», «достигали до больших чинов» и «с отличностию отечеству служили». К этому поприщу готовила своих читателей и сумароковская эпистола «О русском языке».
III
Двусоставная конструкция «Двух эпистол» позволяла Сумарокову дифференцировать свою апологию словесности. В «Эпистоле I» идет речь о речевых навыках, обязательных для каждого дворянина, в «Эпистоле II» – об одной из достойных забав:
Не нужно, чтобы всем над рифмами потеть,
А правильно писать потребно всем уметь.
(Сумароков 1957, 114)
В то же время «Эпистола о русском языке», занимающая 142 стиха, выглядит своего рода вступлением к «Эпистоле о стихотворстве», состоящей из 422 стихов. Развернутое наставление в поэтическом ремесле отправляется от общих форм грамотности, предписанных государственным обиходом. Этой смежностью определяется сумароковский взгляд на социокультурный статус литературы. Поэзия предстает одним из атрибутов правильного образования:
Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил,
Кто грамматических не знает свойств, ни правил
И, правильно письма не смысля сочинить,
Захочет вдруг творцом и стихотворцем быть.
(Там же, 116)
Условия для успешной литературной деятельности, в том числе выбор подобающего жанра, Сумароков и далее описывает в категориях дворянской педагогики:
Когда искусства нет иль ты не тем рожден,
Нестроен будет глас, и слог твой принужден.
А если естество тебя тем одарило,
Старайся, чтоб сей дар искусство украсило.
Знай в стихотворстве ты различие родов <…>
Коль хочешь петь стихи, помысли ты сперва,
К чему твоя, творец, способна голова.
Не то пой, что тебе противу сил угодно,
Оставь то для других: пой то, тебе что сродно <…>
Всё хвально: драма ли, эклога или ода —
Слагай, к чему тебя влечет твоя природа;
Лишь просвещение писатель дай уму:
Прекрасный наш язык способен ко всему.
(Там же, 117, 124, 125)
Совет «украшать искусством» врожденные дарования, как и требование «просвещенного ума», которым завершаются «Две эпистолы», относились далеко не только к начинающим поэтам. Сумароков опирался здесь на общепринятые истины сословной педагогики. Так, «Истинная политика» в главе «О избрании своего состояния» советовала: «Тогда вам надлежит о сем конечное учинить определение, когда уже вы довольно рассмотрели вашу склонность, силы и таланты» (ИП 1745, 39). Как показал И. И. Федюкин, педагогические идеи такого рода лежали в основе концепции Сухопутного шляхетного корпуса и других учреждавшихся правительством учебных заведений этой эпохи:
Одна из ключевых категорий в этой системе представлений – «природная склонность». Наиболее известно употребление этого выражения в анонимном проекте кадетского корпуса из бумаг Верховного тайного совета, где утверждалось, что для обучения военному делу следует отбирать «младых людей, которые б имели жени, т. е. натуральное склонение», а поскольку в корпусе предполагалось обучать также и гражданским наукам, то расписание следовало составлять «по изобретению (т. е. после выявления. – И. Ф.) склонности учеников». Идеи учитывать «природную склонность» при определении на службу отразились и в документах Кадетского корпуса после его создания: в корпусе предполагалось преподавать в том числе и гражданские науки, «понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна». <…> «Молодому человеку пристойные экзерциции» также предлагалось преподавать в зависимости от того, «кто к чему диспозицию, склонность и охоту имеет», иностранные языки – тем, «которые к тому охоту показывают» (Федюкин 2014, 110–111).
Эта педагогическая теория была воспета, в частности, в корпусном панегирике «Еже Россиа ныне восклицает…» (СПб., 1735, без паг.):
<…> Россииская юность в обоих тех силно
Желание исполнить может изобильно,
К чему склонность, искусство, охота избранна.
Апеллируя в «Эпистоле II» к природе и склонности стихотворца, Сумароков укоренял поэзию в складывавшемся этосе дворянского существования. Эта связь обнаруживается еще яснее в позднем сборнике «Сатир» (1774) Сумарокова. Сатира «О худых рифмотворцах», возобновлявшая назидания «Двух эпистол» («В поэзии ль одной уставы таковы, / Что к ним не надобно ученой головы?» – Сумароков 1957, 200), соседствовала здесь с сатирами «О честности» и «О благородстве».
Гуковский совершенно точно описал связь сумароковской сатиры с «вопросом о дворянстве». Сатира «О благородстве» должна была, по словам исследователя, «обосновать и укрепить сословные привилегии „благородных“». Представляя собой «дворянскую самокритику, острую, но направленную именно на защиту дворянства как первенствующего сословия», эта сатира доказывает, что «право дворянина, прежде всего, в культуре» (Гуковский 1936, 67–70). Действительно, Сумароков пишет о необходимости образования и «ясного ума», открывающего дворянину различные сферы деятельности в соответствии с его способностями. Среди прочих дворянских занятий упоминается и литература:
Сию сатиру вам, дворяня, приношу!
Ко членам первым я отечества пишу.
Дворяне без меня свой долг довольно знают,
Но многие одно дворянство вспоминают <…>
А во учении имеем мы дороги,
По коим посклизнуть не могут наши ноги <…>
Похвален человек, не ищущий труда,
В котором он успеть не может никогда.
К чему способен он, он точно разбирает:
Пиитом не рожден, бумаги не марает,
А если у тебя безмозгла голова,
Пойди и землю рой или руби дрова,
От низких более людей не отличайся
И предков титлами уже не величайся.
Сей Павла воспитал, достойного корон,
Дабы подобен был Екатерине он;
С Спиридовым валы Орловы пребегают
И купно на водах с ним пламень возжигают;
Голицын гонит рать, Румянцев – наш Тюренн,
А Панин – Мальборуг у неприступных стен <…>
(Сумароков 1957, 189–191; курсив наш. – К. О.)
Соотнесенность требований к сочинителю с постулатами сословной морали была привычна для дидактической поэзии и стихотворных поэтик. В специальном исследовании немецких «эпистол о стихотворстве» XVIII в. Т. Нольден прослеживает их педагогический субстрат и очерчивает особый субжанр «литературного патента на дворянство» (literarischer Adelsbrief; см.: Nolden 1995, 109–130). Во французской словесности этот жанр был представлен, например, поэмой П. Ш. Руа «Вкус, к г-ну герцогу де Ноалю» («Le Goût, à M. le Duc de Noailles», 1727), послужившей одним из источников «Эпистолы II». Из немецких сочинений назовем ранние послания Х. Ф. Геллерта, опубликованные в первой половине 1740‐х гг. в авторитетном журнале «Увеселения ума и остроумия» («Belustigungen des Verstandes und des Witzes»)77
И сам Геллерт (чей брат служил одно время в петербургской Академии), и редактировавшийся им журнал были известны и пользовались уважением в России. Переводы стихов Геллерта и других материалов «Увеселений…» появлялись в журнале «Ежемесячные сочинения» с момента его основания в 1755 г. (см.: Drews 2008). Много позже Екатерина II утверждала в «Собеседнике любителей российского слова», что именно «Увеселения…» стали «причиною нынешнего цветущего состояния и поправления немецкого слова и поэзии» (1783. Ч. 2. С. 11).
[Закрыть]. Будучи гувернером (Hofmeister) молодого графа Хольцендорфа, Геллерт в эпистоле к своему воспитаннику («Sendschreiben an den jungen Herrn von H—», 1743) воспроизводил речевую ситуацию «Послания к Пизонам», обращенного (как мы помним) к юношам из знатного римского рода, и выдвигал «общественное положение адресата на первый план своей „Науки поэзии“ en miniature» (Nolden 1995, 47–57, 114):
O danke der Natur! Sie hat dich wohl bedacht,
Zum dichten feuerreich, zum Denken stark gemacht;
Die Gaben sind in dir, nun liegts an deinem Wollen,
Wie weit von deinem Ruhm die Grenzen gehen sollen.
So hoch Geburt und Blut vor andern dich erhob;
So hoch erhebe du durch eignen Werth dein Lob.
Verdiene stets das Glück, das dir dein Stand gegeben,
Den Adel erbt man nicht, durch den wir ewig leben! <…>
Freund, merke dir mein Wort, der Dichtkunst ganze Kraft
Bestehet in Natur, Geschmack und Wissenschaft! <…>
[Будь благодарен природе! Она хорошо позаботилась о тебе,
Вложила в тебя поэтический огонь и силу мысли.
Дары у тебя есть, теперь от твоего желания зависит,
Сколь далеко распространятся границы твоей славы.
Сколь рождение и кровь возвысили тебя над другими,
Возвысь настолько же свою хвалу собственными достоинствами.
Будь достоин всегда того счастья, кое дано тебе твоим положением.
Мы не наследуем ту знатность, которая дает нам бессмертие! <…>
Друг, запомни мои слова, вся сила поэзии
Состоит в природе, вкусе и науке!]
(Gellert 1997, 32)
Подобно Геллерту, Сумароков при помощи дидактического жанрового кода вписывал литературное сочинительство в систему сословных и служебных обязательств. Позднее в «Некоторых статьях о добродетели» он ассимилировал деятельность нравоучительного писателя с механикой сословно-административной государственности:
Возращение добродетели принадлежит начальникам и писателям: проповедники добродетели толкуют о ней, а начальники за нее награждают, пороки исправляют и беззаконие истребляют. Сие дело есть перва Монарша должность. <…> Я сею хлеб; купец торгует; обществу сии наши участныя упражнения приносят пользу, косвенною чертою; но судия правосудный и воин защищающий отечество, или человек ученый просвещающий народ, делают отечеству услугу прямою чертою, и более почтения достойны (Сумароков 1787, VI, 234, 259–260).
Сближение нравоучительной словесности с законоположениями верховной власти было, как мы уже видели, привычно для теоретиков дидактической литературы. Готшед в главе «О свойстве стихотворца» упоминал, что «ein alter König der Deutschen befohlen, auf die Lasterhaften gewisse satirische Lieder zu machen» ([в древности один немецкий король повелел сочинять сатирические песни против порочных] – Gottsched 1973, I, 165–166). Работавший под присмотром Готшеда немецкий переводчик Кантемира Г. Э. фон Шпилькер предпослал своему изданию «Сатир» рассуждение о пользе этого жанра, где высказывал такое пожелание: «Zu wünschen wäre es, daß große Herren sich Hofpoeten hielten <…> Diese sollten <…> den Unterthanen das Lächerliche ihrer Handlungen zeigen» ([Было бы желательно, чтоб большие владетели держали при себе придворных поэтов. <…> Они <…> показывали бы подданным смешное в их поступках] – Kantemir 1752, VII).
Дидактические жанры, понятые как язык монархического дисциплинирования, оказывались в этой теоретической перспективе средоточием всего придворно-абсолютистского «института литературы». Именно поэтому стихи, посвященные сатире (и смежному с ней жанру комедии), занимают узловое место в металитературном нарративе «Эпистолы II», хотя сам Сумароков издал первую свою сатиру только десятилетие спустя, и жанр этот так и не приобрел первостепенного значения в его литературной деятельности. Хорошо известно, что «Эпистола II» была написана в подражание «Поэтическому искусству» Буало, которого Сумароков упоминает чаще других авторов (четырежды, считая строки, исключенные при цензурировании) и – единственного – эмфатически провозглашает своим образцом. Показательно, однако, что в соответствующих стихах речь идет не только о жанре стихотворной поэтики, но и о сатире:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?