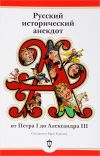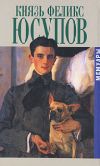Текст книги "Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века"
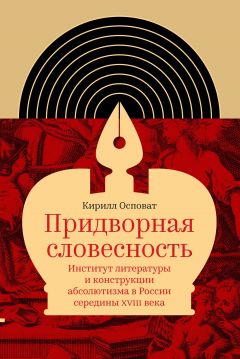
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава II
Защита поэзии: «Две эпистолы» Александра Сумарокова
I
В ноябре–декабре 1748 г., за четыре года до «Сочинений и переводов» Тредиаковского, при Академии наук увидели свет «Две эпистолы. В первой предлагается о русском языке, а во второй о стихотворстве» Александра Сумарокова, традиционно именуемые «манифестом русского классицизма» (об истории печатания см.: Гринберг, Успенский 2008, 224–232; Levitt 2009а).
Сумароков был сыном довольно высокопоставленного царедворца, окончил Сухопутный шляхетный корпус, числился в привилегированной лейб-кампании и состоял адъютантом фаворита императрицы Елизаветы гр. А. Г. Разумовского, чей брат был президентом Академии. Тридцатилетний поэт принадлежал к узкой прослойке знатной молодежи, в силу своих интеллектуальных интересов поддерживавшей связи с Академией. Там печатались в 1740 г. его первые оды, написанные от имени Сухопутного корпуса; позднее он претендовал на членство в Академии (см.: Живов 2002а, 615–617). Как указывают М. С. Гринберг и Б. А. Успенский, решение об издании «Двух эпистол» принималось, по всей видимости, в обход обычной академической процедуры, и это могло быть обусловлено «высокими связями Сумарокова» (Гринберг, Успенский 2008, 264). Фоном для публикации «Двух эпистол» служило, безусловно, полученное Академией в январе того же 1748 года высочайшее распоряжение «переводить и печатать на русском языке книги гражданския различнаго содержания, в которых бы польза и забава соединена была с пристойным к светскому житию нравоучением» (см. выше, гл. I) и последовавшее за ним в феврале объявление в «Санктпетербургских ведомостях» (1748. № 10. 2 февраля. С. 78–79):
Понеже многие из Российских как дворян так и других разных чинов людей находятся искусны в чужестранных языках. Того ради по указу Ея Императорскаго Величества канцелярия Академии Наук чрез сие охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу перевесть <…> теб явились в канцелярии Академии Наук. <…>
Формулировки первого распоряжения прямо отзываются в характеристике комедии – излюбленного придворного жанра – в «Эпистоле II»: «Свойство комедии – издевкой править нрав; / Смешить и пользовать – прямой ея устав». В «Эпистоле I» изъясняется, среди прочего, «какой похвален перевод» (Сумароков 1957, 121, 114).
Азы стилистики и поэтики, которые Сумароков преподавал своим читателям, позволяли им отозваться на призыв императрицы и Академии наук. Академические протоколы удостоверяли в 1750 г., что президент Академии гр. К. Г. Разумовский «изволит стараться, чтобы охотников к переводу книг приласкать всеми мерами» (цит. по: Ломоносов IX, 947). Разумовский, по всей видимости, имел в виду тот же практический дефицит, о котором писал Сумароков в «Эпистоле I»: «Когда книг русских нет, за кем идти в степени?» (Сумароков 1957, 115). Подробнее об этом говорится в главном педагогическом трактате послепетровских десятилетий, «Разговоре двух приятелей о пользе наук и училищ» (1733–1738) В. Н. Татищева:
Удивляюся, что вы сказываете, якобы у нас для научения книг довольно. <…> Что же до новых книг принадлежит, то весьма таких мало, каковые к научению юности потребно. Мы доднесь не токмо курсов мафематических, гистории и географии российской, которые весьма всем нуждны, не говоря о высоких философических науках, но лексикона и грамматики достаточной не имеем, а что ныне печатаны, то <…> все, почитай, для забавы людем некоторыми охотники переведены, а не для наук сочиненные. Но разве о тех думаешь, что вечно достойныя памяти Петр Великий, как сам до артиллерии, фортофикации и архитектуры и пр. охоту и нужду имея, неколико лучших перевести велел, и напечатаны, но и тех уже купить достать трудно, а более, почитай, и не видим (Татищев 1979, 130–131).
Татищев очерчивает круг изданий – здесь, как и в «Эпистоле I» и «изустном повелении» Елизаветы, речь идет главным образом о переводах, – которые должны были определять образование «шляхетства». Словесность, существующая «для забавы людем», стоит в одном ряду с «полезными науками», – такими, «которые до способности к общей и собственной пользе принадлежат» (Там же, 91).
В «Двух эпистолах» – «О русском языке» и «О стихотворстве» – канонизировались принципы зарождавшейся дворянской образованности. Именно в эту эпоху требование грамотности укоренялось усилиями правительства в дворянском обиходе. Первой в числе «полезных наук» Татищев называет «письмо»: оно
<…> всякаго стана и возраста людям есть полезно, когда токмо правильным порядком и з добрым намерением употребляемо. Но притом надобно о том прилежать, чтоб научиться правильно, порядочно и внятно говорить и писать. Для того полезно учить и своего языка грамматику (Татищев 1979, 91).
Сформулированное Татищевым требование имело вполне практическое значение. В 1734 г. один из руководителей Сухопутного шляхетного корпуса жаловался, что некоторых великовозрастных кадет можно было только «читанию и писанию в их природных языках обучить» (цит. по: Петрухинцев 2007, 140). Сходные наставления содержит сумароковская «Эпистола I»: «<…> правильно писать потребно всем уметь» (Сумароков 1957, 114).
C этим требованием соотносится и следующая рекомендация «Эпистолы»:
Имеем сверх того духовных много книг;
Кто винен в том, что ты Псалтыри не постиг,
И, бегучи по ней, как в быстром море судно,
С конца в конец раз сто промчался безрассудно.
(Там же, 115)
При помощи «духовных книг» прививались основы грамоты; родившийся в 1743 г. Державин «за неимением в тогдашнее время в том краю учителей, научен от церковников читать и писать», к тому же мать его «старалась пристрастить к чтению книг духовных» (Державин 2000, 9). Казанская помещица следовала не только старинному обычаю, но и сенатскому указу от 20 апреля 1743 г., повелевавшему, «чтоб как дворяне, так и разнаго чина люди детей своих из младых лет с начала обучения Российских книг чтению обучали б прямаго знать толкования Букваря и Катихизиса, в коих истинное Христианской должности и нашея православныя веры ясное показание есть, также б и другия книги церковныя читать тщились» (ПСЗ XI, 794).
По сообщению Державина, в конце 1750‐х гг. учителя Казанской гимназии, подведомственной Московскому университету:
Более ж всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшия тогда в славе Сумарокова трагедии, танцовать и фехтовать <…> (Державин 2000, 12).
Знания грамматики и упражнения в изящной словесности увязывались с навыками обходительности и становились элементом дворянского «социального канона» (Н. Элиас). Татищев относит «стихотворство, или поезию» к числу «сщегольских наук» вместе с «танцованием» и «вольтежированием» (Татищев 1979, 92).
Издательские начинания Академии должны были привить дворянству культурные навыки просвещенного досуга. Разумовский предписывал особую снисходительность к добровольным переводчикам в тех случаях, «когда дворянин в переводе потрудится не для интереса, но для охоты своей собственной» (цит. по: Ломоносов IX, 947). Этой же логикой руководствовался и Сумароков: выпуская наставление в стихотворстве в эпоху, когда поэзией занимались едва ли не единицы, он не столько отвечал на выработанный спрос, сколько пропагандировал складывавшийся при дворе идеал дворянского культурного поведения33
Комментаторы Ломоносова, приводящие слова Разумовского о поощрении переводов, справедливо усматривают в них следствие «литературной политики» президента (Ломоносов IX, 947). Стоявшие за ней общераспространенные представления были артикулированы десятилетие спустя Семеном Порошиным, в будущем одним из наставников наследника престола Павла Петровича, в особом «Письме о порядках в обучении наук» (1757): «Благополучия Российскаго стрегущия разумы, и у кормила ее посажденные неутомимые Атласы, обременены ежечасно другими безчисленными трудами и помышлениями о пользе и процветании любимого отечества. Не оставляют однакож и полезных учреждений до наук касающихся, и особливо Российской свет Российскими книгами обогатить стараются. Для сего советую и вам, когда нибудь у досугу перевесть книжку, и к тому тако ж побудить ваших приятелей <…> стихотворствуйте либо для одной собственной забавы, либо ежели особливую к тому усмотрите в себе способность, издавайте и в свет свои сочинения. Сие позволительно, только с таким намерением, чтоб приобресть одну достойную славу, а не с жадным желанием какой-нибудь корысти или прибытка» (Порошин 1757, 140, 144–145).
[Закрыть]. Действительно, как свидетельствуют хорошо известные материалы рукописных полемик начала 1750‐х гг., стихотворство в дидактической манере «Двух эпистол» быстро вошло в моду.
Еще Г. А. Гуковский констатировал, «что новая европейская культура людям типа Сумарокова представлялась делом вовсе не общечеловеческим, а сословным», «мыслилась не только как право и достояние родового дворянства, но и как его обязанность», и поэтому «культура вообще, и поэзия в частности, приобрели отчетливые черты характерно сословно-классового занятия и сферы творчества» (Гуковский 1936, 27–28). Сословная культура, поощрявшая занятия словесностью, складывалась в эти самые годы в Сухопутном шляхетном корпусе (см.: Федюкин 2018). Гуковский писал:
Основной педагогической задачей корпуса стало воспитание образцовых жантильомов, вполне цивилизованных, обладающих элементарными гуманитарными знаниями, умеющими [sic] себя держать в обществе. <…> в корпусе занимались литературой. Еще императрице Анне Иоанновне кадеты подносили сочиненные ими в ее честь стихотворения, среди которых были и сумароковские. <…> Первым крупным успехом корпусной педагогики в сфере литературы был именно Сумароков (Гуковский 1936, 18–19).
Даже после публикации «Двух эпистол», спустя почти десятилетие после выпуска из корпуса, Сумароков продолжал поддерживать прочные связи с этим учебным заведением и его «молодежью» (см.: Степанов 2000). Аффилиация Сумарокова с этим «дворянским университетом», в котором создавался «новый тип культуры и культурного человека» (Гуковский 1936, 17–18), имеет принципиальное значение для истолкования «Двух эпистол». Кадеты и выпускники корпуса были квинтэссенцией той образованной дворянской прослойки, к которой адресовался Сумароков. Общеизвестно, что его стихи пользовались популярностью среди благородного юношества: по позднейшим словам Ломоносова, он «сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что и вся молодежь, то есть пажи, коллежские юнкеры, кадеты и гвардии капралы <…> ему последуют» (Ломоносов IX, 635).
В конце 1740‐х гг. Сумароков решил претворить светский успех своих «нежных» стихотворений в литературный авторитет. Он издал две трагедии – «Хорев» (1747) и «Гамлет» (1748), быстро завоевавшие признание читателей, а вслед за ними «Две эпистолы». В трагедиях стилистика светской песни инкорпорировалась в большой классический жанр; в «Двух эпистолах» любовный сочинитель, которому «вся молодежь <…> последу[е]т», брал на себя роль наставника в литературе. Песни распространялись в списках и изустно «для забавы людем»; «Две эпистолы», получившие квазиофициальный статус академической публикации, легитимировали словесность в качестве элемента подобающей сословной культуры.
Сумароков опирался на опыт корпуса и его поэтов, к которым сам он некогда принадлежал вместе, например, с М. Г. Собакиным (см.: Берков 1933; Погосян 1997, 55–82; Алексеева 2005, 153–157). Б. Г. Юсупов, назначенный в 1750 г. директором корпуса, в особой записке упоминал, что те кадеты, «в ком есть дарования, будут упражняться в поэзии» (Долгова 2007, 80). В поэме «Совет добродетелей» (1738) Михаил Собакин – отсылая, по всей видимости, к социальному и литературному опыту Кантемира, вельможного подражателя и перелагателя Горация, – рекомендовал литературное ремесло в числе атрибутов «политики», общественного существования дворянина:
Будто нет, сказал, краснословцов сильных,
иль творцов стихов в их делах искусных,
иль нельзя писать книг речьми обильных,
или говорить поздравлений устных,
Помнишь, как Омир Ахиллесу просто,
но достойно сплиол Лавры похвалами,
к Августу писал раз Гораци со сто,
что чли за добро Самодержцы сами;
можешь по тому ты примеру ныне,
хоть подобных взять людям тем преславным,
кои что нашли в Иовишовом сыне,
и с Патентом в том здесь живут исправным.
(Собакин 1738, без паг.)
В появившихся спустя десятилетие «Двух эпистолах» Сумарокова апология словесности тоже апеллировала к процедурам сословного образования. Представление о долге службы и культура дворянского досуга сходились в великосветском культурном потреблении, описывавшемся понятием вкуса. Именно оно делало возможным «патент поэта» и определяло эстетическую проблематику «Эпистолы о стихотворстве».
II
Для изучения художественного устройства «Двух эпистол» первостепенное значение имеют выводы двух специальных работ И. Клейна (Клейн 2005а; Клейн 2005б). В одной из них устанавливается, что сумароковский манифест соотносился с жанровой традицией сатиры (см.: Клейн 2005а). Действительно, Ломоносов, которому «Эпистолы» были переданы на рецензию, отмечал в них «сатирические стихи» и добавлял:
<…> таковые стихи, касающиеся до исправления словесных наук, не взирая на такие сатиричества, у всех политических народов позволяются, и в российском народе сатиры князя Антиоха Дмитриевича Кантемира с общею апробациею приняты, хотя в них все страсти всякого чина людей самым острым сатирическим жалом проницаются <…> (Ломоносов, IX, 621).
Неожиданно развернутая похвала Кантемиру в отзыве на «Две эпистолы» не только оправдывала «сатиричества» Сумарокова, но и вписывала его сочинение в определенную жанровую традицию. По всей видимости, Ломоносов отзывался на характеристику Кантемира в первоначальной редакции «Двух эпистол»:
Преславного Депро прекрасная сатира
Подвигла в Севере разумна Кантемира
Последовать ему и страсти охуждать;
Он знал, как о страстях разумно рассуждать,
Пермесских голос нимф был ввек его утеха,
Стремился на Парнас, но не было успеха.
Хоть упражнялся в том, доколе был он жив,
Однако был Пегас всегда под ним ленив.
(Сумароков 1957, 116)
Эти строки (вместе со следовавшей за ними аналогичной характеристикой Феофана Прокоповича) были исключены после того, как Ломоносов в первом отзыве на «Две эпистолы» посоветовал автору поискать, «что б в рассуждении некоторых персон отменить несколько надобно было» (Ломоносов, Х, 461). Цитированный выше второй отзыв ясно показывает, что Ломоносов защищал от критики признанный авторитет Кантемира и ставил на вид младшему поэту литературные заслуги старшего44
Гринберг и Успенский предлагают иное истолкование первого ломоносовского отзыва: по их мнению, Ломоносов увидел в «Двух эпистолах» выпады в собственный адрес и пожелал устранить их (Гринберг, Успенский 2008, 230). Действительно, как справедливо указывают исследователи, намеренно расплывчатые формулировки этого отзыва оставляли Сумарокову возможность только догадываться о пожеланиях рецензента. Показательна в этом отношении его двойная реакция: c одной стороны, он вычеркнул характеристики Кантемира и Феофана – единственных отечественных «персон», упомянутых в «Эпистоле» по имени; с другой стороны, не устраняя фрагментов, в которых современные исследователи видят сатирические намеки на Ломоносова, он, однако, добавил прямой комплимент «наших стран Мальгербу» (Сумароков 1957, 125). В результате Ломоносов оказался единственным русским автором, прямо названным в «Двух эпистолах» (Тредиаковский в обеих редакциях фигурирует под сатирическим прозвищем «Штивелиус»). Неожиданная похвала Кантемиру во втором отзыве Ломоносова от 17 ноября дополнительно опровергала уже отброшенную Сумароковым скептическую оценку сатирика. Столь ревностное заступничество за репутацию Кантемира могло объясняться придворными отношениями. Участники «ученой дружины», к которой принадлежали в свое время Феофан и Кантемир, сохраняли влияние в 1740‐х гг. и оставались важными патронами словесности. Другом обоих покойных авторов был когда-то Татищев, в конце 1740‐х гг. покровительствовавший Ломоносову, а также могущественный генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой, литературный душеприказчик Кантемира. В начале 1740‐х гг. Трубецкой, как показывают академические документы, способствовал изданию ранней оды Сумарокова и печатного состязания трех авторов в переложении 143‐го псалма.
[Закрыть]. При этом и сумароковская оценка Кантемира содержала важные нюансы: отказывая ему в мастерстве стихотворца, Сумароков тем не менее признавал достоинства его сатирического инструментария, восходящего к «преславному Депро», а ниже заявлял о собственной преемственности по отношению к Буало-сатирику («Скажи мне, Боало, свои в сатирах правы» – Сумароков 1957, 121). Иными словами, не желая признавать Кантемира своим образцом, Сумароков тем не менее обозначал свою приверженность проложенному им жанрово-тематическому пути.
По мнению Клейна, первые читатели «Двух эпистол» истолковывали их «не в том жанровом ключе, который был первоначально задан» автором, поскольку, вопреки замыслу Сумарокова, рассматривали их «не в качестве дидактического стихотворения, а в качестве сатиры» (Клейн 2005а, 315). Между тем в сложной неоклассической жанровой таксономии сатирический и дидактический модус скорее сближались, чем разграничивались. Андре Дасье, авторитетный комментатор Горация, отмечал в предисловии к его посланиям, что родоначальник римской сатиры Луцилий, как и его последователи, «ne faisoit pas toujours la guerre au vice dans ses Satires, il y louoit aussi très-souvent la vertu» ([не всегда нападал на порок в своих сатирах, но столь же часто хвалил добродетель] – Horace 1727b, без паг.). Эта формула точно описывает двойной тематический состав сатирического жанрового канона, совмещавшего осмеяние с дисциплинарным наставлением. Одним из изводов этого жанра, как можно видеть на авторитетных примерах Горация и Буало, был избранный Сумароковым род стихотворного послания, традиционно акцентировавший дидактическую составляющую сатиры. Дасье доказывал, что послания Горация были естественным продолжением его сатир: в сатирах поэт скорее «travaille à déraciner les vices» [тщится искоренять пороки], а в посланиях «il s’attache à y donner des préceptes pour la vertu» [стремится дать наставления к добродетели] – Ibid.). Основоположник русской сатирической традиции Кантемир избрал для перевода именно «письма» Горация на том основании, что «оне больше всех его других сочинений обильны нравоучением» (Кантемир 1867–1868, I, 385).
Дидактические послания и сатиры составляли единый жанрово-идеологический фон стихотворных поэтик Горация, Буало и следовавшего им Сумарокова. Переводом «Науки поэзии» Горация открывалась самая авторитетная к тому времени немецкая поэтика – многократно переиздававшийся «Опыт критической поэтики» («Versuch einer critischen Dichtkunst», 1730) И. К. Готшеда. Лейпцигский профессор Готшед, диктовавший немецкой словесности рационалистические законы, был ведущей фигурой местного Немецкого общества, куда в 1756 г. был принят и Сумароков (см.: Гуковский 1958). Литературная программа Готшеда, еще одного «интеллигента из бюргерства», стирала грань между ученой культурой университета и придворными вкусами (см.: Heldt 1997). В «Критической поэтике» Готшед констатировал, что ведению сатирика подлежит «nicht nur das moralische Böse; sondern auch alle Ungereimtheiten in den Wissenschaften, freyen Künsten, Schriften» ([не только нравственное зло, но и все нелепости в науках, свободных искусствах, сочинениях] – Gottsched 1973, I, 172). Сумароков парафразировал этот тезис в поздней сатире «О худых рифмотворцах»:
Одно ли дурно то на свете, что грешно?
И то нехорошо, что глупостью смешно.
(Сумароков 1957, 199)
Следуя своему представлению о единстве поэтической науки и сатирического нравоучения, Готшед в особой главе о сатире полностью приводил поэтологические сатиры немецких сочинителей: «Стихотворца» («Der Poet») И. Рахеля (здесь речь шла, среди прочего, о правильном употреблении немецкого языка), «О стихотворстве» («Von der Poesie») Ф. Каница и «На несмысленных стихотворцев» («Auf unverständige Poeten») Б. Нейкирха. Фрагментами этих сатир Готшед подкреплял положения установочных глав своего трактата «О свойстве стихотворца» («Von dem Charactere eines Poeten») и «О хорошем вкусе стихотворца» («Vom guten Geschmacke eines Poeten»).
Как мы уже видели, идеологическим основанием новоевропейской горацианской сатиры была этика общественного – сословного и государственного – долга. Готшед сообщал, что в самой первой сатире, приписывавшейся Гомеру поэме «Маргит», обличался «бездельник» («Müßiggänger»), «бесполезный член в сообществе людей» («ein unnützes Glied der menschlichen Gesellschaft» – Gottsched 1973, I, 167). В эпистолярном изводе дидактического жанра общая назидательная установка воплощалась в специфической речевой ситуации: структурно значимая фигура адресата динамизировала коммуникативную функцию текста, так что «конструирование читателя» делалось доминантой его тематического развертывания. Социальный облик адресата, рассмотренный в нормативных и надындивидуальных категориях группового долга, становился центральной дидактической темой (см.: Jekutsch 1981, 180–183). Готшед, посвятивший одну из глав своего трактата стихотворным посланиям, цитирует несколько немецких образцов этого жанра, в том числе эпистолу Андреаса Чернинга (Andreas Tscherning) к высокопоставленному магистрату, ставившую в пример другим его успехи на служебном поприще (см.: Gottsched 1973, II, 345 sqq). Сумароков опубликовал в 1759 г. «Эпистолу к неправедным судьям», в сатирическом модусе также напоминавшую чиновникам о долге службы: «О вы, хранители уставов и суда <…>» (Сумароков 1957, 131; об общественно-педагогических функциях русской эпистолы см.: Люстров 2000, 90).
В специальном исследовании о французском стихотворном послании XVII в. C. Тоноло устанавливает, что «в эпоху <…> когда складывается кодекс великосветского поведения (le savoir-vivre de l’honnête-homme), послание служит дополнением к учебным пособиям», способствует образованию и нравоучению, одним словом – «воспитанию светского человека» (Tonolo 2005, 257). Сумароков не чуждался такого истолкования жанра. В 1761 г. он выпустил третье и последнее свое оригинальное сочинение, именовавшееся «эпистолой», – «Эпистолу его императорскому высочеству государю великому князю Павлу Петровичу в день рождения его…», в которой изъяснял обязанности монарха и «честного человека» («Всем должно нам любить отечество свое, / А царским отраслям любити должно боле <…>» – Сумароков 1957, 132). Послание увидело свет, надо полагать, с одобрения Н. И. Панина, в 1760 г. назначенного воспитателем наследника. В особой записке, перекликающейся с сумароковской эпистолой, Панин объявлял своим долгом внушить юному Павлу «сердечное желание о точном исполнении своего звания» и, в числе других педагогических материалов, называл сочинения «Ломоносовых и Сумароковых» (Панин 1882, 317–318; см.: Алексеева 2017).
Форма нравоучительного послания регулярно соотносилась с процедурами аристократической педагогики. Готшед в соответствующей главе приводит эпистолу родоначальника немецкой неоклассической традиции Опица к своему покровителю, графу Дона. Сосредотачивая в условном портрете адресата все сословные добродетели дворянства, Опиц укореняет их в воспитании и образовании:
Du fiengst kaum an zu leben,
Da ließest du alsbald mit vollen Stralen aus
Die Gaben der Natur, die euer werthes Haus
Wie Erb und eigen hat. <…>
Man sahe nicht um dich die faule Wollust schweben,
Die Mörderinn der Zeit, der Jugend ärgste Pest,
So guten Samen nie zur Blüte kommen läßt.
Du hast es dir für Spott und Schande nicht geschätzet,
Den Büchern hold zu seyn; hast deinen Sinn ergetzet
Mit dem worüber oft ein Aeltern-edler lacht;
Doch das den Edlen ziert, und einen edel macht,
Der sonst nicht edel ist: dann Schilde sind das mindste
Von dem was Tugend heißt. Du hast der Musen Künste
Aus ihrem Grund’ erlernt <…>
[Едва ты начал жить,
Ты во всем блеске явил
Дары природы, коими ваш достойный дом
Владеет как наследным имуществом. <…>
Вокруг тебя не видно ленивой роскоши,
Убийцы времени, злейшей чумы юношей,
Коя не позволяет доброму семени расцвести.
Ты не счел позором
Быть милостивым к книгам; ты тем увеселил свой ум,
Над чем смеются порой старые дворяне;
Однако это подобает благородному, и дает благородство
Тому, кто иначе не благороден: ибо гербы есть наименьшее
Из того, что зовется добродетелью. Основательно
Ты выучил науки Муз <…>]
(Gottsched 1973, II, 150–151)
Сходная социально-педагогическая установка осуществлялась в «Двух эпистолах» при посредстве сходных жанровых приемов, и фигура читателя оказывалась средоточием дидактической проблематики. М. Ю. Люстров усматривает «главный жанровый признак» эпистол Сумарокова в их адресации к определенным социальным группам (Люстров 2000, 70). Действительно, в «Эпистоле I» Сумароков очерчивает свою аудиторию: вместо неизбежно условного единичного адресата дается собирательный, но социально конкретизированный портрет молодого дворянина. Хотя этот персонаж предстает своего рода сатирическим антиподом безупречного героя Опица, его изображение строится вокруг тех же постулатов сословной этики:
Сердись, что мало книг у нас, и делай пени:
«Когда книг русских нет, за кем идти в степени?»
Однако больше ты сердися на себя
Иль на отца, что он не выучил тебя.
А если б юность ты не прожил своевольно,
Ты б мог в писании искусен быть довольно. <…>
Не знай наук, когда не любишь их, хоть вечно,
А мысли выражать знать надобно, конечно.
(Сумароков 1957, 115)
Тип недоучившегося по родительскому небрежению дворянского сына, прославленный позднее выучеником Московского университета Фонвизиным, был хорошо узнаваем. Мы уже приводили относящиеся к середине 1750‐х гг. ламентации И. И. Шувалова о том, что «родители и родственники» имеют «более попечения в доставлении принадлежащим им молодым людям чинов, а не должнаго учения сходнаго с их рождением и пользою общею» (Шувалов 1867, 70). Татищевский «Разговор двух приятелей» открывался похвалами отцу, отославшему сына «в чужестранные училища», поскольку иначе «он, в природной злости и невежестве остався, буйством и непорядками всегдашнюю печаль <…> приносить будет» (Татищев 1979, 51). Фельдмаршал А. А. Прозоровский, на рубеже 1740–1750‐х гг. оканчивавший курс наук и начинавший действительную военную службу, предваряет мемуарное повествование о своем отрочестве следующим рассуждением:
Прямой долг родителей есть в том, чтобы научить детей всему нужному, но всякому россиянину известен непростительный порок в родительском чадолюбии относительно сего предмета. Мало таких в России отцов и матерей, которые бы прямую пользу детей своих разумели, или слепая любовь помрачает их разсудок, и они почти никогда их не отлучают от себя в отсудственныя публичныя училища. <…> науки – суть основанием всякого состояния, а наипаче военной службы (Прозоровский 2004, 39–40).
Сам Сумароков писал позднее: «Имея достаток и способы обучати детей, и не обучать есть вина не простительна» (Сумароков 1787, VI, 260).
За практическим беспокойством русских сторонников дворянского образования стояли обычные для Европы начала Нового времени представления о наследственном благородстве, отразившиеся и в послании Опица. Обучение детей, вменявшееся в обязанность родителям, провозглашалось необходимым условием сословной преемственности. В переводном сборнике «Апофегмата», впервые напечатанном при Петре I и вышедшем очередным изданием в 1745 г., говорилось: «Аще не вдаст отец сына учитися от юности добрых нравов, таков не имать наследити достояния отца своего» (Апофегмата 1745, 7). В переведенной Тредиаковским «Истинной политике» читаем:
Родители, которые не стараются о добром воспитании своих детей, еще и больше виноваты. Ибо можно сказать, что от воспитания происходит почти всегда щастие или нещастие в жизни. <…> Молодой человек, будучи худо воспитан и не имея ни знания, ни достоинства, ни к какому делу не может быть годен <…> иногда он вводит в бесславие всю фамилию и собственную свою честь погубляет навеки. Как тогда не иметь великия печали тому отцу, которой прилежно не старался заблаговременно научить такова сына, насадить в нем благочестие и подать ему просвещенное познание к управлению его нравов и поступок, по своей необходимой к тому должности? Но как всячески не радоваться тому, которой сам попечение имел разум просвещать, а сердце исправлять у своего сына, когда увидит, что как скоро оной покажется свету, то везде и у всех приходит в почтение, сыскивает себе приятство у честных людей, отправляет с похвалою впервые положенныя на него дела, приносит честь своей фамилии чрез изрядныя свои достоинства, и день ото дня становится добродетельнейшим и искуснейшим? (ИП 1745, 13–15)
Сумароков описывает своего адресата в категориях аристократической моралистики и педагогики, и обращенные к нему наставления «о русском языке» следует рассматривать на этом же идейном фоне.
Учитель Павла Петровича и выпускник Сухопутного корпуса Семен Порошин, с которым Сумароков приятельствовал и встречался за столом у наследника, объяснял своему высокородному воспитаннику, «как дурно не знать языка своего и силы в штиле», высмеивал вместе с ним макароническую речь придворных, «малосильных в своем языке»: «Такие люди не знают или не хотят знать, что то, что на одном языке очень хорошо, на другом, переведенное от слова до слова, очень худо может быть» (Порошин 2004, 56, 19). Порошин парафразирует здесь наставления сумароковской «Эпистолы I»: «Что очень хорошо на языке французском, / То может в точности быть скаредно на русском» (Сумароков 1957, 114). Собственные познания в русском языке Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам» (1759) объяснял наследственной принадлежностью к придворной аристократии:
<…> должен я за первые основания в Русском языке отцу моему, а он тем должен Зейкену, который выписан был от Государя Императора Петра Великаго в учители, к господам Нарышкиным, и который после был учителем Государя Императора Петра Втораго (Сумароков 1787, IX, 278).
Образцом для предписаний «Эпистолы I» мог послужить, среди прочего, прославленный педагогический трактат Дж. Локка, только во французском переводе выдержавший к середине 1740‐х гг. десять изданий (см.: Hutchinson 1991, 245), а в 1759 г. выпущенный по-русски Московским университетом под заглавием «О воспитании детей» (об интересе Сумарокова к Локку см.: Levitt 2009b). Обучение родному языку осмысляется здесь в перспективе сословного долга:
Почти нет большаго несовершенства в знатном человеке, как не уметь хорошо изъяснять свои мысли на словах или на письме. Со всем тем коль много видим из дворянства ежедневно, кои при всех доходах и дворянском титуле, которому должны были иметь и соответствующия качества, однако не могут и истории никакой расказать по надлежащему, не только говорить чисто и уверительным образом о какой важной материи? но в сем мне кажется столько на них, сколько на воспитание их жаловаться должно. <…> Когда человек пишет, ни что так не уважает его слова и не привлекает благосклоннаго внимания, как язык исправной. Понеже Аглинской дворянин всегда имеет нужду [1] в Аглинском языке, то ему должно наипаче и учиться, и стараться, чтобы в нем учинить свой штиль чище и совершеннее.
[1] Францусской или Российской дворянин должен стараться уметь писать чисто и исправно по Францусски или по Русски (Локк 1759, II, 199–200, 205).
Параллелью с дворянскими руководствами как «внепоэтическим речевым рядом» определяется установка сумароковских эпистол – «не только доминанта произведения (или жанра), функционально окрашивающая подчиненные факторы, но вместе и функция произведения (или жанра) по отношению к ближайшему внелитературному – речевому ряду» (Тынянов 1977, 228–229).
По точному наблюдению Клейна, «авторский субъект» «Двух эпистол» – «не светский человек, который <…> разговаривает на равных с другими светскими людьми, а строгий наставник» (Клейн 2005б, 338). Это соответствует жанровым константам: как заключает на французском материале С. Тоноло, авторы назидательных посланий, «обращаясь к молодым особам <…> берут на себя роль духовных наставников», так что эпистолярный жанр «наследует античной и гуманистической традиции, прививавшей при помощи посланий новым поколениям неизменные ценности. Нравственная позиция и поэзия сливаются в авторитетной фигуре поэта-эпистолика» (Tonolo 2005, 258–259). Дидактический поэт выступал литературным двойником признанных носителей традиционной морали55
Сам Клейн предполагает, что Сумароков ориентируется на речевую манеру французских философов-просветителей (philosophes; Клейн 2005б, 337). Однако, помимо того что литературные труды благонамеренного автора любовных песен и придворных трагедий вряд ли допускали такую аналогию, она опровергается собственным заявлением поэта: «<…> я не философ, но стихотворец» (Письма 1980, 162).
[Закрыть]. Анонимный почитатель и подражатель Сумарокова в начале 1750‐х гг. так характеризовал истинного сатирика:
Всяк видит себе друга, наставника чтет в нем.
(Поэты 1972, II, 383)
В «Эпистоле… Павлу Петровичу…» Сумароков – с санкции двора – приобщал свой поэтический голос к нравственному и общественному авторитету действительного воспитателя наследника. «Истинная политика», которой, среди прочего, следовала «Эпистола I», была, согласно распространенному заблуждению, составлена Фенелоном – «учителем детей короля французского», как пояснялось на титульном листе русского перевода «Похождения Телемака».
За социально расплывчатым понятием наставничества вставала идея родительского авторитета. Как показывает А. Бекасова, в XVIII в. «проблема взаимоотношений родителей и детей оказалась в центре общественного внимания» (Бекасова 2012, 99). В «Эпистоле I» поэт наставляет своего адресата в том, чему его должен был «выучить» отец. Одна из многочисленных анонимных сатир начала 1750‐х гг., варьировавших темы и стиль «Двух эпистол», еще яснее прочерчивает аналогию между поучениями сатирика и отцовскими назиданиями, обуздывающими «волю» юноши:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?