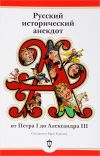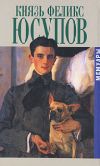Текст книги "Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века"
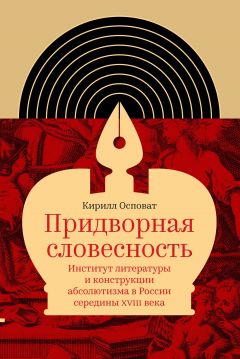
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
<…> оному, кой есть цвет юношества красный,
Кой славою давно есть рода знаменит,
Кой сердцем и умом от многих отменит,
Кой всех надежда Муз, кой их плодов снискатель <…>
(Тредиаковский 2009, 339)
В сборнике Тредиаковского, таким образом, осуществлялось обычное для европейской словесности начала Нового времени (и часто опиравшееся на Горация) сращение «стихотворной науки» с искусством придворного поведения и политической этикой (см.: Javitch 1978; Matz 2000; Blocker 2009, 109–145). В конструкции «Сочинений и переводов» переложения стихотворных поэтик Горация и Буало сополагались с моралистическими сочинениями – точно так же как в корпусе обоих авторов стихотворные поэтики соседствовали с нравоучительными сатирами и посланиями. В предисловии к вышедшему в 1747 г. собранию сочинений Буало его составитель Ш. Г. де Сен-Марк писал:
J’ai considéré les Ouvrages de cet illustre Auteur, comme êtant, pour ainsi dire, le seul Livre Classique que nous eussions en nôtre Langue. L’usage de ce Livre entre dans tous les plans d’Education; & nous n’en avons point en effet, qui soit plus propre à former l’esprit des jeunes gens & par l’instruction, & par l’exemple. C’est le but, où M. Despréaux, que l’on peut nommer, à juste titre, le Poëte du Bon-sens & de la Vertu, voulait atteindre dans tous ses Ecrits <…>
[Я рассматривал сочинения этого автора как, так сказать, единственную классическую книгу, имеющуюся на нашем языке. Употребление сей книги входит во все части образования; и у нас нет других, которые более бы подходили для воспитания юных умов и назиданием, и примером. Вот цель, которую г. Депрео, коего можно по праву именовать поэтом здравомыслия и добродетели, желал достичь во всех своих сочинениях.] (Boileau 1747, V–VI)
Сборник Тредиаковского тоже мог претендовать на роль «классической книги» благодаря авторитету представленных там иноземных «творцов»: не только Буало и Горация, но и Б. Фонтенеля, Фенелона, Барклая, Эзопа, не говоря уже о библейских пророках.
Литературный облик Буало определялся взаимопроникновением эстетической и этической нормы. В «Поэтическом искусстве» он, по словам И. Клейна, «раскрывает свою концепцию идеального поэта, образ которого совмещает представления о вдохновенном музами, прирожденном стихотворце и обходительном светском человеке – honnête homme» (Клейн 2005а, 332). В переводе Тредиаковского читаем:
Мало то, чтоб в книге только всеприятным быть,
Знать поступки должно и еще ж бы добрым слыть.
(Тредиаковский 2009, 48)
Сен-Марк среди прочих материалов перепечатал некролог сатирику, обнажавший параллель между литературной правкой и личным усовершенствованием:
<…> travaillant sans cesse à rendre sa vie encore plus pure que ses Ecrits, il fit voir que l’amour du vray, conduit par la Raison, ne fait pas moins l’homme de bien que l’excellent Poète.
[<…> трудясь без устали над тем, чтобы сделать свою жизнь еще чище своих сочинений, он являл на своем примере, что любовь к истине, ведомая разумом, творит достойного человека не менее, чем превосходного поэта.] (Boileau 1747, XXXII)
Идея о спасительном действии «разума» и «наук», лежавшая в основе практической философии дворянских учебников, распространялась и на литературную сферу. Предисловие к «Сочинениям и переводам» завершается следующей максимой:
<…> во всяком роде писаний, равно как в нравоучительной науке, погрешения, исправленные и признанные искренно и необиновенно, от всех предаются забвению или, лучше, нет их самих, и следов уже не находится (Тредиаковский 2009, 17).
Хрестоматийное предписание Буало: «<…> уму в покорстве правьте хульное тотчас» (Там же, 46) – в двухтомнике Тредиаковского резонирует с положениями нравоучительного «Слова о терпении и нетерпеливости»:
Человек, коль ни мало употребляет в действие свой внутренний свет к познанию самого себя, однако усматривает слабости и пороки, которыми он наполнен. Сия есть причина, что немедленно человеческий разум ищет способа, как бы оные исправить, имея с природы к совершенству желание, оставшееся в нем от древния великости, коею он почтен был <…> (Там же, 231).
Соположение этики и эстетики было свойственно, как хорошо известно исследователям Горация, и его «Науке поэзии», укоренявшей литературные наставления в социальном самосознании аристократии (см.: Becker 1963, 67–78; Oliensis 1998, 198–211). Трактат Горация адресовался Пизонам, представителям знатного римского рода, и стилистические рекомендации поэта исходили из принципа сословной иерархии:
Фауны и Сатиры пускай берегутся, чтоб им не быть подобным народу и мещанам, чтоб не чрез лишек молодеть и юношествовать стихами, являющими негу, и чтоб также не сквернословить нечистыми и бесчестными речами; ибо такими словами гнушаются конные граждане, сенаторы и богатые римские особы <…> (Тредиаковский 2009, 60).
В этой сословной перспективе нужно рассматривать и рассуждение Горация о необходимой стихотворцу «науке»:
Но вы, о! Пизоны, происшедшие от крови Нумы Помпилия, осуждайте тот стих, которого долгое время и многое чернение не исправляли, а и десятью выправленного еще не привели в целое совершенство. Пускай Демокрит думает, что природа благополучнее бедныя науки, и потому пускай выключает из числа пиитов и отлучает от Геликона тех, которые здраво обучены, а оных почитает пиитами, кои умышленно неистовствуют, для того что знатная и самая большая часть из них ногтей не обрезывают, бороды не бреют и живут в уединении, от общих собраний убегая. <…>
Кто не обучился действовать оружием, тот в поле воином не выходит. Также: кто не умеет играть мячом, метать вверх блюдце, гонять кубарь или четыреспичное колесцо, тот за все сие и не принимается, опасаясь громкого посмеяния от многих сонмов вкруг обстоящих людей. Должно и тому равный иметь страх, кто не способен к сочинению стихов, однако дерзает. А чего б ради ему не дерзать? Особливо ежели он сам господин благородный, конному римскому дворянству положенную сумму денег Росциевым уставом имеет? и притом живет и служит беспорочно? Пускай же такой беспорочный изволяет быть порочным пиитом. Но вы ничего и не произносите и не слагайте, ежели в вас нет к тому способности; сие да будет в вас рассуждение и сие токмо мнение всегда. <…>
Давно уже сей вопрос предлагается, природою ль лучше производятся стихи или наукою? Что до меня, я не вижу, чтоб учение без богатыя природныя способности или б грубая природа одна произвесть могла что-нибудь совершенное. Посему одна вещь у другой взаимныя себе помощи просит, и обе соглашаются между собою дружески. Кто старается беганием до вожделенного достигнуть предела, тот в отрочестве многое понес и претерпел, потел и на холоде мерз, воздержался от венеры и от вина. <…> Но ныне довольно сего выговорить: «Я удивительные поэмы сочиняю». Кто назади, тот шелудив. Мне стыдно оставаться и, чему я не обучился, признаваться, что не знаю (Тредиаковский 2009, 61–66).
Антиномия «природы» и «науки», соседствующая с эмфатическим напоминанием о древности рода Пизонов, вписывается в общую проблематику дворянского образования. Опровергая Демокрита, Гораций апеллирует к нормам светской общежительности. В насмешливом портрете высокородного стихотворца русские читатели могли узнать мотивы, использованные в горацианских сатирах Кантемира. Дворянин, считающий, будто сословное положение избавляет его от необходимости учиться красноречию, напоминает Силвана, персонажа I сатиры («На хулящих учение»):
Буде речь моя слаба, буде нет в ней чину,
Ни связи, – должно ль о том тужить дворянину?
Довод, порядок в словах – подлых то есть дело,
Знатным полно подтверждать иль отрицать смело.
(Кантемир 1956, 58)
Положительная программа Горация, стоящая за сатирической зарисовкой, перекликается с приводившимися уже строками сатиры II:
Много вышних требует свойств чин воеводы
И много разных искусств <…>
(Там же, 73)
Гораций сравнивает стихотворство сперва с воинским искусством, входящим в обязанности благородного сословия, а затем – со спортивными забавами, которые, хотя относятся к сфере досуга, готовят юношей к будущей службе. Поэзия (как позже у Ренье) предстает достойным занятием государственных мужей. В статье «О качествах стихотворца рассуждение» Теплов писал об аудитории «Науки поэзии»:
Во времена Августовы первый был Гораций, который последуя Аристотелю правила лучшие написал Римлянам к стихотворству. Квинтилиан пишет, что тогда стихотворство так было в моде и употреблении, что и сам Август Цесарь писал стихи и от того времени не токмо знатные у двора, но и Императоры Римские некоторого в том будто бы любочестия искали. «Богам де не довольно еще показалося, говорит он, что Консула Германика зделали славнейшим своего времени стихотворцем, ежели не зделали еще его обладателем света». Виргилий пишет, что Азиниус Поллио Консул преизрядные делал стихи. Юлий Цесарь сочинял трагедии. Лелий Сципион, Фурий, Сулпиций, будучи знатные в республике люди, с Терентием тайно трудились в сочинении комедий (цит. по: Берков 1936, 180).
Облик вельможных читателей Горация стилизуется здесь в соответствии с идеалом аристократической образованности. Ломоносов напоминал читателям «Риторики», что «генералы, сенаторы и сами консулы <…> будучи на высочайшем степени римския власти, у Цицерона приватно в красноречии обучались» (Ломоносов VII, 94). В 1763 г. университетский журнал «Свободные часы» писал:
<…> нет благороднее упражнения, обращаться в науках. Не всем должно дворянам быти стихотворцами; а не презирать стихотворства, конечно, должно всем (Свободные часы. 1763. Май. С. 296).
Десятилетия спустя основатель университета Шувалов, поощряя литературные опыты И. М. Долгорукова, высокородного питомца университета, писал ему: «Ничто не может быть полезнее отечеству, как знании в людях вашего рождения, без которого <sic!> чины, знатность и все наружные преимущества тщетны» (Долгоруков 2004, 52). Отметим, однако, что в последних двух случаях сочинительство оценивается не само по себе, но как частный элемент «наук» или «знаний», то есть, пользуясь точным выражением В. П. Степанова, «профессионального обучения военного и чиновника» (Степанов 1983, 110). Самому же стихотворству, как отмечает Степанов, аристократический этос отводил довольно скромное место; в частности, в «Совершенном воспитании детей» читаем:
И то не худо; ежели шляхтич древних и новых стихотворцов книги знает, и при случае на своем языке вирши зделать может, только бы сия охота для забавы была, а в слепую страсть не обратилась. Стихотворство <…> всю свою красоту и почтение теряет, ежели человек публичным рифмотворцом или явным учителем Поэзии зделается <…> (СВ 1747, 87–88).
Степанов (1983, 118) относит эти слова к числу «резких высказываний против поэзии и стихотворцев», однако в действительности сформулированный здесь взгляд обеспечивал социальную легитимацию литературных занятий в придворном обществе. Н. И. Панин, с 1740‐х гг. сочувственно следивший за отечественной словесностью, в начале 1760‐х гг. объяснял великому князю, своему воспитаннику:
Уметь стихи делать и знать правила поэзии похвально. Семен Андреич [Порошин] упражнялся в том, когда ему время было, а как прошли те обстоятельства, то он, конечно, из поэзии никогда профессии себе не сделает (Порошин 2004, 304).
Стихотворствовать было «не худо» и «похвально», и литературная деятельность утверждалась в качестве института аристократического досуга. В статье 1762 г. Домашнев обобщал: «Сие достойно особливаго примечания, что сие искусство [поэзия] никогда не было в России убежищем бедности. Все наши Стихотворцы суть Стихотворцы по склонности, а не по принуждению» (Ефремов 1867, 193). Хотя официальная логика послепетровской государственности требовала полного растворения дворянского существования в государственной службе, однако именно формы просвещенного досуга определяли групповой облик новой элиты, становясь значимым фактором общественного престижа. О Шувалове французский дипломат сообщал, что покровительство «артистам и писателям» и переписка с Вольтером «могут показаться его самыми серьезными занятиями» (Фавье 1887, 392). Домашнев в той же статье ставил в заслугу Кантемиру, что «знатность его породы и чина не препятствовали ему упражняться во всех науках», и главным образом в поэзии (Ефремов 1867, 192).
Непростому статусу поэзии в придворном обществе посвящена особая работа Тредиаковского, помещенная в «Сочинениях и переводах», – «Письмо к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии». Эта статья, как установил В. А. Западов (1985, 53–54), опирается на фразеологию дворянских руководств. Тредиаковский признает здесь, что «прежде стихи были нужное и полезное дело; а ныне утешная и веселая забава» (Тредиаковский 2009, 110–111). Однако, как мы видели, ученые «забавы», признак образованности, могли обозначать не только принадлежность к придворно-аристократической культуре, но и причастность к насаждавшемуся свыше этосу государственного служения. Вслед за Буало («Делом бы одним стихи не были на диво» – Тредиаковский 2009, 48) Тредиаковский рекомендует литературу в качестве побочного занятия. Одновременно он обосновывает пользу досуга с точки зрения службы:
<…> потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты на богатый стол по твердых кушаниях. Много есть наук и знаний, «правилами состоящих и доказательствами утверждаемых», из которых иные просвещают ум, иные исправляют сердце, иные всему телу здравие подают, а иные украшают разум, увеселяют око, утешают слух, вкус услаждают. Первые гражданству чрез познание спасительныя истины, чрез изобретение потребных вещей, чрез употребление оных благовременно, чрез действие добродетелей, чрез приятность благонравия, чрез твердость искусства крайнюю приносят пользу; но другие граждан, упразднившихся на время от дел и желающих несколько спокойствия к возобновлению изнуренных сил для плодоносящих трудов, чрез борьбу остроумных вымыслов, чрез искусное совокупление и положение цветов и красок, чрез удивительное согласие струн, звуков и пения, чрез вкусное смешение растворением разных соков и плодов к веселию, которое толь полезно есть здравию, возбуждают и на дела потом ободряют. Нет труда, чтоб предприемлем был не для какия пользы, но нет и краткия праздности, которая отвращалась бы от спокойствия и утехи. Итак, в какой бы Вы класс, из всех наук и знаний ни положили поэзию, везде найдете ее, что она не без потребности и ныне. Все что ни есть доброе, большую или не весьма великую приносящее пользу и приводящее в славу, знать и уметь по всему есть похвально, а часто и прибыточно. <…> отнюдь не советую Вам, как то знаю Вашу склонность, чтоб стихам быть только и делом единственно Вашим или б они приносили препону чему-нибудь важнейшему. При отдохновении Вашем от порученных Вам попечений о твердейшем и плодоноснейшем да будут они токмо честною забавою; ни лучше, по моему мнению, ни похвальнее еще и ни безвреднее время Ваше препроводить Вы не возможете. Сим образом и гуляние Ваше будет иногда обществу полезно (Там же, 111–112).
По мнению Н. Ю. Алексеевой, в «Сочинениях и переводах» и других своих сочинениях тех лет «Тредиаковский ориентировался не на передовой тончайший слой русского образованного общества, а на его толщу, оставшуюся в большинстве своем безвестной, однако давшую России Державина» (Там же, 479). Это утверждение не может быть принято без оговорок: приведенные выше данные свидетельствуют о придворных связях Тредиаковского и о прямой соотнесенности «Сочинений и переводов» с придворным вкусом. В то же время необходимо согласиться с тем, что аудитория этого сборника отнюдь не ограничивалась двором. Алексеева справедливо указывает на тот факт, что на протяжении двух десятилетий книга Тредиаковского была единственным учебником поэтического искусства, доступным всем слоям русской образованной молодежи – семинаристам и дворянам, в столицах и в провинции.
V
Двойственная адресация «Сочинений и переводов» – как и вообще литературы этого времени – объясняется двойственной социальной ролью образованности и ее атрибутов: чтения и сочинительства. С одной стороны, они составляли принадлежность высшего привилегированного слоя. С другой – в ходе нескончаемой социальной конкуренции они усваивались новыми претендентами на привилегии, выходцами из низших социальных слоев. Конкуренция такого рода подразумевалась устройством бюрократической государственности, деформировавшей принципы традиционной сословной иерархии: в этом был смысл петровской Табели о рангах. Эта конкуренция обеспечивалась, среди прочего, деятельностью образовательных учреждений. По выражению Гуковского, Московский университет осуществлял «пропаганду дворянских верхов в широких кругах дворянства и даже в среде поповичей, наполнявших его „разночинскую“ половину» (Гуковский 1936, 22). Тредиаковский в «Слове о мудрости, благоразумии и добродетели» адресует апологию знаний, обещающих успехи по службе, ко «всякаго чина и состояния чадам».
Пример Державина, который, по собственному признанию, в 1760‐х гг. учился «стихотворству из книги „О поэзии“, сочиненной г. Тредьяковским» (Державин 2000, 26) и общался с ее автором, позволяет хорошо судить о том, как и кем читались «Сочинения и переводы». Родившийся в 1743 г. поэт принадлежал к одному из первых поколений провинциальных дворян, которым государственное образование еще в елизаветинское царствование открывало путь к продвижению по службе. С первых своих шагов он был приучен видеть в «науках» условие государственной карьеры: благодаря «чрезвычайной к наукам склонности» и любви к рисованию он еще в детстве получил от подчиненного его отцу геодезиста «охоту к инженерству», так что отец в середине 1750‐х гг. думал «записать его в кадетский корпус или в артиллерию» (Там же, 10). Вместо этого будущий поэт попал в Казанскую гимназию, подведомственную Московскому университету и опекавшуюся лично Шуваловым. В гимназии Державин также заслужил одобрение начальства «геометрией», так что решился проситься «в артиллерийский или инженерный корпус», но в 1762 г. был по воле фаворита «записан <…> в Преображенский полк за прилежность и способность к наукам» (Там же, 16). Служебно-прагматический подход к образованию должен был соответствовать идеям тех речей «о пользе наук» и «о нужде, чтобы знать учимое ими», которые Державин вместе с товарищами произносил и выслушивал в гимназии (Грот 1997, 37).
В этом контексте нужно рассматривать начало литературных занятий Державина. По словам Гуковского, «литература <…> стала одним из основных звеньев <…> учебно-образовательной <…> деятельности» Московского университета» (Гуковский 1936, 23). В Казанской гимназии, «педагогической колонии» университета (Грот 1997, 33), элементарным упражнениям в словесности отводилась важная прикладная роль. Ученики, среди прочего, разыгрывали трагедии Сумарокова, «что сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в общении» (Державин 2000, 12).
Воспитательный взгляд на словесность сказался и в литературных интересах раннего Державина. По его словам, у него «стала открываться <…> способность к стихотворству – от чтения Од Ломоносова и Трагедий Сумарокова, а также и книг: Телемака, Аргениды, Маркиза Г. и тому подобных, которыя тогда только переведены и напечатаны были, и в Казани у некоторых особ находились» (Остолопов 1822, 5). Надо полагать, что в круг чтения Державина входили все русские издания, достигавшие Казани, однако краткий перечень важнейших книг сам по себе показателен. Как мы видели, авторитет «Похождения Телемака» и «Аргениды» основывался на том, что в них «польза и забава соединена была с пристойным к светскому житию нравоучением». Хотя Ломоносов и осуждал французские романы, «Приключения маркиза Г…» аббата Прево, по частям выходившие в русском переводе в 1756–1765 гг., также могли претендовать на нравоучительную «пользу». Как показал Лотман, любовные романы играли роль учебников поведения (см.: Лотман 1992б). Секретарь Шувалова барон Т. А. де Чуди, следуя вековой традиции, доказывал в своем петербургском журнале «Caméléon litteraire», что они «sont ainsi dire un précépte vivant de la conduite que je dois tenir, de l’urbanité, de la politesse, de la douçeur, du liant que je dois mettre dans le commerçe de la vie» ([являют собой, так сказать, живой пример подобающего поведения, учтивости, вежливости, мягкости, приветливости, которые мне следует выказывать в общественной жизни] – CL, 193; см.: Егунов 1963, 146–148). В свою очередь, Ломоносов и Сумароков – в значительной степени с подачи Шувалова – рассматривались как главные авторы национального литературного канона; издание «Сочинений» Ломоносова вышло при Московском университете, и оттуда несколько экземпляров его было доставлено директору казанской гимназии Веревкину (Грот 1997, 41). Учась поэзии у двух этих авторов, Державин исполнял совет университетского журнала «Полезное увеселение»: опубликованное там в 1760 г. стихотворное «Письмо» Хераскова призывало «младых росси´ян» писать стихи «как Сумароков пел и так, как Ломоносов», поскольку «пением» смягчается «грубость сердец» (Херасков 1961, 102–103).
Среди «похвальных» увеселений Тредиаковский упоминает, помимо поэзии, живопись («искусное совокупление и положение цветов и красок») и музицирование («удивительное согласие струн, звуков и пения»). Молодой Державин следовал этой модели просвещенного досуга. Он не только писал стихи, но и хотел заниматься музыкой; благодаря его успехам в рисовании Шувалов в 1762 г. принял «его весьма благосклонно», а близкий к Шувалову гравер Академии художеств Чемезов «хвалил его рисунки» и, «для ободрения <…> молодого человека к искусствам», «приказал ему ходить к себе чаще, обещав ему чрез Ивана Ивановича найти средство и путь упражняться в науках». Этос дворянской просвещенности не был еще общепринят и не вписывался в традиционные формы службы, так что в полку Державин должен был «выкинуть из головы науки» (Державин 2000, 17); однако, обращаясь помимо формальных иерархий к покровительству влиятельного Шувалова, он надеялся использовать плоды своих досугов как подспорье для карьерного роста.
Через тридцать лет, на рубеже 1780–1790‐х гг., Державин, по собственным словам, снова был вынужден «прибегнуть к своему таланту» (Там же, 128), на этот раз поэтическому, чтобы в сложной игре придворных партий добиться благосклонности фаворита Екатерины II и, как следствие, почетного назначения. Неформальная логика патронажа соперничала при распределении власти с формальной логикой служебной выслуги, и борьба за чины не без успеха велась и продолжалась в социальном пространстве привилегированного досуга и светской «людскости», атрибутом которой считалась изящная словесность; по словам Живова, «литературные занятия <…> способствовали продвижению в обществе, обращали на автора внимание двора, а это внимание в свой черед обеспечивало службу (порой номинальную), чин и доход» (Живов 2002а, 558–559). Именно об этом писал Тредиаковский: «Все что ни есть доброе, большую, или не весьма великую приносящее пользу, и приводящее в славу, знать и уметь по всему есть похвально, а часто и прибыточно» (Тредиаковский 2009, 112). Двойная роль сочинительства, под видом «утехи» вторгавшегося в государственный быт, описана в знаменитой строфе «Фелицы»:
Ты здраво о заслугах мыслишь,
Достойным воздаешь ты честь,
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть,
А что сия ума забава
Калифов добрых честь и слава.
Снисходишь ты на лирный лад;
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
(Державин 1957, 101)
Эта характеристика поэзии, колеблющаяся – в соответствии с формулой Горация – между «полезным» и «сладостным», напоминает о тонко нюансированных парадоксах цитировавшегося выше послания Горация «К Августу», где говорится, что поэт «полезен отечеству, буде ты признаешь, / Что великим малые вещи пособляют» (по собственному признанию, Державин в период создания «Фелицы» подражал «наиболее Горацию» – Державин 1871, 443). Точно так же в «Письме к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии» Тредиаковского говорится, что стихи «надобны», хотя «нет поистине ни самыя большия в них нужды, ни от них всемерно знатныя пользы» (Тредиаковский 2009, 111).
Комментаторы статьи Тредиаковского справедливо усматривают отзвуки его кулинарных метафор в державинской строфе (см.: Критика 2002, 417–418). «Фрукты и конфекты» у Тредиаковского, так же как и «лимонад» у Державина, символизировали «отдохновение <…> от порученных вам попечений о твердейшем и плодоноснейшем» (Тредиаковский 2009, 112); иными словами, словесности отводилось место в жизненном распорядке государственного человека. Удостоверяя в «Фелице» традиционный («здравый») взгляд на сочинительство, Державин ставит тех, «кто только рифмы может плесть», ниже людей «достойных», получающих «честь» от императрицы в силу действительных «заслуг». (По всей видимости, ода была сочинена после того, как в 1782 г. сам Державин получил после шести лет ожидания «чин статского советника» – Державин 2000, 89.) В то же время в качестве выделенного речевого жеста стихотворная апология «забав ума» делала наглядной неформальную ценность литературного досуга в механике придворной и государственной «чести и славы».
Вскоре после публикации державинской оды выученик шуваловского университета Фонвизин взывал к Екатерине в «Челобитной российской Минерве от российских писателей»: «<…> нас же, яко грамотных людей, повелеть по способностям к делам употреблять, дабы мы, именованные, служа российским музам на досуге, могли главное жизни нашей время посвятить на дело для службы вашего величества» (Фонвизин 1959, 270). Державин выказывал сходные взгляды на литературу в знаменитых стихах послания Храповицкому (1797):
За слова – меня пусть гложет,
За дела – сатирик чтит.
(Державин 1957, 248)
Под «делами» тут, конечно же, понимается государственная служба (см.: Фоменко 1983, 153–154). Державин цитирует книгу Грасиана «Придворный человек», которая – в изданиях 1741–1742 гг. или 1760 г. – должна была стать известна ему еще в елизаветинские или первые екатерининские годы, тогда же, когда он штудировал «Сочинения и переводы» Тредиаковского. У Грасиана имеется «регула» под названием «Слова и дела творят человека совершенным»:
Надобно хорошее говорить, а лучшее делать. Один объявляет добрую голову, другой храброе сердце, а оба сии достоинства от великаго разума происходят, и слова суть стень дел. Слово жена, а дело муж; чего ради лучше быть причиною похвале, нежели хвалителем. Хвалу полезнее принимать, нежели самому давать. Сказать легко, да сделать трудно. Добрыя дела суть твердость жизни, а словá украшение. Красота слов временна, а превосходство дел вечно, и исполнение действом есть плод разсуждения.
К этим словам добавлено примечание:
Некто спросил Тимоклеа, чем он лучше хочет быть, Ахиллесом или Вергилием? Тимоклей отвечал: лутче быть победителем, нежели стихотворцем (Грасиан 1760, 260–261).
Знаменитые державинские определения общественной роли поэзии и поэта восходят к языку придворной словесности, сложившейся в России в елизаветинские годы. Сам Державин принадлежал к целому поколению дворянской молодежи, будущих сановников, начавшему в 1750–1760‐х гг. воплощать в жизнь двуединый идеал «слов и дел», службы и литературных досугов. Именно тогда, по выражению Степанова, «дилетантские занятия писательством стали нормой в среде образованного дворянства» (Степанов 1983, 120). Однако большинство литераторов этого поколения считали своим учителем не Тредиаковского, а Сумарокова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?