Текст книги "Вера и личность в меняющемся обществе"
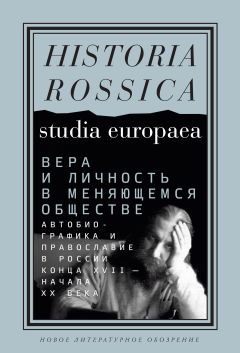
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Вера и личность в меняющемся обществе
Автобиографика и православие в России конца XVII – начала XX века
© Авторы, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
Автобиографика и православие в России конца XVII – начала XX века: вера и личность в меняющемся обществе
Лори Манчестер, Денис Сдвижков
«Сице аз ‹…› верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю». Так предваряется «автобиографическая» часть «Жития» протопопа Аввакума, с которого принято начинать историю жанра в России. Во всяком случае, историю того, что называется в англоязычной традиции modern self, личность Нового времени. Житийной литературе и Аввакуму в частности посвящена масса литературы. В то же время интерес исследователей к религиозной автобиографике последующего синодального периода оставался весьма умеренным, либо она рассматривалась в несамостоятельном значении предтечи автобиографики светской[1]1
К принятой в издании системе сносок: краткие заголовки расшифрованы в общем списке библиографии в конце сборника. Аббревиатуры также расшифрованы в списке, размещенном в конце сборника.
Среди исключений: Paperno 1988; Engelstein L. Personal Testimony and the Defense of Faith // Engelstein, Sandler. 2000. Р. 330–350; Kizenko 2000; Hellbeck, Heller 2004; Schmidt 2007; Manchester 2008; Marker 2010; Леонтьева 2012; Paperno 2014; Zorin 2016 и Зорин 2016.
[Закрыть]. На такое положение дел обратила внимание конференция «Светское и сакральное в автобиографических практиках Нового времени» (2016) в рамках проекта Германского исторического института в Москве «Церковь говорит». Предлагаемый сборник появился на свет как ее результат.
Поскольку нас интересует личность в религии, подзаголовок поясняет, что речь идет о «вере» в смысле культивирования «внутреннего человека», а не размытой веры во что-нибудь, от коммунистических идей до денег. «Личность» подразумевает кальку английского self – «самость», «Я». Наряду с отсутствием русского аналога для его постоянного спутника, определения modern self («нововременная личность»? «современное самосознание»?), трудности перевода безошибочно указывают здесь на неоднозначность историографической ситуации[2]2
См.: Бобрик 2007.
[Закрыть].
Проблемы исследования религиозной автобиографики связаны в первую очередь с пониманием субъекта, этого самого Self: как Я исторически обусловлено, является ли оно постоянной или переменной, а если переменной, то с чего эта перемена начинается[3]3
Литература обширна, см.: Зарецкий, Карпенко, Шушпанова 2017. Об автобиографике как жанре: Paperno 2004.
[Закрыть]. Историческая традиция изучения автобиографики и ее основное направление до сих пор исходят из того, что modern self – по сути тавтология. Что Я в автобиографике по определению подразумевает автономную личность модерна/Нового времени, когда бы это Новое время ни начинать, с вариантами от XII до XVIII века. Все предыдущее – не более чем предвозвестники, галерея предков.
Другой взгляд видит в Я, которое отразилось в автобиографике Нового времени, лишь определенный исторический тип «нововременной личности». До того – условно говоря, «от Августина до Руссо» – тип был иным. Если отбросить детали, основным камнем преткновения будет религиозность. Ибо согласно Якобу Буркхардту, апостолу теории «ренессансного» происхождения личности Нового времени, она невозможна без падения «покрова, сотканного из веры, детской робости и иллюзии» (Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn)[4]4
Burckhardt J. Die Kultur der Renaissance in Italien // Jacob-Burckhardt-Gesamtausgabe. Bd. 5. Stuttgart; Berlin; Leipzig, 1930. Р. 95; Гуревич 2015, 7–25 и 417–419.
[Закрыть].
Положим, в чистом виде такая дихотомия между личностью и религией присутствует далеко не везде. В европейской и американской историографии она размывалась и обилием источников религиозной автобиографики[5]5
Современный голландский исследователь сообщает между прочим, как скупает у букинистов брошюры с автобиографиями местных пиетистов, издававшихся в изобилии в XVIII веке (Деккер Р. Долгосрочные тенденции в развитии автобиографического письма в Нидерландах после 1500 года // Зарецкий, Карпенко, Шушпанова 2017, 99–118, здесь 112–113).
[Закрыть], и методами анализа, на которые мощное влияние оказали тезисы Макса Вебера о религиозных источниках модерности. Неудивительно, что исследования религиозной автобиографики лучше всего представлены именно для протестантского ареала. Прежде всего в англосаксонской традиции изучения «духовных автобиографий» (spiritual autobiographies), которые в раннее Новое время были необходимой ступенью для того, чтобы стать полноправным членом церковного сообщества, и аналогичных практик континентального пиетизма[6]6
Из недавних важных работ по протестантским духовным автобиографиям см.: Caldwell 1985; Swaim 1993, 132–159; Hindmarsh 2008; Lynch 2016. Для континентальной Европы см., например: Greyerz 2013 и статьи в Greyerz, Medick, Veith 2001. На русском языке: Янке Г. Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах (XV и XVI столетия) // Зарецкий, Карпенко, Шушпанова 2017, 149–196 со ссылками на литературу, и Паперно 2018, гл. 3.
[Закрыть].
Тогда как католицизм в системе координат Вебера представал религией таинств и общности, где основное внимание уделяется внешним обрядам. В результате вплоть до 1970‐х годов немногое делалось для изучения католического автобиографического нарратива, который развивался прежде всего в исповедных дневниках[7]7
Об отказе от веберовской концепции формирования личности в католицизме: Sluhovsky 2017. Классическое исследование формирования Я в католицизме раннего Нового времени: Davis 1995, 63–139.
[Закрыть]. Эта диспропорция изменилась лишь с 1970‐х годов, когда религиозные практики раннего Нового времени – и на сей раз преимущественно католические – попали в центр внимания Мишеля Фуко. Он реконструировал становление Я Нового времени через церковную дисциплинаризацию, прежде всего исповедь и ее ритуалы[8]8
Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. 1: La volonté de savoir. Paris, 1976. Р. 27–28, 78–94.
[Закрыть].
Связь между православием и появлением модерной личности в России оставалась долгое время в тени отчасти по тем же соображениям, что и в случае католицизма. Дополнительный нюанс придавало представление об «имперсональности» России. Изначальный тезис славянофилов поменял плюс на минус, и ответственным за обезличенность русской истории оказывалось православие с его соборностью, переходящей в советский коллективизм. С модой на Фуко изменилось концептуальное основание, но советские чистки так же по прямой возводятся к «покаянным практикам самопознания, характерным для восточного христианства»[9]9
Хархордин О. Ю. Фуко и исследование фоновых практик // Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001. С. 73–74. Подробно: Хархордин 2002.
[Закрыть]. В более дифференцированном случае применения Фуко к русскому материалу делается вывод о неэффективности установления покаянной дисциплины в России, ее бюрократизации. Что имеет следствием «нечетко очерченную индивидуальность, личность, которой присуща некоторая общинность, некоторая неопределенность в разграничении индивидуального и общественного»[10]10
Живов 2008.
[Закрыть]. Как на это отвечают источники синодального периода, можно видеть в нашем сборнике (Киценко)[11]11
Здесь и далее в круглых скобках в основном тексте даются отсылки к статьям в настоящем сборнике.
[Закрыть].
Развитие модерной личности в России представлялось неочевидным и из‐за дефицитов, отсутствия маркеров, считавшихся обязательными для Нового времени: унаследованной от Античности и возрожденной в Ренессансе традиции секулярной и правовой культуры, юридических гарантий личности, развитой культуры просвещенной общественности. Факторы развития личности представали в этом смысле только как lux ex Occident. При изучении конкретного автобиографического материала в России внешние культурные влияния оказывались на первом плане, тогда как религиозный контекст, будь то прямые упоминания веры или религиозная традиция, в которой воспитывался автор, скорее игнорировались[12]12
Engelstein. Personal testimony. Р. 5–6. Классический анализ влияния Просвещения на культуру личности Нового времени: Seigel 2005.
[Закрыть].
Однако множатся аргументы в пользу того, что православная традиция в России предлагала альтернативы для формирования модерной личности. С догматической стороны, в сотериологии и антропологии: поскольку православие в меньшей степени, чем западное христианство, восприняло учение Блаженного Августина о невозможности человеку спастись делами, здесь в меньшей степени было распространено и пессимистическое недоверие к способностям человека формировать свою личность, распространенное до Ренессанса. На институциональном, структурном уровне одним из примеров того, как православие влияло на формирование личности, может служить заметная с 1840‐х годов тенденция к развитию социально-пастырского движения в приходах[13]13
Манчестер 2015, 75–86.
[Закрыть].
Становится очевидной недостаточность источниковой базы по религиозной автобиографике в России для того, чтобы делать сколько-нибудь убедительные выводы. Отчасти это проблема объективная: сохранность личных фондов духовенства синодального периода, особенно приходского, сельского духовенства, невысока даже в сравнении с дворянством. Но и имевшиеся свидетельства[14]14
Зайончковский 1976–1989.
[Закрыть] вводились в научный оборот крайне редко. Не только по идеологическим соображениям в эпоху атеистического государства, но и потому, что для светских исследователей они оставались герметичными текстами, которые требовали особого ключа для расшифровки и анализа. За последние десятилетия перечень такого рода источников существенно расширился[15]15
Не только тексты духовенства, но и «духовной автобиографики» в широком смысле, см. например, Серов 1994; Карпинский 1995; Лямина, Самовер 1999; Хондзинский 2004; Федотова 2005 и др.
[Закрыть], и в настоящем сборнике ряд статей основан на неопубликованных материалах.
По прагматическим соображениям сборник ограничивается «официальным» православием, главенствующим в дореволюционной России. Но без жестких рамок, позволяя себе экскурсы в старообрядчество и сравнения с инославными конфессиями.
Интерес к истории синодальной церкви в светской исторической науке возродился несколько десятилетий назад с изучения социальных характеристик и структур церковной жизни и анализа массовых источников[16]16
Freeze 1977; Freeze 1983.
[Закрыть]. Исследования в русле социально-культурной истории по-прежнему плодотворны и открывают множество интересных перспектив. Недавние работы в большой степени опираются на личные свидетельства в широком смысле, особенно судебные показания[17]17
Лавров 2000; Смилянская 2003.
[Закрыть]. В архивные фонды государственных и церковных институтов силой вещей попадали прежде всего именно такие документы, которые свидетельствуют об отклонениях от религиозной нормы. При всей познавательной ценности они не могут дать полное представление о самой норме – и в большой степени это как раз прерогатива автобиографики[18]18
Ср. Кириченко 2002 о дворянском благочестии.
[Закрыть].
Проблемой при ее изучении может стать накладываемый исследователями имперского периода растр социальных структур. Исключительное внимание исследователей этой эпохи долгое время привлекали сословия, в нашем случае духовное сословие с его специфической культурой и самосознанием[19]19
Сб. Провинциальное духовенство дореволюционной России (Тверь, 2005, 2006 и 2008), работы А. В. Матисона, Т. Г. Леонтьевой, Н. В. Беловой и др.
[Закрыть]. Учитывая, как долго духовенство было изгнано со страниц отечественных научных трудов, это неудивительно. Однако следует отличать духовную автобиографику от автобиографики духовенства. Интерес к последней предполагает реконструкцию уникальной субкультуры синодального периода, историю закрытого сословия «бурсаков» и «левитов». Как правило, ограниченной временными и территориальными рамками прихода, города, епархии или региона, нередко тяготеющей к истории повседневности. Личные свидетельства используются здесь в качестве «кладезя фактов», отсутствующих в массовых и официальных источниках.
Как дань общественным реалиям рамки сословий организуют и многие статьи в настоящем сборнике (ср. Феофанов и Запальский о дворянстве, Ульянова о купцах, Херцберг о крестьянах, Агеева, Лукашевич, Манчестер и Цапина о духовенстве). Социальные рамки позволяют расширить хронологические и проследить развитие личного самосознания в России в longue durée. Однако при этом важно помнить, что феномен модерной личности не ограничен рамками социальных групп, а религия в синодальный/имперский период продолжала играть роль культурной системы, объединявшей людей помимо их правового или профессионального статуса[20]20
Впервые о мирянах в этой перспективе: Shevcov 2004.
[Закрыть]. Закономерно поэтому, что в других статьях сословный фокус отсутствует или они сфокусированы вместо этого на конкретном случае/личности (Сдвижков, Сочива, Маркер, Колман, Беглов, Дальке).
Профиль и плоды исследований личных свидетельств зависят не от социальной принадлежности, а от уровня и культуры рефлексии источника. Не сказать, чтобы между первым и вторым не было никакой корреляции, но и преувеличивать ее не стоит. В противном случае «мыслящая личность» в России ограничится привычной схемой «двор – дворянство – интеллигенция». Так что идеальный объект исследования в нашем случае – «люди веры» (religious persons)[21]21
Янке. Каритас Пиркхаймер. С. 149–150.
[Закрыть], социальные границы между которыми имеют такой же гибкий и ситуативный статус, как разделения в реальном пространстве православного храма.
Плавающий фокус стоит задавать не только для сословных, но и для временных рамок. Это позволяет обратить внимание на постепенность формирования культуры модерной личности от ее начальных форм – осознания себя отдельным индивидом – до текстов с самоанализом, созданных теми, кто стремится сам сформировать свое Я, создать себя. Чтобы отразить эту динамику и не оставлять вне фокуса исследований разные формы автобиографического нарратива, в заглавии говорится об «автобиографике» как практике того, что, собственно, обозначает термин: «самоописание своей жизни» (ауто-био-графе)[22]22
Lynch 2012, 12.
[Закрыть]. В круг источников наряду с поденными записками, автобиографиями (Херцберг, Запальский), мемуарами, дневниками (Колман, Лукашевич) и письмами могут включаться хроники (Агеева), календари, некрологи (Манчестер), духовные завещания[23]23
См. введение в: Козлова, Прокофьева 2015, 22–64; Paperno 2004, 562–563.
[Закрыть].
Рассматривая веру как фактор формирования личности, важно обращать внимание на то, какие причины/ситуации, относящиеся именно к религиозной жизни, заставляли или побуждали высказаться о себе. Как правило, это высказывание связано с приходом к вере и принимает форму, традиционную для христианской культуры, – исповеди. Самоосознание «человеком веры» требует трансцендентного разрешения конфликта между потенциальной бесконечностью своего Я и реальной конечностью его земного существования, происходя sub specie mortis.
Так, духовный путь протопопа Аввакума начинается с потрясения, «видев у соседа скотину умершу». В особой степени это касается человека на войне, тем более непрофессионального военного, какими в массе своей были русские дворяне на службе в XVIII веке. Рефлексия о войне и страх смертный отличают и автобиографические тексты Л. Н. Толстого[24]24
Paperno 2014.
[Закрыть], которые с высот достигнутого к концу имперского периода уровня рефлексии подводят итоги эпохе. Особое внимание в религиозной автобиографике уделяется переходным периодам от и к вечности, детству и старости. И в общем «претерпению» разного рода экстремальных состояний.
В качестве феномена религиозной жизни следует понимать как ритуалы, которые ассоциируются с «внешней» и традиционной религиозностью: службы, требы, пост, участие в таинствах и т. п., так и рефлексивные практики новой религиозной культуры, которые условно можно назвать «внутренними» (чтение, личная молитва), хотя в реальности они тесно связаны с «внешним». В этом же ряду осмысление категорий, имеющих экзистенциальное значение – таких, как время и пространство (Маркер)[25]25
См. Sherman 1996.
[Закрыть].
С пространством, с одной стороны, и с дорогой как метафорой жизненного пути и предприятием на грани жизни и смерти – с другой, соотносится сакральный травелог паломничества (см. Сдвижков, Феофанов)[26]26
Воробец 2014, там же ссылки на литературу.
[Закрыть] или дневники миссионеров[27]27
См. Акимова 2012 с обзором литературы; в общем: Geraci, Khodarkovsky 2001.
[Закрыть].
В случае миссионеров ведение дневников не только поощрялось, но и прямо предписывалось. Такого рода побуждение к самовысказыванию – общая черта автобиографики Европы раннего Нового времени: родители ожидали ведения дневников от детей, мужья – от жен, исповедники – от своих духовных чад[28]28
Помимо статьи Н. Киценко в наст. сб., ср., например, исповедальный дневник А. П. Хвостовой (1817): Костин 2011. О дневниках детей: Зорин 2016.
[Закрыть]. С развитием личности и культурной традиции автобиографики обязанность превращается в привычку, привычка – во внутреннюю потребность.
Дневники могли использоваться верующими и для внутреннего диалога о тех аспектах внешнего мира, которые, по их представлениям, соотносились с их внутренним духовным миром (ср. Лукашевич о размышлениях Н. Лескова над дневником священника, связанных с необходимостью церковных реформ). Или эти внешние факторы были настолько неотделимы от самосознания, что их невозможно было обойти, даже посвящая себя исключительно миру духовному (ср. Запальский). Сакральное и секулярное для православных верующих сплетались воедино.
Но фундаментальная разница с секулярными текстами – в смыслах, которые вкладываются в высказывание о себе. В религиозной автобиографике это не может быть диалог с самим собой, выстраивание автономного мира Я, но всегда обращение поверх него. Будь то размышление, молитва, исповедь или увещание и назидание (oikodomē/aedifikatio, 1 Кор. 14: 3). Помимо Бога как виртуального собеседника или свидетеля, адресатом может выступать собственная семья, потомки, община, определенная группа, вся церковь, а то и вся страна/нация/общество.
В выборе нарратива русской православной духовной автобиографики универсальной остается ориентация на жития. По личным свидетельствам очевидно, что наряду с богослужебной и учительской литературой жития, особенно благодаря популярной версии – Четьям-Минеям св. Димитрия Ростовского, являются не просто привычным, но любимым чтением весь XVIII и существенную часть XIX века. Типология религиозной автобиографики определяется соответственно основным топосам житийной литературы: это «пространное житие» («жизнь во Христе») и пассия/мартириум. В первом случае стержень составляет возрастание «из силы в силу», во втором, аналогично spiritual autobiographies, – духовный кризис (см. Манчестер о тяготении белого духовенства к первому типу, а светской интеллигенции ко второму).
Влияние авторской литературы, включая церковных авторов вроде Блаженного Августина, смешанные жанры (как Фенелон или Даниэль Дефо) и светские образцы типа Лафатера или Руссо, в религиозной автобиографике отличается от светской традиции. Упоминания о чтении такого рода нередки в автобиографиях духовенства или верующих мирян. Упоминаются «Письма русского путешественника» Карамзина (1791–1792) или, к примеру, «Записки морского офицера» Владимира Броневского (1817)[29]29
Савва 1898–1911, Т. I (1898): 1819–1850, 157.
[Закрыть]. Вряд ли, однако, это можно сравнить с литературоцентризмом поколения читателей «Вертера» и Руссо[30]30
См. Зорин 2016.
[Закрыть], который прямо обусловил культ «внутреннего человека» у нарождающейся интеллигенции.
С другой стороны, разделить автобиографический нарратив в литературе на светский и религиозный едва ли возможно[31]31
См. Steinberg, Coleman 2007.
[Закрыть]. Не говоря уже о «назидательной» литературе, которая входила отнюдь не только в религиозный канон чтения, – как пользовавшийся бешеной популярностью Фенелон и тот же Дефо или разного рода и степени мистики и гностики (автобиография Юнг-Штиллинга, сочинения Арндта, Эккартсгаузена, Сен-Мартена и т. п.) – но даже сугубо светских авторов читали по-разному и «вычитывали» разное содержание.
Далее, со смещением понятий о «духовности» в XIX веке светская литература берет на себя часть функций духовной; мы можем наблюдать смешанные формы литературно обработанной автобиографики или фикциональных дневников священников (Лукашевич). Действительное отграничение в религиозной автобиографике по отношению к литературе существует скорее применительно к легким жанрам, «романам»; они прямо противопоставляются житиям как вымысел – правде (Сдвижков).
Взаимопересечение светского и религиозного в автобиографике включает интертекстуальность: как нередки в религиозных автобиографиях заимствования из светской дворянской литературы такого профиля, так же часты, наоборот, в светских текстах цитаты из религиозных. Особенности стиля, там, где они есть, определяют церковный обиход синодального периода и сословная субкультура духовенства: использование, аналогично французскому в дворянской автобиографике, латыни[32]32
Ср.: Kislova E. Latin as the language of the orthodox clergy in eighteenth-century Russia // V. Rjéoutski, W. Frijhoff (ed.). Language Choice in Enlightenment Europe. Amsterdam, 2018. Р. 191–224.
[Закрыть]; противопоставленная, наоборот, дворянству, «разночинская» манера; намеренно патриархальный, архаизированный язык, использующий многочисленные библейские образы и отсылки к церковному бытию.
С развитием жанра, появлением в печати многочисленных автобиографических произведений духовного характера во второй половине XIX века образцы, а скорее уже шаблоны, воспроизводятся на их основе. В свою очередь, житийная и созданная в ее русле автобиографическая литература влияет на светских авторов, от интеллигентов-шестидесятников и народников[33]33
Ziolkowski 1988; Morris 1993; Манчестер 2015; Сабурова Т., Эклоф Б. Дружба, семья, революция. Николай Чарушин и поколение народников 1870‐х годов. М., 2016.
[Закрыть] до крестьянских свидетельств (Херцберг)[34]34
См. также: Herzberg 2013.
[Закрыть] и автобиографики революционеров. Последние построены по тому же типу истории обращения в веру, а в языке, которым описывается «жизнь за идею», присутствуют образы и приемы, типичные для духовной автобиографики (Дальке).
Из сказанного уже ясно, что авторы сборника – не сторонники бинарных противопоставлений. Последние облегчают восприятие исторических реалий, которые часто не поддаются классификации и не могут быть описаны в рамках аналитических моделей. Но противопоставления неизбежно подчиняют материал своей логике и могут существовать только на уровне абстракций. В исследованиях же реального исторического материала антагонизм модерности и религиозности, или, в русском варианте, линейность «обмирщения» при европеизации и модернизации, уже давно поставлены под вопрос[35]35
Freeze 1990. Соотношению модерности и религии в России посвящен сб. Michelson, Kornblatt 2014.
[Закрыть].
Однако и логика множественности, плюрализма, отрицания границ имеет такую же инерцию, как и то, что она опровергает. Отсутствие линейности в связи религиозности и модерности не означает отсутствие самой этой связи. Христианство – религия личности, определяющая европейское представление о персональном и существующая в нем. В то же время религиозное Я в России после Петра I формировалось со становлением культурных норм, во многом противопоставленных христианской традиции, как ее понимали и поддерживали до Петра (см. Феофанов).
Разделения играли важную роль в формировании самосознания, в том числе религиозного, а границы влекли не только путешественников. Сравнимый с Реформацией эффект в России вызвал раскол, а затем появление гражданской сферы жизни, «светской команды». Вера перестала быть само собой разумеющейся данностью, требовала рефлексии, нового открытия, заставляла высказываться. Именно с появлением альтернатив, как и в эпоху конфессионализма в Европе, церковность в России стала фактором идентичности. При последующем постоянном расширении империи, включением в нее иноконфессиональных областей это становилось лишь все более зримым (см. Колман)[36]36
Ср.: Geraci, Khodarkovsky 2001.
[Закрыть].
При империи «гражданское» отождествлялось с государством, службой, «пользой общей». «Духовное», «божественное» силой вещей и волей верховной власти постепенно было отсюда вытеснено и стало восприниматься как частное, личное. В автобиографике это заметно по различиям между личными свидетельствами на службе и вне ее (см. Сдвижков). Но при этом новое религиозное самосознание в послепетровской России формировалось вместе с новым самосознанием гражданским. Интериоризация гражданских ценностей имперского патриотизма, кодекса чести, цивилизационных норм шла параллельно с интериоризацией ценностей религиозных, и это отразилось на отмеченной в исследованиях религиозной составляющей русского Просвещения[37]37
Steinberg, Coleman, 10; Wirtschafter 2013; Цапина.
[Закрыть]. Для следующего XIX века «классической» русской культуры модерности в России приписывают «hybrid and self-searching character»[38]38
Engelstein 2000, 16.
[Закрыть], а «Исповедь» Толстого выглядит как «попытка повернуть вспять ход развития западной мысли»[39]39
Паперно 2018, 18.
[Закрыть].
Очевидно, что религиозное самосознание (religious self) новой России нельзя исследовать статично, его социальная прописка и вектор распространения неоднозначны. Считать двор, даже петровский, рассадником обмирщения, значило бы игнорировать роль, которую религиозные смыслы играли в «сценариях власти»[40]40
Wortman 1995, 2002; Марасинова 2017.
[Закрыть] или, скажем, придворное проповедничество в истории русской проповеди[41]41
Проповеди 2017.
[Закрыть]. Постоянного внимания и рефлексии требовали законодательное оформление религиозной жизни, усилия по ее упорядочиванию и дисциплинаризации.
Логично ожидать здесь активного участия образованных элит – и действительно, бóльшая часть религиозной автобиографики XVIII века принадлежит дворянам и церковным иерархам. Но в то же время принципиально иной вес в этой области имеют факторы харизматические: ведь начинается история духовной автобиографики с протопопа, и в дальнейшем вехи в ее истории расставляют фигуры масштаба о. Иоанна Кронштадтского[42]42
Kizenko 2000.
[Закрыть].
На протяжении XVIII–XIX веков можно видеть, как постепенная демократизация автобиографики связана с ростом образования, расширением культурного и религиозного канона. Именно в этом жанре можно впервые услышать голоса до того «безмолвствующих» групп из социальных низов – приходского, сельского духовенства, крестьян (см. Херцберг), солдат[43]43
Митрофан, инок 1878.
[Закрыть]. Не в последнюю очередь это касается и женщин. На протяжении нашего периода они начинают играть особую роль в религиозной культуре, их личные свидетельства составляют важную часть религиозного «ревивализма» по всей Европе[44]44
Gretchanaia, Viollet 2008 и др.
[Закрыть]. В начале женской автобиографики в России – мемуары монахини Нектарии alias Натальи Борисовны Долгоруковой[45]45
Савкина 2007, 68–76.
[Закрыть]. Роль текстов, принадлежащих женщинам, наглядно демонстрирует и статья Надежды Киценко[46]46
См. также: Кириченко 2010; Манчестер 2012; о дневнике Долли (Дарьи) Фикельмон: Sdvižkov 2015, 125–129.
[Закрыть].
Сборник завершается статьями, посвященными судьбе наследия имперского/синодального периода после 1917 года[47]47
О метаморфозах духовной автобиографики (spitirual autobiographies) в революционной традиции ср. Hellbeck 2006; Halfin 2000 и 2011; Hernandez 2002 и др.
[Закрыть]. Трудно представить себе более противоположных людей, чем те, которым посвящены эти статьи: один – епископ в преследуемой катакомбной церкви, другой – лидер большевиков, непосредственно связанный с антирелигиозными кампаниями. Тем не менее поражает сходство пламенной веры у них обоих. Хотя рефлексии епископа о своем прошлом и настоящем, написанные в 1928–1934 годах, проникнуты духом катастрофы, он сравнивает себя в то же время с первыми христианами и благодарит Бога за то, что ему выпало жить в этих нуждах и горестях; преследования лишь укрепляют его в вере (Беглов). В то время как восторг и радость, которые испытывает большевистский лидер, говоря о революции с реальной и виртуальной публикой, упрочивает его веру в коммунизм (Дальке).
Включение статьи о большевике Емельяне Ярославском в сборник по религиозной автобиографике, казалось бы, расширяет понятие «веры» вопреки высказанному вначале до функционального понятия в духе Эмиля Дюркгейма: вера здесь выполняет определенные общественные функции, а не связывает со сверхъестественным. Но, с другой стороны, религиозные аллегории, которые приводит Ярославский, его сравнение себя с Христом говорят о типичном для Нового времени секулярном переосмыслении религиозных ценностей.
В качестве итога для введения и оценки результатов своих усилий любой не излишне самонадеянный автор или составитель сборника не может не поставить в конце многоточия. Тем более должны это сделать мы для сюжета, который затрагивает ни много ни мало веру, личность и ее самосознание: «the marvel of consciousness – that sudden window swinging open on a sunlit landscape amidst the night of non-being…»[48]48
«Что Вас удивляет в жизни? – Чудо сознания – то неожиданно распахивающееся окно, из которого открывается вид на залитый солнцем пейзаж посреди ночи небытия» (Владимир Набоков (Feifer G. An Interview with Vladimir Nabokov. Saturday Review. 27.11.1976. Р. 22)).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































