Текст книги "Вера и личность в меняющемся обществе"
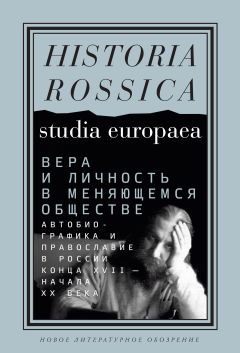
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
с) Визуальные знаки. К визуальным знакам причисляется целый набор энигматических практик: акростихи и геометрические формы имени, помещение имени внутри книжной иллюстрации или использование визуального образа для символического представления чего-либо, не называемого буквально. Честно говоря, я не знаю, как интерпретировать акростихи и геометрические формы помимо демонстрации эрудиции. Эта практика была общераспространенной в Европе Средних веков и эпохи Возрождения, включая южнославянский православный мир, где акростихи появлялись в разных текстах, включая некоторые азбуковники и минеи. В эпоху барокко они стали популярными среди ученого духовенства западной Руси, включая Симеона Полоцкого, Стефана Яворского и Димитрия Ростовского. Иногда акростих представлял собой краткое приветствие или молитву; в некоторых (но не во всех) случаях просто повторялось заглавие. Акростих мог появляться только в рукописной версии или в одном из изданий, но отсутствовал в других. Временами геометрические композиции предполагали астрологическую подоплеку. Так или иначе, очевидно, что любой из этих визуальных персональных символов добавлялся по усмотрению автора, но для какой цели – остается неясным.
Невербальные автографы были менее распространены, а если появлялись, требовали от читателя умения их расшифровать. Однако в случае расшифровки содержащийся в них смысл становился прозрачным, связывая определенный образ или их сочетание с автором. Пример этого содержит рукописная книга эмблем Кариона Истомина «Книга любви знак в честен брак» (М., 1689). В созданной по случаю свадьбы Петра I с Евдокией Лопухиной «Книге любви» поэзия сочеталась с яркими цветными изображениями. Одно из них представляло ярко-красное бьющееся сердце со вставленным словом «живаю». Елена Погосян и Мария Сморжевских показали, что сердце символизировало самого Истомина – очень персонализированное подчеркивание темы любви и обязанностей суверена, при всем своем тактичном подходе не сильно отличающееся от более открыто заявленной позиции Кроковского тринадцатью годами позже[219]219
Погосян Е. А., Сморжевских-Смирнова М. А. «Книга любви в честен брак»: воспитание чувств молодого царя Петра Алексеевича // Con amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010. С. 519–528.
[Закрыть].
d) Корреспонденция. В отсутствие автобиографий письма, очевидно, представляют собой наиболее обширный комплекс релевантных документов. Восточнославянские монашествующие писали друг другу письма поколениями – и большинство из них, вероятно, потеряны. Но все же некоторые сохранились, а счет опубликованных идет на сотни. Обычно они имели формальный характер и были сфокусированы на церковных вопросах, но могли временами содержать маргиналии в виде приветствий и выражений братской приязни. Некоторые из них и вовсе носят чисто личный или частный характер. Это особенно характерно для иерархов в гетманской Украине или происходивших из нее, которые подходили к эпистолярному жанру очень серьезно. Некоторые, как Димитрий Ростовский, сохраняли свои письма в составе томов «епистолари» – надо полагать, предназначенных для потомков.
Одно уже наличие таких писем привлекает внимание. Иногда там, где автор письма отступал от формальностей, обнаруживая эмоции или колебания, возникает искушение видеть в языке непосредственное выражение чувств. Возможно, так и есть. Но следует опасаться упрощений. История эмоций превратилась в серьезное поле исторических исследований. Хотя единая интерпретационная модель в ней отсутствует, она понуждает каждого, кто обращается к этой теме, задаваться серьезными вопросами о медиаторах между эмоциями в тексте и эмоциями в сознании и телесных ощущениях.
Монашествующие респонденты в реальности выражали богатую палитру эмоций, нередко содержавшую нестыковки и противоречия в пределах одного абзаца (в конце концов, монахи тоже только люди). Письма к и от официальных лиц (а почти все наши герои занимали официальные посты) требовали посредников: писцов, почтовых агентов, курьеров, управляющих и т. п. Посредники представляли собой лишние глаза, и они могли передать то, что прочли, другим вышестоящим. При пересечении границ письма подвергались дополнительному риску перлюстрации. Респонденты часто доверяли передачу писем с оказией своим знакомым, которые отправлялись в тот момент в путь. Это могло быть просто удобным, либо же это была попытка ограничить круг читавших письмо. Некоторые исследователи предполагают, что личные письма в среде духовенства вообще не подразумевались как частные – что их передавали, прочитывали вслух и копировали друг у друга[220]220
Петров 1882.
[Закрыть]. Не зная конкретных обстоятельств посылки, написания и получения, нельзя и неправильно заключать априори, что частные письма представляли собой исключительно поле взаимодействия автора и получателя.
Однако даже если не исключать посторонних глаз, частные письма все же были предназначены для передачи чувств более, чем официальные, – просто потому, что были частными. Подразумеваемый адресат уже знал автора, с которым он или она, очевидно, разделяли общий опыт и общие воспоминания. В среде киевского духовенства в Великороссии частное письмо часто служило средством поддержать братскую приязнь в отдалении друг от друга. Особенно если содержание письма было доступно лишь ограниченному кругу, привилегированному знанию, отличавшему корреспондентов от прочих. Частое употребление в своей среде выражений или слов на иностранных языках, особенно латыни и польском, представляло собой проявление коллективной идентичности, взаимного признания и эксклюзивности, напоминание друг другу и об общем знании, и об общем происхождении. Были и примеры переписки целиком на иностранных языках. Выражения приязни иногда распространялись на отдельных представителей московского духовенства, например Кариона Истомина и Федора Поликарпова, которые сами получили полиязычное образование по иезуитской модели в Московии[221]221
Димитрий Ростовский в своих письмах другим респондентам проявлял особое внимание к К. Истомину и Ф. Поликарпову, упоминая их часто и с особой теплотой – например, в переписке со своим другом Феологом, монахом Чудовского монастыря и справщиком печатного двора (Федотова 2005, 67, 75, 76, 82, 84 и др.)
[Закрыть]. Этим избранным московитам адресовались слова личного расположения, даже если сами письма были между соплеменниками с Украины («пожалуй передай мои поклоны другу моему…»). Реже в это братство включались киевские элиты из мирян, такие как гетман Иван Мазепа или Филипп Орлик: знание языков у обоих служило опознавательным знаком культурной элиты и казацкого достоинства.
Не один исследователь уже брался за личную корреспонденцию в поисках личного самосознания или менталитета[222]222
Недавний пример: Дзюба О. М. Украiнська духовна елiта в Росии ХVIII ст.: служiння и служба (на матерiалах епiстолярноi спадшини) // Украiнський iсторичний журнал. 2012. 6. С. 57–73.
[Закрыть]. Особенно обширна литература о Димитрии Ростовском – прежде всего это работы М. А. Федотовой[223]223
Помимо огромной дореволюционной литературы о Димитрии Ростовском, в последние годы появились десятки новых исследований и диссертаций, многие из которых обращаются к его переписке. Однако у Федотовой эпистолярный архив Димитрия – в центре работы, он описывается подробно, включая несколько важных статей в соавторстве с А. А. Крумингом, что делает «Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского» фундаментальным трудом.
[Закрыть]. Как Баранович и Галятовский до него, Димитрий Ростовский использовал переписку с коллегами из духовных, чтобы иметь более или менее надежное пространство для обсуждения общих проблем, касающихся паствы и веры. Пространство, в отличие от его трактатов, проповедей и житий, отделенное от публичного оглашения. Здесь, в этом относительно надежном текстовом поле, он мог быть не столь осторожным, и тут можно обнаружить неочевидную на первый взгляд открытость в отношении того, как говорить с паствой о сложных и противоречивых материях, как без раздражения реагировать на несогласие. В переписке со Стефаном Яворским Димитрий писал, например, как следует подходить к потенциально щекотливым вопросам в сочинениях, которые могут попасть в руки читателей (адаптация календаря к Ветхому Завету и Хронографам, борьба с распространенными предрассудками и т. п.). Димитрий не раз подчеркивал, что во избежание недоразумений и подозрений иногда лучше промолчать.
В таких случаях в переписке он мог переходить на польский или латынь, иногда сочетая оба языка с русским в одном предложении. Это можно понять, вероятно, как отсылку к общей эрудиции или как средство еще более затруднить понимание для третьих лиц. Одно из таких размышлений заканчивалось так: «в книгописательстве aliud est historicum esse, aliud interpretem, aliud нравоучителем»[224]224
«Одно дело быть историком, другое толкователем, другое нравоучителем». Письмо Стефану Яворскому, 11 декабря, 1707 г. // Федотова 2005, 138.
[Закрыть]. Димитрий Ростовский делился своими оценками других сочинений, постоянно спрашивал о книгах, которые были ему нужны, и справлялся о благополучии коллег-клириков. Он часто рассуждал, но редко вспоминал. Форму переписки он использовал, чтобы укрепить общую сопричастность вере, противопоставив ее треволнениям мира вне монастырских стен. Возможно в таком случае, что в корпусе автобиографики российского православного монашества возникают общие очертания модели, имеющей общие черты с западным христианством периода позднего Средневековья и Ренессанса. Только здесь, в России, на нее оказывал влияние контраст между монашествующим духовенством и петровским государством – сложная антиномия, которую обе стороны четко осознавали. Мы можем описать это как нарративное закрепление сакрального путем встраивания чувствительного и эмоционального монашеского Я, постоянно и со всех сторон подвергаемого проверке на прочность светскостью его бытия, которое все больше выходит за монастырские стены, в библейскую космологию. Возможно.
Проверить эту модель и умножить число примеров сможет, видимо, лишь объемное исследование переписки ученого монашества. При существующем же положении вещей позвольте проверить эту сырую гипотезу на одном заключительном примере – Феофана Прокоповича. Непреклонный и бескомпромиссный вития, заявивший о себе как о стороннике прямой и лишенной эмоций риторики, «жуткий» бич российского православия, по Флоровскому, Прокопович, казалось бы, представляет собой наименее вероятный источник для того, чтобы найти в его переписке откровения о себе. Мы знаем, что Прокопович не был монастырским аскетом; он открыто участвовал в светской жизни Петербурга[225]225
Андрей Иванов завершает работу над монографией с рабочим названием «A Spiritual Revolution: the Reformation and Enlightenment in Orthodox Russia, 1700–1825» («Духовная революция: Реформация и Просвещение в православной России, 1700–1825»), в которой большое внимание уделено Прокоповичу и как личности и как мыслителю.
[Закрыть], и эта сторона его жизни живо предстает в письмах. Но приземленность и откровение о себе или рефлексия – это разные вещи.
Так или иначе, уже давно Ф. А. Терновский (1865) и Н. И. Петров (1882) частично опубликовали переписку Феофана, часть которой, как они оба замечали, носила личный и эмоциональный характер[226]226
Петров 1882, 498–508; Терновский 1865.
[Закрыть]. По словам Петрова, «сдерживая проявление своих мыслей и чувств в самых письмах, Феофан Прокопович с большею откровенностию и задушевностию высказывался в приписках к этим письмам»[227]227
Петров 1882, 498.
[Закрыть].
Прокопович был неутомимым автором корреспонденции (похоже, он вообще был во всем неутомим), и, если читать внимательно, его письма многое смогут рассказать[228]228
Кроме Петров 1882 и Терновский 1865, см.: [Прокопович Феофан.] Epistolae Illustrissimi ac Reverendissimi Theofanis Prokopowicz variis temporibus et ad varios amicos nunc primum in unum corpus collectae. М., 1776; Прокопович Феофан. Философськi твори. Том III: Листи. Киiв, 1980. Частные письма часто публиковались в журналах.
[Закрыть]. Он обычно щепетилен в выборе языка в зависимости от положения или происхождения адресата. Письма мирским лицам, как правило, написаны по-русски, а адресованные украинским духовным лицам – по-латыни. Были исключения: Марковичу, например, он писал на латыни, а официальные письма российскому духовенству по-русски[229]229
Впервые опубликованы в различных сборниках середины – второй половины XVIII века. Сто лет спустя Терновский перевел их на русский и опубликовал в ТКДА (Терновский 1865).
[Закрыть]. Но в общем и целом такое языковое разделение он сохранял на протяжении всей своей карьеры. При отправлении в 1716 году из Киева в Санкт-Петербург, а также некоторое время спустя, Прокопович переписывался со студентами и преподавателями Киевской академии о своих планах и выражал надежду, что после его отъезда будет сохранена та же учебная программа. Все было написано по-латыни.
Письма Марковичу, которые казались Петрову очень искренними, были полны разнообразных чувств: удовольствия, раздражительности, раскаяния, когда Прокопович долго не писал, уверений в неизменной дружбе, озабоченности о личных недоразумениях и частных замечаний (обычно нелицеприятных) о взаимных знакомых. Одно особенно эмоциональное письмо выражало уязвленность Прокоповича тем, что представлялось ему упущениями Марковича в переписке:
‹…› Ты слышал, что я страдал продолжительною болезнию: но ни та, ни другая причина не побудила тебя написать что-нибудь к нам. Откуда это молчание? ‹…› Ибо я знаю, как ты расположен к моему убожеству, не сомневаюсь в дружбе и благосклонности того, кто считает себя как бы сыном моим и кого желаю звать братом и не стыжусь называть господином. И так какая же причина молчания?[230]230
Петров 1882, 501.
[Закрыть] (здесь и далее в цитатах курсив и выделение мои. – Г. М.).
Резкие выражения, ремарки о физической и душевной боли привлекают внимание. Как выяснилось, все это было недоразумением из‐за задержки корреспонденции, и в следующем письме Прокопович без конца извинялся. В этот раз он взял тон смиренный и формальный, называя Марковича «Знатнейший и вельможнеиший господин Маркович, мой господин и брат многоуважаемый», а себя «преданный брат и слуга Феофан»[231]231
Там же, 502.
[Закрыть].
В этом месте можно возразить, что это был искусственный прием, особенно если содержание частных писем становилось гласным (сам Прокопович часто упоминает по именам посредников в передаче корреспонденции). Маркович был аристократом с большими связями, а письма писались в 1716 году в важный момент, когда Феофан готовился к смене положения от провинциального, пусть и Киевского, иерарха к высотам власти при петербургском дворе. Конечно, в этот момент было необходимо правильно смирить себя, чтобы не утратить фавор Марковича. Соглашусь, безусловно, это был прием, но не только. Всегда сложно различать лицо и лик, и они преспокойно могут соседствовать в одной фразе. Во всей этой переписке Прокопович смешивал личное и сакральное, парафразируя Библию, цитируя святых отцов (в этом случае Григория Богослова). Феофан выражал глубокие чувства в вопросе об истинной вере и ереси, и все это было привязано к его личности. Он был неудержим в оценках (в основном негативных) других духовных лиц и отдельных мирян и в распространении слухов о том, как высоко его ценят среди придворной элиты. Язык временами отдавал совершенным нарциссизмом, многие строки он посвящает собственным добродетелям, сварливо обрушиваясь на несправедливость критики, чтобы затем для проформы признать, что и он сам лишь бедный грешник.
С господином Борзаковским, родственником вашим, хотя он тяжко нас оскорбил и вашу расположенность перед многими толковал за ненависть, мы немедленно и охотно примирились, по просьбе знатнейшаго господина теста твоего и по твоей собственной. Для этого весьма достаточно было и твоего одного ходатайства; ибо нет для меня важнее, достойнее и сильнее твоих просьб; да будет так милостив ко мне, грешнику, Господь кровию Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа[232]232
Петров 1882, 503.
[Закрыть].Сиятельнейший князь Меньшиков вместе с князем Димитрием и сенатором Петром Матвеевичем Апраксиным и другими вельможами (между ними и господин Шпетак) обедали у меня с удовольствием и благодарностию 15 января. Потом и с теми же гостями мы были 17 января на обеде у отца архимандрита[233]233
Там же, 506.
[Закрыть].
Даже в выражении скорби и потери он не может не оставаться желчным. Письмо мая 1720 года оплакивало смерть знакомого клирика: «Вот суета человеческих дел!.. в тот же день… скончался о. Михаил, к величайшему вашему прискорбию. Водянкою, так как был толстый, болел, 6 недель: сначала ноги опухли; потом, когда врач составил лекарство и несколько раз дал ему пить, опухоль в ногах прошла…»[234]234
Там же, 507.
[Закрыть] Детальное изложение смертных мук распространяется далее на несколько предложений. И подобно запискам Вишенского, письмо круто меняет фокус, а с ним и настроение. Тут же следующий параграф описывает восхищение Прокоповича после недавнего посещения коллекций того, что станет Кунсткамерой, наполненной «всякими человеческими частями… многия редкости природы, змеи, крокодилы, монстры, и проч…»[235]235
Там же, 507–508.
[Закрыть]. Новое каменное здание, где они были размещены, радостно сообщает Прокопович Марковичу, находится буквально в нескольких шагах от его собственной резиденции, а это означает, что он сможет часто его посещать. Прокопович, похоже, быстро забывает про скорбь. Но эта мгновенная перемена настроения не должна заставлять нас принимать одно чувство за искреннее, а другое нет, как не считаем мы этого в отношении писем, которые пишем сами. Тот факт, что противоположные эмоции сосуществовали на одной и той же странице, не является, на мой взгляд, проблематичным и гораздо менее важен для интерпретации, чем само по себе проявление эмоций.
В большей части переписки Прокопович избегал подобной прямолинейности, но Маркович не был и единственным свидетелем его взрывов чувств. Например, в 1728 году, через десять лет после своих восторгов по поводу отношений с Александром Даниловичем (о котором он сочинил в 1709 году полное лести «Похвальное слово»), Прокопович написал злорадное письмо анонимному духовному лицу об опале «с радостным известием о падении Меньшикова»[236]236
Терновский 1865, 599–600.
[Закрыть]. Он благодарил в нем Бога за исход: «От тирании, которая благодарю Бога уже разрешилась в дым». Письмо заканчивалось стандартным дружеским и братским приветом к духовным лицам (по крайней мере, тем из них, с которыми он был на короткой ноге): «Твой искреннейший друг, брат и сослужитель».
Такого рода чувства присутствовали чаще в письмах к духовным лицам украинского происхождения. И обычно на латыни, языке, доступном тогда в России лишь горстке людей. Даже будучи перформансом, выражение и смена эмоций отражали пристрастия. В большинстве случаев Прокопович привязывал их эксплицитно к христианской проблематике греха, воздаяния и искупления. Пока мы видели у Прокоповича в основном его фирменную браваду и едкий язык, не свидетельствующий об интроспекции или ретроспективной рефлексии. Однако и эти последние в его переписке пусть нечасто, но встречались.
В длинном письме середины 1730‐х[237]237
Датировка в разных источниках разнится – 1734 или 1736 год.
[Закрыть] митрополиту Киевскому Рафаилу Заборовскому встречается теплое воспоминание о прошлых временах в Киевской академии и в Гетманщине в общем: «Во время младых лет моих, при Головчине и Гуревиче и других ректорах все маетности братские были во владении, которые после новым рубежем польским (то eсть после 1686 года. – Г. М.) стали отобраны. Были же времена весьма приятныя: не было войны, не было никаких армейских походов, не слыхали мы тогда…»[238]238
Письмо Архиепископа Новгородского Феофана Прокоповича к Архиепископу Киевскому Рафаилу Заборовскому, 8 марта 1734 г. // КС. 1865. С. 465–470; письмо также опубликовано в РА. 1865. С. 439–444.
[Закрыть] Далее Прокопович критикует упадок дисциплины в Академии, но что бросается в глаза (или бросается в глаза мне) – это ностальгия по более счастливым временам в Киеве. Встречаются и другие подобные пассажи, и не только в письмах, где Прокопович с теплотой и ностальгией вспоминает о Киеве. Аллегорическая драма 1728 года, обычно – хотя и не единодушно – приписываемая Прокоповичу «Милость Божия Украину ‹…› возвеличившая» была написана в честь визита гетмана Апостола в Москву. И в языковых формах, и по содержанию в первых четырех актах воспевались священный Киев, Хмельницкий («второй Моисей»), Малороссия, Запорожье и казачество как самостоятельные исторические действующие лица, а не как агенты Москвы – в их совместной службе православию[239]239
«Mилость Божия Украину от неудобносимых обид лядских чрез Богдана Зиновия Хмельницкого, преславного воиск запорижских гетмана, свободившая и дарованными ему над ляхами победами возвеличившая, на незабвенную толиких его щедрот память репрезентованная в школах 1728 года».
[Закрыть]. Поставленная в качестве школьной драмы в Киевской академии, эта пьеса в первых четырех актах представляла собой настоящий гимн непреходящей важности и священному статусу места, близко напоминая пассажи Кроковского или, в данном контексте, часто встречавшуюся у Стефана Яворского тоску по Украине. И лишь в последнем пятом акте центр повествования смещался в сторону России, Петра и объединения.
Если принять, что Прокопович на самом деле является автором «Милости Божией», стоит задаться вопросом, что он этим подразумевал – выразить ностальгию лишь для того, чтобы понравиться аудитории (перформативность) или чтобы открыть нечто о себе самом (перформанс). Полагаю, что здесь есть и то и другое. К этому времени Прокопович представлял собой чрезвычайно экспонированную и противоречивую фигуру, мишень для критики и обличений. Несмотря на его влияние, школьная драма была представлением, которое невозможно было надолго скрыть. Прокопович не был уверен в своих позициях среди все еще остававшихся в Киеве, и его могла привлекать возможность завоевать симпатии этой ограниченной аудитории. Но глаза петербургского двора были вездесущи, а первые четыре акта несли на себе ощутимый отпечаток «киевскости», который звучал как манифест.
Хотя «Милость Божию» представили в Киеве, ее эхо отдавалось в Петербурге. Ее автор понимал, что ему требовалось в обоих местах не дать выйти настроениям из-под своего контроля. Есть и много других обстоятельств – к сожалению, из‐за ограниченного объема статьи их придется опустить, – которые не позволяют объяснить привязанность Прокоповича к Киеву только расчетом. Выраженная здесь личная ностальгия должна была отражать противоречивые чувства. Однако сама манера выражения предполагает стремление передать привязанность к жизни и к месту, которое Прокопович оставил, более сильную, чем это можно было бы себе представить. В конечном итоге кажется, что личность, которая встает за этими текстами, более сомневающаяся, чем это могло казаться. Прокопович, безусловно, представлял собой исключительное, в чем-то уникальное явление: он мастерски владел языком (но не всегда управлял эмоциями), он стремился к стиранию разделений между плотью и духом, верой и земным миром. Он соединял воедино отечество, государство и империю; его натуру отличало сибаритство и нарциссизм, в своем внешнем поведении он был воинствующим фило-протестантом. Все это вместе взятое отличало его от почти всех остальных монашествующих. Но в то же время постоянная связь повседневного опыта с герменевтикой и семантикой веры заставляет заключить, что для Прокоповича, так же как и для других монахов, было существенным различать сакральное и секулярное и видеть суть бытия человека, а значит, и своего собственного, сквозь призму Священного Писания.
Эта статья построена как интерпретационный перечень, обзор жанров, в которых можно найти следы самоописания и самосозидания Я в период, когда православный дискурс перешел от молчания в традиционной духовной традиции к многоголосице конца XVII–XVIII века. В конечном итоге я предположу, что монашествующее духовенство действительно стало обретать голос, и в этом процессе вписывало самоидентификацию в письменные тексты. Эти личные модели, как мы видели, были столь же различными, как воззрения и личности самих монахов – авторов текстов, и говорить об архетипах среди монашествующих было бы по меньшей мере преждевременно. И тем не менее среди этой пестроты различимы несколько убедительных общих черт. Наиболее очевидным является постоянство, а иногда настойчивость, с которой они включали свои размышления в космологию примата веры, а также (за частичным исключением Прокоповича) характеризовали секулярный мир как вторичный или эфемерный. Разумеется, светским авторам дневников и писем также была близка религия. Они также, как правило, привязывали время к христианским праздникам, описывали церкви и писали о церковных службах. Но они гораздо реже, чем монашествующие, связывали свое Я целиком с Библией и историей христианства.
Случайно или нет, но многое из этого оказывается не так далеко отстоящим от «клерикального индивидуализма» Ренессанса. С поверхностной точки зрения это неудивительно. Ведь речь о духовенстве, призвание которого определяли борьба с грехом и работа во спасение паствы. Но мы имеем дело с петровской Россией, в которой секулярность и потребности государства оказывали все возрастающее разрушительное влияние на образ жизни и на деятельность духовенства. С этой точки зрения прослеживающееся из одного текста в другой и от одного монашествующего к другому стремление разграничить секулярную и пастырскую сферы заставляет предположить, что именно эти монахи ощущали сознательную потребность, а может быть даже тревожную необходимость, в том, чтобы подчеркнуть заново с особым нажимом и категоричностью превосходство сакрального, прочно вписав себя в него.
Кроме того, стоит упомянуть еще о двух ясно вырисовывающихся особенностях: авторитетный голос и экспрессивная эмоция. Буквально каждая страница исследованных здесь сочинений служила для монашествующих, не важно, смиренных или нет, основанием для того, чтобы представить себя источником истинного знания. У них в гораздо большей степени, чем у светских авторов дневников и писем в эту эпоху, описание незаметно перетекало в интерпретацию. Первостепенное значение и для автора, и для читательской аудитории имело правильное понимание, и все монашествующие, о которых тут шла речь, тянули это одеяло компетенций на себя. Лишь в частной переписке с доверенными лицами они могли рискнуть высказать неуверенность.
Наконец, вопрос об эмоциях в тексте. Тут я сказал бы просто, что авторы из монашествующих в эту эпоху демонстрируют гораздо лучшее владение и большую широту языка эмоций, чем авторы светские. У светских литераторов «дружба», «любовь», «страсть» становятся общераспространенными только при Екатерине II, тогда как монахи петровской эпохи часто применяли эти термины, расширяя старый лексикон братства («брат» был общераспространенным наряду с такими приветствиями, как «грешник»). О чем это умение свидетельствовало – об открытости духовенства или о принципиальной разнице в самовыражении между светскими и церковными элитами, – еще предстоит выяснить. Чтобы не допускать ложных толкований, нам также всегда следует помнить о контексте и специфике смыслов. Некоторые из терминов, номинально обозначавших аффекты («страсть», «прелесть» и т. д.), безусловно относились к сфере духовности и веры, а не индивидуальных эмоций и личности. И все же в конечном итоге разумно будет заключить, что эти конкретные монахи видели в текстуальной действительности, соединявшей в себе библейскую и церковную космологию, авторитет клирика, эмоции, имперский порядок и Я от первого лица, симметрию и взаимодополняемость, а не противоречие или несовместимость. Эта аморфная комбинация, как я предполагаю, представляла собой особую характеристику их как группы – но в результате она имела широкий отклик для самосозидания личности в России на протяжении всего периода империи.
Summary
The long Petrine era produced no known autobiographies by Russian Orthodox clergy, and in that sense it reflected the “silences” of old Russian culture that Father George Florovskii expounded upon many decades ago. Nevertheless, clergy from that era, by and clergy monastics, did produce a rather wide spectrum of texts in which they saw fit to insert themselves directly into the text. This article provides an overview of these texts, organized into the relevant genres of composition: personal diaries, inscriptions, prefaces, visual imagery, miracle tales, travel and pilgrimage accounts, and personal letters. Taken in toto they provide a rather rich body of material for discussion.
Methodologically, the essay falls comfortably into the familiar “explication du texte” approach, i. e., it relies on close readings of the words, images, tone of the texts themselves. It does employ a few select models from current scholarship on Renaissance and the early modern world in general. These include the ideas of self-fashioning (Stephen Greenblatt), imperial contact zones (Mary Pratt), Renaissance individualism (Carolyn Bynum), and some others. The intent here is to inquire whether these concepts help in interpreting the sources available to us for the East Slavic monastic self.
In the end I do not propose any single, all-encompassing model of monastic self-writing or identity. Rather I endeavor to sketch out a series of possible lines of thinking, vectors of analysis perhaps.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?










![Книга Словарь церковных терминов [с иллюстрациями] автора Дмитрий Покровский](/books_files/covers/thumbs_100/slovar-cerkovnyh-terminov-s-illyustraciyami-28248.jpg)





























