Текст книги "Вера и личность в меняющемся обществе"
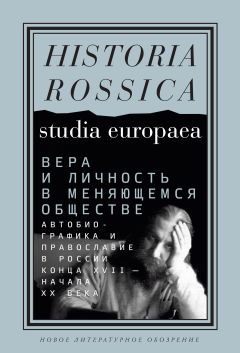
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Подобно св. Димитрию, митр. Платон определяет себя как члена тела церковного и подчеркивает границу с миром секулярным. В своем монашеском звании «он по всему свободен», имея отличные от мирских понятия о просвещении или любочестии. Физическое пространство также носит у Платона отчетливые отсылки к горнему или дольнему миру: город и тем более двор противопоставлен «монастырскому уединению». На склоне лет он создает еще более «покойное» пространство в Вифанской пустыни и поддерживает возрождение Оптиной[117]117
Платон 1887, 19, 30, 83.
[Закрыть]. В то же время мы не найдем у него прямых отсылок к метафизическому миру: ни сонных видений, ни прямых молитвенных обращений, характерных для «Диария» св. Димитрия («Господи, устрой о мне вещь!», «Господи, поспеши!» и т. п.). Чтобы не прослыть «пустосвятом», Платон остерегается записывать сны: только один уже под конец жизни о посещении св. Сергия Радонежского, предсказавшего ему дату смерти – обычный мотив житий. Но и тут «он» осторожно «прилагал, что не надобно на тот сон полагаться»[118]118
Там же, 71.
[Закрыть].
Церковь в сознании митр. Платона существует в гармоническом единстве «просвещенного христианства» с обществом и империей. По аналогии с этой внешней гармонией митр. Платон рисует и свой внутренний мир. Он весьма комплиментарен к себе, выстраивая собственное жизнеописание по канонам «пространного жития» с предзнаменованиями при рождении, благочестивыми родителями, «отлично успешен», «особенно любим», «лукавствовать не знал», провозглашен «апостолом московским» и т. п.
Что касается приходского духовенства, за XVIII век источники скудны; имеющиеся представляют собой в основном поденные записи примечательных происшествий и хозяйственных дел с пропусками «за недосугом и леностию»[119]119
Турчиновский 1885; Семевский 1877.
[Закрыть]. Привычка вести дневные записки вернее всего прививается семинарией и необходимостью составлять отчетные документы по приходу. Реже попадаются «просвещенческие» типы естествоиспытателей вроде дьячка Герасима Скопина из Саратова[120]120
Скопин 1891, см. далее.
[Закрыть] или деда одного из мемуаристов, сельского священника Владимирской губернии. Тот во второй половине XVIII века вел дневники и наблюдения за природой, однако, поскольку его зять в семинарии учиться не стал, то «не слыхавше никогда об науках, изтребил все бумаги»[121]121
Орлов 1832 I, 30–31.
[Закрыть]. Можно только догадываться, сколько таким образом исчезло автобиографических документов[122]122
Еще в середине XIX века сельский священник замечает в дневнике: «смело пишу, что вздумается, в той надежде, что из [тетрадей] некогда будут делаться формы для печения баб на праздник Пасхи» (Струтинский 1880, 42, см. о нем ст. Лукашевич). Добавим постоянные пожары, революцию, сознательное уничтожение духовных эго-документов в советское время – и оценим сохранившийся процент автобиографики рядового священства в однозначных числах.
[Закрыть].
В XVIII веке границы между имманентным и трансцендентным, сакральным и секулярным долгое время остаются неотрефлектированы и прозрачны. Характерный пример 1758 года: офицер, оставшийся после сражения без средств существования, много пишет родственникам о том, что «я вовсе на Бога мою надежду палагаю, он меня не оставит ‹…› когда Бог са мной з голоду не умру». Чтобы тут же через строчку добавить: «Аднако все то харашо, а прашу жену маю панукать аб денгах»[123]123
Кн. П. Щербатов – А. В. Щербатовой, Пиритц 12/23.09.1758 // Сдвижков 2019, 186.
[Закрыть]. Равноправно сосуществуют две реальности, трансцендентное вмешивается и определяет жизненные стратегии наряду с рациональным.
Взросление русского индивида в духовной автобиографике происходит параллельно осознанию этих границ и приоритетов, определению социальных рамок и форм существования того и другого. Он начинает сталкиваться с дилеммой «страны далече» в секулярном государстве: сценарий духовного пути конкурирует со сценарием восхождения по государственной службе, новой «лествицей». Что для одних оказывается классической апостасией и драмой, для других служит примером успешной самореализации.
В качестве примера можно привести автобиографические тексты трех выходцев из духовного состояния – Михаила Аврамова первой половины XVIII века, Гавриила Добрынина второй половины того же века и Александра Орлова начала следующего. Все трое покидают духовное сословие. Аврамов на взлете карьеры осознает свой светский успех как отпадение от веры и выбирает путь страстотерпца. Александр Орлов – бывший владимирский семинарист, самоучкой изучивший французский, мечтавший о дворянской шпаге и литературной карьере, строит свою автобиографию как публичную исповедь. Но, в отличие от Руссо, рисует редкий в автобиографике образчик failed life, антижития: «Будучи сам не очень щастлив, как то видно из истории моей жизни, желаю ‹…› напомнить юношам ‹…› Я представлял себя блудным сыном, удалившимся на страну далече. Я искал существенности в вообразимом; но нашел одну мечту»[124]124
Орлов 1832 I, 13, 110.
[Закрыть]. Тогда как Добрынин являет собой пример «блудного сына», который успешно нашел на «стране далече» ту самую «существенность». Вопросы, которыми он задается, – «Кто я? Где я? Откуда я пришел? и Куда пойду?» – роднят автора, по его словам, со всеми «могущими мыслить». Собственное жизнеописание призвано дать на них ответ, объясняя смысл пути из него самого[125]125
Добрынин 1872, 3.
[Закрыть], а не его цели, и это лучше всего показывает контраст личных свидетельств такого рода с духовной автобиографикой.
Жизнь как книга (imitatio libri)
Подражание (imitatio) как путь «самосозидания» предполагает вопрос о средствах и посредниках: личная встреча, духовное руководство, визуальное воздействие, слушание, текст? Книга с самого начала находится в центре духовной автобиографики. Кульминацией обращения у Блаженного Августина становится услышанный им глас Tolle lege – «Возьми, читай!». Но тот же Августин обосновывает двойственность отношения к «похоти знания» (libido sciendi). Важная черта новой религиозности в России XVIII века в том, что она разделяет оптимизм Просвещения относительно спасительной роли человеческого познания. Такая религиозность, как заявлялось с начала XVIII века, была предметом для обучения и личного усилия[126]126
Лавров 2000, 77.
[Закрыть]. В крайнем выражении этот тип веры характеризовал саму Екатерину II, которая видела идеальных верующих в «людях просвещенных, наставленных в истинах христианской религии». Сама она, спрошенная духовником о вере, отвечала о знании – истин и постановлений соборов[127]127
«Вопрос на исповеди странный, какого (духовник Екатерины, прот. Иоанн Памфилов. – Д. С.) никогда не делал: веруете ли в Бога? Я тотчас сказала tout le symbole ‹…› Я верю всему, на Семи Соборах утвержденному, потому что Св. Отцы тех времен были ближе к апостолам и лучше нас все разобрать могли» (Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины II. М., 1862. С. 217, запись от 2 февраля 1790).
[Закрыть].
В начале русской религиозной автобиографики у Аввакума также стоит обращение к «чтущим и слышащим». В XVIII веке книжность как основа и атрибут знания составляет ключевой элемент, объединяющий новый имперский патриотизм и новую религиозность. Нарративная конструкция своей жизни как книги, а потом как романа хорошо сюда встраивается. Среди книжных образцов не на последнем месте можно предположить Книгу Книг, но с ней не все так просто. Распространенность библейских образов для описания собственной жизни связана с историей чтения Библии в индивидуальном, домашнем обиходе, про которую в России этого периода мало что известно. Косвенно о динамике можно судить по растущему использованию в автобиографических текстах библейской метафорики. Это происходит по мере того, как Библия (и русская, то есть церковно-славянская, и на европейских языках – французском и немецком) становится предметом индивидуального и рефлексивного чтения. При этом ветхозаветная метафорика постепенно отступает на второй план перед новозаветной, связанной с евангельским восприятием Бога как личности.
Так, мотив первородного греха, потерянного рая актуален скорее для первой половины нашего периода, когда события собственной жизни истолковываются напрямую как следствия грехов смертных. Дворянин И. Ф. Лукин, к примеру, возводит свои несчастья по службе к тому, что десятилетия назад соблазнил жену однополчанина: «от корени пагубнаго смертнаго греха блуднаго, в чем я причину моих приключений поставляю». Начавшаяся семилетняя русско-турецкая война 1769–1774 годов, которая против воли прервала эту греховную связь, в историю жизни секунд-майора Лукина встроена не как триумф империи, а как воля Провидения, дабы «разстаться с греховными моими оковами». Другой офицер, инженер Муравьев, кается в своем «падении» в столичном доме терпимости, используя аллюзии и лексику церковной службы «Изгнания Адамова» накануне Великого поста: «Вышли ласкательницы, стали тут же делать кампанию. Я ж, как узнал падение Адамово, бежал оттуда ‹…› плача и рыдая, драл свои волосы, шпагу бил ‹…› Согрешил я тогда и преступил заповеди Божия»[128]128
Лукин 1865, 912; Муравьев 1994, 12.
[Закрыть].
С течением времени такой прямой детерминизм преступления и наказания в религиозной автобиографике отступает на задний план и уходит «в народ», а на смену ей приходит метафорика любви и прощения. В историях об отпадении-обращении фигурирует прежде всего притча о блудном сыне, как у цитированного выше А. Орлова или, например, в автобиографии о. Александра Воскресенского (1778–1825): «Если бы не братья, то пылкие страсти мои и необузданная воля увлекли бы меня, подобно блудному сыну, на страну далече»[129]129
[Воскресенский.] 1894. № 11. С. 372, см. также Орлов 1832 и др. О смене ветхозаветной метафорики новозаветной: Сдвижков, Самодержавие любви; см. также: Baehr 1991.
[Закрыть].
Особенное значение имеют деяния и послания апостольские, которые воспринимаются как первые жития. За чтением апостольских посланий происходит обращение Блаженного Августина; в центре нарратива обращения история отпадения апостола Петра и перемены Савла в Павла[130]130
Платон 1887, 13, 16: «Никто ему столько не нравился, как [апостол Павел]»; [Платона] «провозглашали в своих разговорах апостолом Московским».
[Закрыть]. Референтным остается прежде всего житие своего святого или святых, с которыми авторы ощущают духовную связь: в «Диарии» св. Димитрия Ростовского, например, это св. великомученица Варвара, которая является в сонных бдениях. Изложенное в Четьях-Минеях житие св. Варвары стало, в свою очередь, руководством для жизни бежавшей в монастырь Варвары Соковниной, которая также совершает паломничество в Ростов к мощам св. Димитрия[131]131
Zorin 2016.
[Закрыть]. Сидящий в крепости в ожидании смертной казни и читающий те же Четьи-Минеи А. Н. Радищев просит написать ему икону св. Филарета Милостивого и пишет его житие как иносказание о собственной жизни «детям моим на пользу»[132]132
Кочеткова 1994, 237–242.
[Закрыть]. Тогда как виновница его мучений Екатерина II тоже делает выписки из житий, в том числе св. Сергия Радонежского – но не для личного назидания, а для создания гражданского пантеона[133]133
«Pour mes saints, je les prends dans mon calendrier, et lorsque j’ai besoin d’un, je cherche quelque hommes parmi eux qui aient servi l’état ou le genre humain…» (Что касается моих святых, я беру их в святцах, и, когда мне бывает нужно, я ищу между ними людей, которые служили государству или человеческому роду) Екатерина II – бар. Гримму. СПб., 09.03.1783 // СИРИО. Т. 23. С. 270–271).
[Закрыть].
С течением времени основой для imitatio libri становятся и пришлые образцы. Так, один из бестселлеров XVIII и XIX веков в России, духовная автобиография Робинзона Крузо Дефо (The Life and adventures), дает название автобиографии Андрея Тимофеевича Болотова[134]134
Herzberg J. Autobiographik in «Ost» und «West» // Herzberg, Schmidt. 2007. Р. 59. О популярности «Робинзона Крузо» см.: Манчестер 2015, 198.
[Закрыть].
Главный вектор новой религиозности обращен к «внутреннему человеку». Это понятие восходит к «Павлову учению» и тому же Блаженному Августину. Для «внутреннего просвещения» первоначально не нужно никаких посредников, кроме личной молитвы, которая «ни устен требует, ни книги»[135]135
Св. Димитрий Ростовский. Внутренний человек. Термин «внутреннее просвещение» упоминает Левицкий 1880, 144; во внецерковном контексте эпохи см. Кондаков 2011.
[Закрыть]. К чтению еще подходят с опаской: среди вопросов, которые Павел Васильевич Головин предлагает в качестве каждодневного «вопрошания себя» своим сыновьям, есть «Что чаще всего читал и какой вред сие чтение могло причинить?»[136]136
Правила жизни, писанные собственноручно Павлом Васильевичем Головиным, к оставшимся его детям вместо духовного завещания // Головин 1842, 116–119, здесь 117.
[Закрыть] Характерен так называемый «дневник книголюба» из Екатеринбурга, соборного протоиерея Феодора Карпинского конца XVIII века. Тот читает очень много, в том числе Руссо, Вольтера, Эразма. Но это чтение, не пересекающееся с церковной и религиозной жизнью, а скорее, наоборот, ей мешающее: читает допоздна и с трудом встает на службу, от Colloquia Erasmi «видно надсадил зубы». Или: «Выпили по 3 стакана пуншу. Читал достопамятныя сказания Фридриха втораго ‹…› поутру и днем дома, в вечеру ‹…› был пьян»[137]137
Карпинский 1995.
[Закрыть].
В то же время именно письменный текст и книга становятся в центре «тайного в сердцы с Богом беседования»: «Когда читаючи молишися к Нему, то ты с Ним говоришь. Ах, разглагольствие сладкое! Ах, любезная и всеприятная беседа!»[138]138
Св. Тихон Задонский. Окружное послание к воронежскому духовенству [1765]. https://www.ccel.org/contrib/ru/Tikhon1/Tikh102.html (посл. посещение 21.01.2019).
[Закрыть] Св. Тихон Задонский советует в письме реальному или выдуманному молодому дворянину в Петербург, размышляющему о выборе своего жизненного пути, «преселиться в место уединенное» и «Начать сначала святую Библию читать ‹…› и всегда, поутру и нощию, в ней поучаться, и [Иоганна] Арндта прочитывать, а в прочие книги, как в гости прогуливаться, и острить ум и волю во благое, и ждать звания Божия, куда и когда Бог позовет, и тако будьте покойны»[139]139
Св. Тихон V 1889, 331, см. Чтири книги о истинном христианстве… Иоанна Арндта. Гал[л]е, 1735. Ср. Ivanov 2011, 92 et passim.
[Закрыть].
Чувство покоя, личного душевного равновесия и осознания правильности своего пути признается конечной целью «богомыслия». Первообраз этого состояния можно найти все у того же Блаженного Августина после чтения, перевернувшего его жизнь, «quasi luce securitatis infusa cordi meo»[140]140
«Как будто свет покоя заполнил мое сердце».
[Закрыть]. «Внутренняя» религиозность развивается с распространением практики чтения одиночного и молчаливого, чтения новых книг вместо перечитывания одного и того же[141]141
«Хотя тебе и довольно останется моих книг; однакож еще старайся о собрании полезных, как светских, так и духовных» (Татищев 1773, 13).
[Закрыть]. Книжность становится неотъемлемым атрибутом интимности: «бумага теперь мне верный друг. Буквы – история моего сердца»[142]142
Горский 1885, 7.
[Закрыть]. Само понятие читатель/чтец именно в XVIII веке переходит с церковного служителя на одиночного читателя[143]143
См.: Кондакова Т. И. О наименовании понятия «читатель» в русском литературном языке XVIII века // Федоровские чтения 1976. Читатель и книга. Сб. науч. трудов. М., 1978. С. 109–115. В лексиконе Памвы Берынды 1627 года еще: «Читатель, чтец: зри клирик».
[Закрыть].
Книга становится конфидентом и собеседником Я. В «Диарии» св. Димитрия Ростовского как диалог с иной реальностью представлены только сонные видения, книги лишь упоминаются по названиям. Митр. Платон (Левшин) «с жадностию великою читал» все без разбора, включая Цицерона и Квинта Курция[144]144
Платон 1887, 12–13.
[Закрыть]. Записи же в третьем поколении синодальной архиерейской автобиографики, у св. Филарета (Дроздова), представляют собой помимо «соннобдений» почти исключительно читательский дневник. Именно подобные тетради и альбомы с выписками и молитвами со второй половины XVIII века представляют собой самый распространенный документ благочестия в личных архивах, начиная с императорского двора[145]145
Например, один из многочисленных альбомов с выписками императрицы Александры Федоровны в форме креста (ГАРФ. Ф. 672. Оп. 1. Д. 574).
[Закрыть]. У св. Филарета выписки на русском, французском и латыни перемежаются с собственными размышлениями, связанными по смыслу и стилю с прочитанным[146]146
Св. Филарет. Л. 83–85. «О покое», частично опубликовано: Образ святителя Филарета: знакомое и неизвестное. http://blagoslovenie.su/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=1 (посл. посещение 01.03.2019). Ср. «Читай… и что ни читаешь достойно, вписывай в тетради, чтобы мог при случае людей наставлять» (Св. Тихон Задонский – О. Иоанну Борисовичу, 20.01.1774 // Св. Тихон, V 1889). Об автобиографике митр. Филарета: Хондзинский 2004.
[Закрыть]. Среди авторов с большим отрывом лидирует Фенелон, постоянно упоминаемый в автобиографике у представителей разных сословий и слоев, постоянно переиздаваемый и переписываемый. Представляя апологию «внутренней жизни» (la vie intérieure), Фенелон призывал соединить молитву с lectio divina – «чтением и размышлением»[147]147
«Explication des maximes des saints sur la vie intérieure» (1697). О Фенелоне в России см. о. Хондзинский П. Путь волхвов // Филаретовский альманах. М., 2006. Вып. 2. С. 25–45; Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of the Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton, NJ, 1985. Р. 206. О влиянии Фенелона пишут, например, в своем дневнике Горский 1885, 53 или Серафима 1891, 825–826.
[Закрыть].
Книга и чтение попадают на иконы (того же Димитрия Ростовского) и в жития (св. Серафим Саровский не просто читает, но плачет над книгами). Чтение становится маркером кульминационного момента духовной автобиографии, конверсии или принятия решения об отказе от мира. Как, например, в автобиографии монаха из купеческой семьи в Курской губернии 1830–1840‐х годов:
Однажды [моя сестра] рассказывала мне о геройстве разных героинь, описанных в романах… Я ей сказал: сестра, роман есть миф. Я укажу тебе таковыя события истинные ‹…› Она побежала читать житие (своей святой. – Д. С.), прочитавши ‹…› на романы уже и смотреть не хотела ‹…› Cтала часто ходить в церковь, и скоро Промысел Божий помог ей пойти в монастырь[148]148
Иероним 1895, 348–349.
[Закрыть].
Жития читают как non fiction, реальные жизнеописания в противовес «романам». Картина, следовательно, сложнее, чем превращение жития в «отражение земной жизни», которое исследователи считали «секуляризацией форм самоопределения личности»[149]149
Плюханова 1996, 381.
[Закрыть].
«Книжные конверсии»[150]150
Ср.: Merzhäuser A. Literarische Konversion // Heumann, Mißfelder. Pohlig, 2007. Р. 447–462.
[Закрыть]: в дворянской автобиографике чтение – средство преодоления кризиса веры, «неправильным» чтением вызванного. В «Чистосердечном признании» Д. И. Фонвизина описано такое «упражнение в богомыслии» – когда чтение критики английского богослова Самуэля Кларка помогает развеять чары Гоббса и Спинозы. Полстолетием ранее тот же А. Т. Болотов, начитавшись во время своей службы в Семилетнюю войну в Кенигсберге «вольнодумческих книг» Лейбница и Вольфа, «впал в совершенное сумнительство о законе» и «как горел на огне и пытке». Преодолеть этот кризис также помогло чтение (проповедей богослова и философа Христиана Августа Крузиуса[151]151
Болотов II, 78.
[Закрыть]), после чего «вся волнующаяся во мне кровь пришла ‹…› в наиприятнейшее успокоение и [я] пережил ‹…› множество минут блаженных и столь сладких, о каких множайшая часть людей понятия не имеют».
Отстранение от «масс» в конце цитаты неслучайно. Митр. Платон пишет о себе: «приметно было, что сфера его понятия была выше других»[152]152
Платон 1887, 86.
[Закрыть]. Но и его противник священник Петр Алексеев определяет себя как «ученого пресвитера» в пику «неученым игуменам»[153]153
Памфилов 1871, 29. См. ст. Ольги Цапиной в наст. сб.
[Закрыть]. Тексты духовной автобиографики обращались к кругу «fine souls, who refused to accept superficial security»[154]154
Brown 1975, 159.
[Закрыть] и сами такой круг формировали. Светская книжность, интеллектуальная элитарность смыкались с традиционным христианским пафосом «малого стада», для (само)обозначения которого использовался столь же традиционный термин боголюбцы[155]155
Ср., например, владельческую запись в рукописи об обретении мощей Димитрия Ростовского «Сия тетрадь писана в Москве 1756 году июня 12 дня, писал прапорщик Евграф Никитин сын карцав своею рукою. А писал для себя и боголюбцам на ползу» (Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968. С. 45 (№ 94). Термин дожил вплоть до конца империи: «шло духовенство и толпы боголюбцев» (Прот. А. Попов. Воспоминания причетнического сына. Вологда, 1913).
[Закрыть].
Жизнь как путь
Наряду с imitatio personae и imitatio libri, назиданием и подражанием, нарративы духовной автобиографики создавались через переживание внешнего мира, осмысленного как творение Бога – прежде всего пространства и времени.
Со второй половины XVIII века и особенно после наполеоновских войн стержень для светской автобиографики составляет историзм; личная жизнь получает смысл, а автобиографика шанс на публикацию по мере своей приобщенности к истории[156]156
См. Тартаковский 1991, 1997.
[Закрыть]. Тогда как в духовной автобиографике высказывание о себе иллюстрирует вневременную, нелинейную историю Провидения. «Собственная история» служит проекцией действия Промысла, как у Тимофея Верховского: «Чем больше я стал сознавать себя и вникать в жизнь мою ‹…› тем сильнее расло (так! – Д. С.) во мне чувство благоговения»[157]157
Верховский 1877, V. Ср.: «Всякий раз, когда размышляю я о течении моей жизни и о всех, бывших со мною происшествиях, примечаю я в оной многие следы особливого божеского обо мне Промысла…» (Болотов I, 672).
[Закрыть]. И тут как раз оказывается важен дневник:
Напала на меня какая-то скука ‹…› В это время совесть моя сказала мне: Ты имеешь дневники, писанные тобою ‹…› Прочитавши несколько дневников, пришел от того во внимание к Промыслу Божию, забытому мною, но который тайно и явно помогал мне в жизни моей ‹…› расчувствовался и расположился к умилению ‹…› начал хныкать, а потом плакать, а затем рыдать[158]158
Рассказ о русском помещике Г. И. Б., прибывшем на Афон из Германии в 1860 году, о. Иеронима (Соломенцова), опубликован в: «Из келейных записок русского афонского старца». М., 1882. См. Иероним 1895.
[Закрыть].
Отметим попутно: «слезный дар» в духовной жизни, который мы встретим и в других цитатах статьи, опять-таки не изобретение Нового времени. Но теперь это свидетельство эмоций – эмоций личных – актуализируется в качестве критерия истинного религиозного чувства, соотносясь с сентиментализмом в светском обиходе.
Что касается пространства, то и здесь актуализируется столь же универсальная и традиционная метафора жизни как пути и старый автобиографический жанр хождений[159]159
Например, Иоасаф 1907 («Путешествие в свете сем грешника Иоасафа»). Из заимствованных образцов – много раз издававшееся с 1782 года в России «Путешествие пилигрима» (The Pilgrim’s Progress) Дж. Беньяна. Известно, что Беньян стал одним из источников анонимных «Откровенных рассказов странника духовному своему отцу». В свою очередь, «Рассказы» в следующем веке получили в переводах широкую известность на Западе – классический пример взаимовлияния. О «хождениях» cм. Маркер в наст. сб.
[Закрыть]. Если в англо-саксонском мире реальная мобильность влияла на spiritual autobiographies[160]160
Lynch 2012, 2–3.
[Закрыть], то и XVIII век России с его колоссальной динамикой, разрывом с традициями и насиженными местами резко меняет координаты и формы переживания. Новые права получает vita activa, стоявшая в традиционном православном понимании в качестве ступени к спасению ниже vita contemplativa (жизни созерцательной).
Современные эпохе образчики автобиографики «пешеходцев» необычайно популярны, распространяясь в многочисленных изданиях, как «Путешествие» («Путник») «московита, гражданина Киева» В. Г. Григоровича-Барского[161]161
Григорович-Барский 1778. С 1778 по 1819 год вышло семь изданий, не считая отрывков, печатавшихся с 1770 года.
[Закрыть], и в списках. И здесь также хорошо видно, как в становлении автобиографии переплетены имперское государственное сознание и религиозность. Фиксация личной жизни становится продолжением или дополнением жизни служебной. Если у священников летописи и дневники вырастают из необходимости вести статистику для государства, то, например, у офицера Якова Мордвинова форма стандартных военных «журналов» с точными данными во времени и пространстве перенесена на паломнические путешествия[162]162
Мордвинов 1888, ср. подробнее: Сдвижков 2019, 40–41, 128–129. О фиксации времени на службе: Zitser, Collis 2015, 1628 и 1631, сн. 46.
[Закрыть].
Паломничество становится общим местом в автобиографиях как доступный равно для простой и для образованной публики «подвиг». Наряду с традиционными региональными центрами паломничеств и Троице-Сергиевым монастырем (с 1742 года – лаврой) в XVIII веке на первый план выходят два места, которых не было ранее, – в Ростов к Димитрию Ростовскому и в недавно еще малодоступный Киев, превращающийся в XVIII веке в «Иерусалим российский»[163]163
Worobec 2012/13.
[Закрыть]. В качестве любопытного свидетельства имеется дневник дьячка Герасима Скопина, 21 года, путешествующего пешком в Киев из Саратова (май – август 1787)[164]164
Скопин 1891.
[Закрыть]. Герасим не учился в семинарии, и тем более ценно наблюдать это пробуждение самосознания без всякого видимого внешнего импульса. Характерно и то, что Я впервые появляется в личных свидетельствах Герасима именно в паломнических записках в отличие предыдущих погодовых записей, где фиксируются только внешние события.
Разная фиксация времени отмечает его многослойность. Время ощущается по-разному в сфере духовной с его богослужебным годовым и суточным кругом, и в гражданской, как и в разных социальных мирах, городском и деревенском пространстве. Ценность времени в пути отличается от повседневного, где она фиксируется по месяцам и годам. Герасим постоянно справляется о точном времени с помощью самодельных солнечных часов и удручен, если это не удается. Однако, как мы видим в другом дневнике, с прибытием на место паломничества происходит обращение к spiritual time: вместо точного времени фиксируется посещение служб[165]165
Ransel 2009, 233 о дневнике купца И. И. Толчёнова (для 1807). Издатель дневника Скопина, к сожалению, опускает его пребывание в Киеве. О времени в автобиографике см. Lovell 2004, 266; Marker 2010, 137 et passim; в общем – Живов 2009.
[Закрыть].
Тетрадь в осьмушку, где паломник записывает свои впечатления, вроде бы свидетельствует исключительно о любопытстве и жажде познания мира. Помимо «примечательного» из обычаев, нарядов, надписей, Герасима радует прежде всего преображение страны: особое внимание он обращает на регулярство и регламентацию – перестройку городов «по форме», пение «по ноте». Но не будем торопиться. Герасим уже один раз ходил в Киев в 1771 году. О причинах своего повторного паломничества он не упоминает, но они должны быть весомы – по обету, помолиться за ближних[166]166
Скопин 1891, 7.
[Закрыть]. Это как-никак трехмесячный путь пешком за 1200 км туда и обратно, каждый день часов по двенадцать – четырнадцать с четырех утра и до вечера.
То и дело мы читаем, как Герасим «в кусточках лапти новые обул». Но и в тяжелой дороге «меня веселили жаворонки пением, а сурки – свистанием своим»[167]167
Там же, 41–42, 55.
[Закрыть]. Заботам телесным отведено свое место («вставши, напились чаю и по рюмке водки»), но и «дожидаясь бани», Герасим читает «Смерть Иисуса Христа»[168]168
Вероятно: Смерть и страдания господа нашего Иисуса Христа, истинно и обстоятельно изображенныя ‹…›. М., 1784, либо какая-то из рукописных компиляций Фомы Кемпийского под тем же названием (см. например: ОР РГБ. Ф. 304.II. № 48–49).
[Закрыть] или Четьи Минеи, попадающиеся ему в местах ночлега. Он «полагается на власть Создателя» вполне на практике, идя в одиночку через глухие разбойничьи места[169]169
Скопин 1891, 50, 52.
[Закрыть]. После дневного пути выстаивает вечерню (в Ельце) дважды, только потому, что есть возможность посетить ее в разное время, и т. п. – в общем, перед нами не просто турист.
Ибо в самосознании людей эпохи, как у разделенных в остальном социальной пропастью митрополита Московского Платона (Левшина) и саратовского дьячка Герасима Скопина, рыкающий лев просвещенного познания возлежит рядом с трепетной ланью веры. Причем парадоксы тут ничего не объяснят: любовь к знаниям и переменам не просто сосуществовала с верой, одно участвовало в формировании и развитии другого. И жизнь обещала, как чеховскому студенту, сыну дьячка, счастье и «казалась восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». Пока век просвещения не кончился «в крови и пламени».
Жизнь как исповедь
Уже ожидаемо мы встречаемся с тем, что в развитии религиозного субъекта в XVIII веке важно не возникновение нового – основной признак прогресса Нового времени, – а актуализация или реализация имеющегося. Подобно использованию нарративов житий или переосмыслению «просвещения», это относится и к исповеди. Как показывает Надежда Киценко в настоящем сборнике, исповедь играла роль для формирования личного самосознания не только как внешний инструмент «дисциплинаризации» в духе Мишеля Фуко, но как религиозное событие, в котором таинство не убито, но переосмыслено. Даже в таких дневниках, которые сложно отнести к «духовной автобиографике», в записях вокруг великопостного периода и говения степень саморефлексии, как правило, выше остальных:
В продолжение года насмотришься, наслушаешься и наберешься невольно такой дряни, что чувствуешь себя гораздо легче, когда смоешь ее с себя банею покаяния. Теперь только я начинаю понимать, как полезно было для меня это русское деревенское воспитание, над которым так издевались соседи, – эти ежедневные утрени, молебны и всенощные, в которых я исправлял должность дьячка: читал славословие, кафизмы, паремии, пел ирмосы, кондаки, антифоны и проч.: все это пригодилось мне не только в нравственном, но и в общественном отношении[170]170
Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1934. С. 66 [запись от 26.02.1805].
[Закрыть].
Если основой для нарратива служат наблюдения и размышления, то ключевой элемент драматизации духовной автобиографики и на Западе, и на Востоке Европы связан именно с тем, что она приобретает форму исповеди. Исповедальность требует субъектности, обращения от первого лица. В отличие, скажем, от отстраненного «он» у довольного собой и миром митр. Платона. Там, где автор пишет о себе, что он «был от младенчества расположен к благочестию и набожности», а «сфера его понятия была выше других» (проще говоря, умнее)[171]171
Платон 1887, 85–86.
[Закрыть], нет места аввакумовскому «аз окаянный» или хотя бы «аз грешный» св. Димитрия Ростовского.
Очевидно влияние на русскую автобиографику как практики examen conscientiae (испытания себя) с составлением покаянных дневников католического (контрреформаторского) толка, так и неформального «почти клинического самоанализа» в протестантизме[172]172
«Self-searching is an heart-anathomy… A Christian anatomizeth himself» (Starr 1971, 6), цитата из «Христианского воина» пуританина Томаса Уотсона (1620–1686).
[Закрыть]. В XVIII веке ведение дневников в качестве морального упражнения и средства воспитания в семьях и образовательных учреждениях становится повсеместным, выходя за пределы церковного и вообще религиозного обихода. К концу XVIII века распространение таких journaux intimes достигает России, типичное прежде всего для круга русских мистиков и моралистов. Представители поколения отцов, как Иван Петрович Тургенев, ведут исповедальный дневник, предназначенный в том числе для публичного покаяния перед «братьями» по масонской ложе. Они прививают эту практику своим детям и женам, которые вначале исповедуются в своем дневнике перед отцом семейства, а потом перед собой[173]173
Зорин 2016, 214 et passim. Другие примеры: Лямина, Самовер 1999; Костин 2011.
[Закрыть].
Дневники такого рода предполагают «наблюдение за собою» и внутренний диалог «с моим Богом». Такой ведет, к примеру, с 1830 года учащийся Московской духовной академии, сын протоиерея из Костромы Александр Васильевич Горский. Начиная дневник с традиционного «Что такое я?», он формулирует свою цель как «углубление внимания к самому себе», имеющему ach, zwei Seelen: приобретенное «я всеугодливое, подчиняющееся всякому обстоятельству» и врожденное «я самостоятельное, от которого каждый раз я получаю строгие выговоры»[174]174
Горский 1885, 1.
[Закрыть].
В духовной практике Н. В. Гоголя также предполагается обязательное использование и дневника читательского с выписками, и личного «журнала» как средства против «величайшего из грехов», каковым для него является уныние, чтобы достичь покоя:
Хорошо бы ‹…› вести журнал ‹…› и потом почаще его перечитывать ‹…› Не следует отчаиваться, но молиться крепче и крепче до тех пор, пока не умягчится душа и не разрешится слезами. Немедленно после молитвы, когда воздвигнется хотя на время дух, перечитать все правила и наставления в жизни, какие есть у нас выписаны и какие должны быть у всякого, перечитать журнал свой, все записанные там грустные и тяжелые минуты[175]175
«О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии» [1843/44].
[Закрыть].
Очевидно, что чтение и ведение дневника играют в этом случае самостоятельную роль, а не являются посредниками в общении с духовным отцом или с публикой. Вырастающая здесь проблема степени и смысла автономности религиозного Я, форм реализации свободы личности стала одной из основных с конца разбираемого здесь периода. С ней связано развитие практик духовного руководства (старчества), к которому, как известно, обратился вскоре и сам Гоголь. Развитие старчества в синодальный период, которое я оставляю за рамками этой статьи, безусловно представляет собой новую главу и для истории личности в России как «a personal guide to the inner self»[176]176
См. Paert 2010; цитата Engelstein 2004, 87, об отношении И. В. Киреевского к старцу Макарию Оптинскому. См. автобиографические материалы о духовнике Гоголя о. Матфее: Константиновский 1909.
[Закрыть]. В то же время случившаяся при этом драма Гоголя была запрограммирована тем, что все в большей степени роль духовного учительства делегируется литературе.
Автобиографические тексты гуру Просвещения – «Секретный дневник наблюдателя за самим собой» Лафатера (1771, 1773), «Автобиография» Франклина (1791) и прежде всего, конечно, «Исповедь» Руссо (1782, 1789) – в возникающем пространстве литературы и публики дают толчок жанру публичного исповедального текста. Этот жанр гораздо шире собственно покаянных дневников и письменных исповедей; в данном случае «исповедь» предполагает не покаяние, а самоутверждение. Лавинообразный рост автобиографической литературы в XIX веке воспринимается в этом смысле как потребность высказаться («Наш век есть, между прочим, век записок, воспоминаний, биографий и исповедей вольных и невольных») и следствие желания rester sur cette terre (остаться на этой земле)[177]177
Вяземский П. А. Записки графини Жанлис (1825) // Idem. Литературные критические и биографические очерки. Т. I. СПб., 1878. С. 206; Дневник Марии Башкирцевой (Journal de Marie Bashkirtseff. Ed. par André Theuriet. Vol. 1. P., 1890. Р. 5).
[Закрыть].
Жанр публичной исповеди в русской литературе толкуется преимущественно под знаком влияния секулярного Просвещения, хотя давно очевидно, что к Руссо русские авторы часто относились критически. «Сколько выходит книг под титулом: „Мои опыты“, „Тайный журнал моего сердца“! Что за перо, то и за искреннее признание. Как скоро нет в человеке старомодного варварского стыда, то всего легче быть автором исповеди». Начиная с Фонвизина и автора приведенной цитаты, Карамзина, и заканчивая Толстым, в этом жанре в России характерна скорее полемика с Руссо и противопоставление его западной же традиции Августина[178]178
Карамзин Н. М. Моя исповедь [1802] // Он же. Избр. соч. в 2 т. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 729. См.: Кочеткова 1984 и 1994; Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова. СПб., 1997; Златопольская А. А. «Intus et in cute». Восприятие образа и автобиографии Жан-Жака Руссо в русской философско-антропологической мысли XVIII–XIX вв. // Философский век. Альманах, 22. Ч. 2. СПб., 2002. С. 20–32; Растягаев А. Исповедальная и агиографическая топика заголовочного комплекса «Чистосердечного признания в делах моих и помышлениях» Д. И. Фонвизина // Toronto Slavic Quarterly. 2013. № 45. С. 59–93.
[Закрыть].
Что в итоге? Хотя картина в рамках статьи сумбурна и отрывочна, сложно не увидеть, что рефлексия и самоопределение в религиозной жизни составляют не только часть становления личности Нового времени Европы в целом, но и нового человека в послепетровской России в частности. Линейный подход от несамостоятельного религиозного домодерного к автономному нерелигиозному модерному – «настоящему» – Я предполагает смену и вытеснение. Между тем процессы осознания уникальности своего Я и «включения» разума и чувств прослеживаются в религиозной рефлексии параллельно светской. Они не просто пересекаются, а взаимно обуславливают друг друга. «Индивидуализация» в религиозной культуре нашего периода касается и содержания (актуализация новозаветной и архаизация ветхозаветной семантики с переменой акцентов от «страха» и «закона» к «любви» и внутреннему побуждению, «внутреннему деланию», эмоционализация религиозной жизни), и практик (техники назидания, индивидуальное чтение, «умная молитва» (oratio mentalis) как диалог вместо ритуала). Все это, заметим, процессы общие для христианской Европы раннего Нового времени, пусть и с православной и российской спецификой[179]179
Об индивидуализации, интериоризации и эмоционализации религии / благочестия как общей черте Европы раннего Нового времени: «Frömmigkeit» и «Gebet» // EdN. Bd. 4. Р. 57–58, 209–210; «Religionen» // EdN. Bd. 10. Р. 1057–1060, и в целом: «Kirchen und religiöse Kultur» // EdN. Bd. 15. Р. 1027–1028, с отсылками к другим леммам этой энциклопедии.
[Закрыть].
Это означает, что в религиозной культуре субъект только теперь в полной мере осознает себя таковым. То, что перед Богом как личностью предстоит именно он сам, а не молящиеся за него «богомольцы» из духовенства, крестных или родных; и что это его предстояние подразумевает личное духовное усилие, а не пассивное «вручение себя» Высшей воле[180]180
См. на материале офицерской автобиографики середины XVIII века: Сдвижков 2019, 182–185; Лотман 1993.
[Закрыть]. Потенциал личностного начала в христианстве у рядового верующего начинает реализовываться только теперь.
Впрочем, как сказать «рядового»… Опосредованно, через доступные жития, проповеди, поучения, новую иконографию, архитектуру, церковную музыку и т. п., безусловно, был охвачен и «церковный народ». Но непростые, не всегда различимые и небыстрые перемены в полной мере затрагивали, конечно, привилегированные образованные слои. Это не было только социальным или культурным, но сущностным моментом. Новая религиозная идентичность в России XVIII века строилась на сложном балансе между по-прежнему действенным сознанием греховности, смирения и христианского «эгалитаризма», с одной стороны, и фактическим утверждением своей исключительности – с другой. Исключительность обосновывалась знанием, которому эпоха приписывала спасительную роль.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?










![Книга Словарь церковных терминов [с иллюстрациями] автора Дмитрий Покровский](/books_files/covers/thumbs_100/slovar-cerkovnyh-terminov-s-illyustraciyami-28248.jpg)





























