Текст книги "Вера и личность в меняющемся обществе"
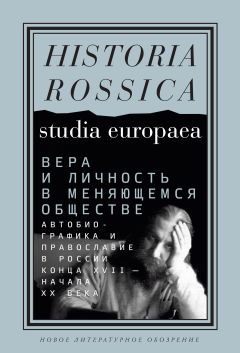
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Яркую черту этого периода составляло и то, что, сохраняя конфессиональную принадлежность, русские «просвещенные христиане» были открыты для восприятия религиозного опыта извне. Отчасти несомненно по эпистемологической наивности, заставлявшей видеть в трактатах какого-нибудь второразрядного европейского проповедника духовное откровение. Отчасти потому, что аргументы этого проповедника не требовали перевода (не буквы, но смысла), и христианский Запад у «европеизирующихся элит» России мог быть причислен к духовной родине. Но и потому, что критерием оценки веры стало личное отношение к ней, «горение», духовное усилие «внутреннего человека». Св. Филарет, прекрасный знаток догматики, высоко ценит усилие и любой поиск истины, даже если речь об оккультных занятиях «магнетизмом»: «Это непрямой путь истины ‹…› пути, на которых, однако, можно встретить доброе. Там дух ищет человека; здесь человек ищет духа»[181]181
Дневник митр. Филарета 1827 – после 1842 [фактически по 1856] (ОР РНБ. Ф. 811. Оп. 1. Д. 4. Л. 92).
[Закрыть].
В то же время «прогресс» веры такого рода и «революции» на этом пути[182]182
Ср. Michelson P. L. Beyond the Monastery Walls: The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought, 1814–1914. Madison, 2017.
[Закрыть] могут быть только в кавычках, поскольку требуют не открытия нового, но актуализации и перестановки акцентов в уже данном.
Остается вопрос, было ли описанное промежуточным этапом и по мере становления современной личности религиозные «костыли» оказались ей не нужны? В исторической перспективе всегда заметнее разрывы. Оптимизм и надежды на новую «симфонию» исчезли со времен Французской революции, а вместе с ним anything goes «просвещенного христианства». Религия стала основой политического консерватизма, реставрации, потеряв горизонт будущего.
Модели христианской личности изменились: «на смену мягко-гуманному Платону [Левшину] пришел суровый Филарет [Дроздов]»[183]183
Виноградов В. П. Платон и Филарет, митрополиты Московские: Сравнительная характеристика их нравственного облика // Богословский Вестник. 1913. 1. № 2. С. 346.
[Закрыть]. Религиозность потеряла связь с элитарностью, став для образованного общества атрибутом «простонародной старины» и специфической культуры российских «левитов» духовенства. «Мы вас не понимаем», мог бы сказать церкви не только обер-прокурор Протасов: принятый язык религиозности перестает восприниматься как свой[184]184
Цитата 1838 года, см.: Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 470.
[Закрыть]. «Просвещение», «дух», «свобода» и другие понятия, ключевые в том числе для самоописания личности, в языке церковном и в общественном расходятся в своих смыслах. Появляется, с другой стороны, религиозность нецерковная и нерелигиозная «духовность» интеллигенции: если в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) у Н. И. Новикова включение духовных авторов в круг литераторов еще разумеется само собой, то впоследствии эти пространства существуют параллельно.
С другой стороны, уходя из образованного общества, духовная автобиографика бурно развивалась в других сферах и предлагала другие модели – у крестьян или в автобиографике духовенства. Образ «пастыря доброго» связан с активизацией жизни в приходах со второй половины XIX века и в общем с идеальной картиной церковного общежития как альтернативы социальным проблемам и дезориентации русского общества после Великих реформ[185]185
О крестьянах Herzberg 2013. О «приходской революции» ср. Фриз; Беглов А. Л. «Община, учреждение, братство…»: Поиск идентичности православного прихода в проектах и дискуссиях конца XIX – начала ХХ в. // Диалог со временем. 2014. № 48. С. 241–264 и др.
[Закрыть]. Автобиографическая традиция, которая делала акцент на персонализации духовного опыта, стала с течением времени, на фоне потрясений XX века, и остается до сих пор востребованной[186]186
Ср. Киценко 2006 об автобиографике св. Иоанна Кронштадтского и др. многочисленные примеры XX века (Александр Ельчанинов, Валентин Свенцицкий, Антоний Сурожский и т. п.).
[Закрыть].
Но даже если считать обратные тенденции «рехристианизации»[187]187
Freeze 1990.
[Закрыть] и «ренессансов» религиозности побочными и временными, а историю религиозности мыслить в рамках схемы Rise and Fall, расцвета и упадка, – даже в этом случае очевидна действенность фактора «конституирующего другого». Как сакральному для самоопределения и развития понадобилось в свое время появление секулярного, так, наоборот, и нерелигиозное в развитии личности Нового времени не просто подразумевает, но требует разного формата сосуществования со своей альтернативой.
Summary
The article argues that the coexistence of the secular and sacral in modern Russia cannot be examined as the opposition between progress and tradition. Because religious culture itself dramatically changed in this period. My goal is to explore the influence of these changes on the development of modern Selfhood in Russia.
The sources I’m using are autobiographical narratives in a broad sense from the eighteenth and first half of the nineteenth centuries, telling the “history of the soul.” The article suggests the genre analogies between these Russian texts and “spiritual autobiographies” of the Christian West.
The key features of self-formation in spiritual autobiographical practices which are examined here include: adherence to hagiographical genre, imitatio personae; the key role of books and reading, imitatio libri; perception of the external world, as shown in the examples from pilgrimage literature; the climax of self-reflection in confessional texts.
In the conclusion I emphasize the necessity of considering when analyzing the history of the Self and self-formation in Russia that the sacred and the secular cannot be studied in isolation from each other.
Из глубины молчания: в поисках контуров монашеского я «долгой» петровской эпохи (1680–1720‐Е)
Гари Маркер
На первый взгляд писать об автобиографиях священнослужителей петровской эпохи кажется задумкой эфемерной, ибо не известно ни одной автобиографии священника Русской православной церкви этого периода. Как заметил Виктор Маркович Живов по сходному поводу, «проблема источников выходит здесь едва ли не на первый план: ‹…› политических дневников не вели»[188]188
Живов В. М. Церковные преобразования в царствование Петра Великого // Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 372–373, см.: Полонский Д. Г. Православное духовенство в переписке с А. Д. Меншиковым: этикет, риторика и прагматика // Меншиковские чтения. 2012. Вып. 3 (10). С. 98.
[Закрыть]. Исключение, «Житие протопопа Аввакума им самим написанное», появилось неcколько раньше. А единственная автобиография петровской эпохи, «Vita del Principe Boris Koribut-Kurakin del familii de polionia et litoania»[189]189
О Куракине: Zitser E. A. The Vita of Prince Boris Ivanovich «Korybut»-Kurakin: Personal Life-Writing and Aristocratic Self-Fashioning at the Court of Peter the Great // JGO. 59. 2011. 2. С. 163–194. Зитцер готовит к изданию аннотированное издание с комментариями параллельно на русском и английском языках. Автобиография, путевые записки и прочие многочисленные тексты в: Арxив Князя Ф. А. Куракина. Т. 1. СПб., 1890. См. также: Collis R. «Stars Rule over People but God Rules over the Stars»: The Astrological World View of Boris Ivanovich Kurakin (1676–1727) // JGO. 59. 2011. 2. С. 195–216.
[Закрыть], вышла из-под пера аристократа. Оба этих текста – выдающиеся свидетельства высокого уровня самосознания, яркими красками рисующие авторское Я. В первом случае это эмоциональный мартиролог, во втором почти ренессансное свидетельство «самосозидания» (self-fashioning)[190]190
Я следую здесь за тезисами Зитцера (см. примеч. 2).
[Закрыть]. Увы, ни тот ни другой текст не вписывается в заданные рамки нашей работы.
Ну что ж, можно было бы заключить далее – нет, так нет. В отсутствие источников нечего и анализировать. Мысль о том, что сравнимые дискуссии о западном христианстве (например, существовал ли в церковной среде в XII или XV веке автобиографический индивидуализм – «самосозидание», как его назвал Стивен Гринблатт) можно с пользой для дела перенести на домодерное русское православие, кажется надуманной и даже абсурдной[191]191
Эта проблематика стала на протяжении тридцати или более лет рассадником разногласий, по большей части, впрочем, сохранявших академический характер, между специалистами по позднему Средневековью и Ренессансу. В ее основании лежала переоценка знаменитого утверждения Якоба Буркхардта о том, что «индивид» вышел из ренессансной, а точнее, итальянской культуры. Вызвавшая большой резонанс книга Стивена Гринблатта «Renaissance Self Fashioning From More to Shakespeare» (1980) подогрела эту дискуссию утверждением о том, что автобиографика Ренессанса носила принципиально репрезентативный, а не интроспективный характер. То есть ее задача заключалась не в выявлении эмоций или внутренней жизни личности, но в кропотливом создании текстуального Я (отсюда термин «самосозидания» (self-fashioning)) для восприятия извне. Всякая связь между этим публичным Я и тем, что мы сегодня подразумеваем под внутренним самосознанием, была случайной. Аргумент Гринблатта вдохновил европейских медиевистов заимствовать концепцию, но поместить ее корни в XII веке. Прежде всего в среде схоластиков – например, в автобиографии Пьера Абеляра. Этот подход ярко выражен в статье Каролин Байнум. См.: Burckhardt J. Die Cultur der Renaissance in Italien: ein Versuch. Basel, 1860; Greenblatt 1980; Bynum C. W. Did the Twelfth Century Discover the Individual // The Journal of Ecclesiastical History. 31. 1980. 1. Р. 1–17; Bagge S. The Autobiography of Abelard and Medieval Individualism // Journal of Medieval History. 19. 1993. 4. Р. 327–350. См. также: Burke P. Representations of the Self from Petrarch to Descartes // Porter R. (ed.) Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present. London; New York, 1997. Р. 17–28. Сомнения во всей этой концепции высказывает: Martin J. J. Myths of Renaissance Individualism. London, 2004, особенно в гл. 7: «Myths of Identity». Р. 123–134.
[Закрыть]. Но, во-первых, автобиографический вакуум как таковой не позволяет сделать заключение об отсутствии среди церковных людей текстов о себе. Кроме того, несмотря на существенную разницу между текстуальными практиками западного христианства и домодерного русского православия, некоторые выводы в недавних исследованиях о западных текстах применимы к восточным, пусть и в виде гипотез.
Однако сначала нам следует предпринять поиски возможных источников. Настоящую статью характеризует именно поиск альтернативных подходов. Не ради того, чтобы открыть «аутентичное» церковное внутреннее самосознание или чтобы предложить определенный прототип церковного «самосозидания» петровской эпохи. Насколько я могу судить, такового не существовало. Нет, наши цели скромны: во-первых, очертить предварительную карту жанров, которые включали выражение своего Я, включая исследовательские работы по ним. Во-вторых, показать, каким образом читать их в качестве эго-текстов (то есть саморепрезентаций, демонстрации эмоций, авторской речи). И наконец, предложить некоторые очевидные общие черты в саморепрезентации, которые заметны при чтении этих разнородных текстов.
Исходя в основном из практических соображений, текст фокусируется на монашеском духовенстве. Полная грамотность (то есть умение и читать, и писать) в эту эпоху среди монахов была гораздо более вероятной, чем среди приходского духовенства. В то время как религиозная культура русского прихода отдавала предпочтение устной традиции, заучиванию, привычности следуемого ритуала, монашеская религиозность наряду со всем этим также включала открытость по отношению к книжности, индивидуальное чтение в покаянных практиках и даже обсуждение. Будь то в монашеской келье или на епархиальном подворье, черное духовенство, как правило, было окружено книгами, выходящими за рамки отдельных Евангелий, Апостола и богослужебной литературы, которые хранились во многих приходских церквях. Приходское духовенство этой эпохи редко собирало личные библиотеки или излагало свои мысли на бумаге, тогда как среди монахов таких книголюбов было немало. Если монашествующие получали правильное образование, будь то в самом монастыре или в семинарии, они соприкасались с риторикой в той или иной форме (в некоторых случаях достаточно плотно), иногда даже были обязаны применять ее на практике как в письменном виде, так и в форме устных диспутов. Соответственно, именно монашество петровской эпохи оставило самый обширный корпус текстов, в которых можно надеяться увидеть саморепрезентацию или рефлексию. Можно ли положительно утверждать о существовании особого типа личного самосознания монахов, отличного от клириков или от общехристианского самосознания, – еще вопрос. Но во всяком случае, с точки зрения источниковедения монашество является самым многообещающим отправным пунктом.
Любое упоминание о дефиците текстов вызывает в памяти тезис Георгия Флоровского об «интеллектуальном молчании Руси». Его общие тезисы о долгосрочных тенденциях развития русского православного богословия выходят далеко за рамки настоящей статьи, но его особый взгляд на то, что не было написано и почему, имеет непосредственное значение для нас, чтобы найти точку опоры. Молчание, подчеркивал Флоровский, не означает абсолютного отказа от размышления. Он видел в нем скорее нежелание православной Руси участвовать в формальной богословской дидактике. Это особое молчание, рожденное довлеющей целостностью святоотеческого учения, заимствованного во всей полноте из Византии[192]192
Флоровский 1983. Иначе говоря, Флоровский утверждал, что появление византийской религиозности на столетия подавило религиозность Руси и таким образом сделало ее «молчаливой» («были приняты достижения Византии, но не ее любовь к знаниям») (Florovsky G. The Problem of Old Russian Culture // Slavic Review. 21. 1962. March. Р. 1, 14).
[Закрыть]. Размышление и экспрессию можно встретить в недидактических сочинениях или в невербальных текстах – таких, как иконография. Любое из них может быть в принципе потенциальным пространством для поисков текстового субъекта Древней Руси.
Такой индуктивный вариант богословия начал исчезать в XVII веке, писал Флоровский. По его мнению, это оказало разрушительное влияние на фундаментальные основы русского благочестия («Противоречия XVII века»). Корни перемен он видел во влиянии Киевской митрополии при Петре Могиле, педагогические реформы которого в 1630–1640‐х годах ввели в Гетманщине иезуитскую модель семинарского образования. Эта педагогика была схоластической и отдавала Фоме Аквинскому предпочтение перед византийскими святыми отцами: формальная логика, дидактическая, тщательно структурированная риторика, демонстративные (то есть доступные чувствам и рассудку) доказательства, диалоги, ученый диспут. И латынь. Во всем этом не было отрицания святых таинств и обрядовой религии, но они теперь делили место с новой эпистемологией и практиками.
Десятки киевских монахов, переехав на север, привезли с собой эту схоластику и со временем – как хорошо известно – стали занимать господствующее положение в центральной и епархиальных администрациях российского православия. Результатом стало то, что церковь была подвержена католическим и протестантским влияниям, которые нарушали святоотеческое учение, став причиной «ненормальной псевдометаморфозы» православного богословия. Флоровский считал это трагедией, апофеозом которой стало правление Петра Великого («и именно с Петра и начинается великий и подлинный русский раскол»[193]193
Флоровский 1983, 82–83.
[Закрыть]), особенно с восхождением «жуткого» Феофана Прокоповича. Флоровский называл его протестантским чужаком в православии, который «не чувствует и не замечает мистической реальности Церкви»[194]194
Там же, 92: «Феофан не то что примыкает, он принадлежит к протестантской схоластике ХVII века. И его сочинения вполне умещаются в истории немецкого реформированного богословия».
[Закрыть].
Смена московского молчания на допетровскую и петровскую экспрессивность, таким образом, обозначает динамический подход к объяснению меняющейся картины религиозных нарративов в России. Независимо от того, разделять или нет мнение Флоровского о предательстве идеалов русского православия, хронология и контекст перемен, которые он описывает, не могут не убеждать[195]195
Библиография по этой теме огромна. Классическим – и все еще наиболее полным – исследованием по истории киевского монашества в Москве остается Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914.
[Закрыть]. Как и признание им культуртрегерской роли украинских монахов. Воздействие иезуитского образования было по-настоящему глубоким даже на тех, кто, как Феофан Прокопович, подпал под влияние воинственного антикатолического пиетизма. Этих людей нередко отличал суровый дидактический настрой. А благодаря их острому перу назвать их молчаливыми было бы наименее подходящей для них характеристикой.
Добавьте к этому наступление на православную традицию в самой Московии со стороны петровского государства (закрытие монастырей, отмена патриаршества, брадобритие, перемена календаря и т. п.). А с другой стороны – влияние критической полемики отцов старообрядчества и других раскольников, которая не могла не вызывать широкого отклика среди белого и черного духовенства. Появилась необходимость формулировать доктрину, объяснять, критиковать и создавать письменные руководства в защиту того, что ранее само собой разумелось или практиковалось. К этой атмосфере были вынуждены приспосабливаться даже московские традиционалисты. Если частным образом они могли признаться в сомнениях и озабоченности, то на публике должны были являть непререкаемый авторитет и уверенность. Все это также совпадало с влиянием на Москву барокко, эпохи поэтической и архитектурной выразительности православия. Исследователи литературы связывают эту эпоху с появлением персонального авторства, некоторые видят здесь первые проявления индивидуализма[196]196
Среди обширной литературы о присутствии автора в русском барокко см. прежде всего работы Лидии Сазоновой. См. также: Робинсон А. Н. Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII века. М., 1989; Демин А. С. Писатель и общество в России XVI–XVII веков. М., 1985; Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // XVIII век. 1974. Т. 9. С. 112–128; Черная Л. А. Авторское самосознание // Русская культура переходного периода от средневековья к новому времени. М., 1999. С. 134–150.
[Закрыть]. Все это создает возможность для выявления разнонаправленных или многозначных нарративов Я в монашестве. Вопрос в том, где они появляются и как конструируются.
Оговоримся, что нарративы Я не были вовсе не известны на Руси. Поденные дневники, к примеру, были распространены среди элит Речи Посполитой, и один из упомянутых киевских пришельцев, Димитрий Ростовский, вел время от времени свой «Диарий». Охватывающий десятилетия по времени, он там и сям выдает эмоции (радости, потери, дружбы), раскрывающие различные чувства автора по отношению к клирикам и мирянам[197]197
Обсуждение эмоциональных элементов в «Диарии» см. в моей статье: Marker 2010.
[Закрыть]. Однако Димитрий был исключением. Для великорусских дневников петровской эпохи типичными были путевые или паломные хождения – жанр, начала которого восходят на Руси к XII веку[198]198
Путешествие игумена Даниила по Святой Земле ХII в. (1113–1115 гг.). Издание Археографической Комиссии под ред. А Норова. СПб., 1864.
[Закрыть]. Такие повествования были по существу стандартными для тех из паломников в Святую землю и другие отдаленные места, кто хотел запечатлеть свои путешествия в письменном виде. Хронологию путевого дневника, вызванного к жизни экстраординарными впечатлениями, определяло само путешествие, а не будничная ежедневная жизнь.
Наиболее известно из них, пожалуй, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина – рассказ о путешествии в Персию, Индию и Восточное Средиземноморье. Книга, до сих пор популярная, и к тому же экранизированная, неоднократно переиздавалась и переводилась[199]199
Не считая репринтов, всемирный каталог Worldcat насчитывает 19 изданий с 1950 года.
[Закрыть]. Но Никитин не был одинок[200]200
См., например: Житие и Хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары, 1634–1637 гг. // Православный палестинский сборник. 1891. Т. II. № 3. Недавно студенты ВШЭ составили перечень записок русских путешественников до XIX века, включая их маршрут: Смилянская 2013/14.
[Закрыть]. В конце XVII века сразу несколько православных духовных лиц оставили свои паломнические записки (Макарий, старообрядец Иоанн Лукьянов, Андрей Игнатьев, Варлаам Леницкий и др.)[201]201
Образцы этой литературы включают: Ольшевская Л. А. (ред.). Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова, 1701–1703. М., 2008; Игнатьев А. Путешествие из Константинополя в Иерусалим и Синайскую гору, находившагося при Российском Посланнике, Графе Петре Андреевиче Толстом, священника Андрея Игнатьева и брата его Стефана: Паломники-писатели петровского и послепетровского времени, или путники во святой град Иерусалим // ЧОИДР. 1873. 3. Ч. V. С. 27–54; Вишенский 1914. Последнее научное издание на русском языке: Ольшевская Л. А., Травников С. Н. (ред.) Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699. М., 1992.
[Закрыть]. Путевые заметки о путешествиях в отдаленные страны оставили и некоторые аристократы, дипломаты и придворные (Петр Толстой, Андрей Матвеев, Иван Нарышкин, Куракин), а также по меньшей мере один разночинец, посадский человек Матвей Нечаев, который совершил путешествие в Иерусалим в 1719 году. Киевский шляхтич Яков Маркович, друг и покровитель Феофана Прокоповича (о нем ниже), также эпизодически вел дневник с 1716 года по середину 1720‐х годов[202]202
Маркович А. (ред.) Дневные записки малороссийскаго поскарбия генеральнаго Якова Марковича. М., 1859.
[Закрыть].
Все эти дневники бесценны в качестве источников. Как и известные записки иностранцев в России (Гордон, Бергхольц, Бассевиц (Бассевич) и др.), они насыщены массой деталей. Некоторые, как у Гордона, служат единственным подтверждением важных исторических событий от первого лица и поэтому привлекали внимание исследователей. Писавших же о дальних путешествиях отличает невинный взгляд на мир широко распахнутых глаз, любопытство ко всему увиденному, которым отмечены многие страницы их записей[203]203
Историография обширна, недавние работы: Kirillina S. Discovering the Other: Realia of the Ottoman Empire in the Russian Orthodox Pilgrims’ Accounts (sixteenth-eighteenth centuries) // International Journal of Black Sea Studies. 2007. Vol. 2. № 2. Р. 37–53; Stavrou T. G., Weisensel P. R. Russian Travellers to the Christian East from the Twelfth to the Twentieth Century. Columbus, Ohio, 1986; Травников С. Н., Прокофьев Н. И. Путевые записки петровского времени. Проблемы историзма. М., 1987.
[Закрыть]. Записки монаха Ипполита Вишенского о своей паломнической поездке на протяжении двадцати двух месяцев, включая восемь месяцев, проведенных в Иерусалиме и его округе, представляются в этом отношении особенно показательными[204]204
Название книги отражает церковный статус автора, паломничества и центральное значение времени, проведенного им в Иерусалиме: «Пелгримация, или Путешественник Честнаго Иеромонаха Ипполита Вишенского постриженца святых страстотерпец Бориса и Глеба катедри архиепископии Чернеговской, во святый град Иерусалим» (ЧОИДР. 1876. 4. Ч. V. С. 16–142).
[Закрыть].
Записки Вишенского содержат подробный комментарий и описание посещений святых мест библейской истории – пассажи, которые позволяют одновременно приоткрыть завесу над внутренним миром их автора[205]205
Я сохраняю правописание по изданию 1876 года. Родом из Чернигова, Вишенский вставлял украинские слова и фразы (например: «рок», «он мовил») в более или менее русский вернакулярный язык.
[Закрыть]:
В том домы бывали подложници царя Давида, а по Давиду царя Соломона. Потом увойшли во святый град Иерусалим. Попровадили нас до святейшаго Иерусалимского у монастыръ; там церковъ царя Константина и матере его Елени… (С. 64).
И далее:
От того месця пошедши на низъ по правомъ боку, есть дом, и до днесь стоитъ: богатый Лазаръ жилъ… (С. 75).
Будучи на горе Синай (в главке, обозначенной «Чудо Пресвятой Богородицы и Моисея Боговидца»):
Пошли на верхъ горы мимо камень, что аггелъ завалилъ Илии, и там Мойсей принялъ законъ. На самомъ верху была церковь Преображение Господне, збудовалъ былъ царъ Иустиниян, велми предивная, мармуромъ, и муссиею сажена золотою (С. 52).
Пассажи, подобные этим, появляются в записках постоянно. Modus scribendi автора приглашал читателей – по умолчанию, православных монашествующих – последовать за автором по историческим библейскими и раннехристианским местам[206]206
Вишенский был близок к Иоанну Максимовичу (будущему св. Иоанну Тобольскому), в то время епископу Черниговскому, а до того архимандриту черниговского Елецкого монастыря. Издатель «Путешествия» С. П. Розанов убедительно предполагал, что записки писались с оглядкой на Максимовича (Вишенский 1914, VI).
[Закрыть]. В этом смысле его хождение содержит in sotto voce настоящие автобиографические элементы видения и искания Бога, которые Кэролайн Уолкер Байнум (C. F. Bynum) и другие исследователи считают характерными для автобиографий духовных лиц накануне и во время эпохи Ренессанса[207]207
См. дискуссию в: Caferro W. Contesting the Renaissance. Oxford, 2011. Ch. 2: «Individualism: Who Was the Renaissance Man?» Р. 31–60.
[Закрыть]. Они утверждают, что светские авторы автобиографий также занимались богоискательством, но миряне в большинстве своем сосредотачивались в этих поисках на семье или клане. Для безбрачных эта стратегия не подходила. Согласно Байнум, монахи – авторы автобиографий в поисках социального контекста обращались к братству монастыря, которое воплощало коллективное мнение.
Вишенский свои искания Бога, обращение к социальной общности или институционализированному коллективному мнению никогда не выражал столь же прямо, как, скажем, Абеляр. Тем не менее сходство между ними в подразумеваемых у читателей тождественности веры и знакомстве со Святым Писанием очевидно. Вишенский выступал одновременно в роли и очевидца, и толмача; читатель присутствует вместе с ним, пусть и отставая на шаг. Он напоминал и объяснял отсылки к Писанию, даже предполагая, что читатель их хорошо знал, разделяя близость единой веры и образования. В некоторых местах временнáя дистанция исчезала полностью (Моисей и Богородица оказывались вместе), полностью стирая грани между прошлым и настоящим, небесами и землей, как будто Вишенский в эти моменты отводил себе роль свидетеля, заново переживающего чудесное в Библии и раннем христианстве. Путешествуя на Афон через Яффу и Рамаллу, он задерживался на том, чтобы привлечь наше внимание к древним иконам и связанным с ними чудесам, указать на монастыри и места паломничества, идентифицировать точные места, где происходили события библейской истории.
Тут же Вишенский внезапно возвращался к настоящему, описывая, к примеру, разные конфессии («…Греки, Френки, Урмене, Кофи, Асирияне во всякие празники отмикати церковъ, то всемъ волно ити…»)[208]208
Вишенский 1914, 71.
[Закрыть], которые устраивали богослужения или отвечали за определенное место. Ему импонировала эта картина реального христианского универсализма, или, во всяком случае, он описывал ее без критики. В других пассажах он останавливался на нехристианских народах, которые в его время населяли эти места или управляли ими. Прежде всего, пересекая Оттоманскую империю по пути в (из) Иерусалим, а также на Афон, он различал «мусульман», «турок», «арабов» и «евреев».
Смена описываемых времен и сюжетов, вкупе с переменным фокусом между сакральным и профанным, создавала многосоставную, но последовательную привязку к местности. Взгляд автора отличало как духовное смирение – в поиске им библейских реалий, – так и культурное превосходство, когда он оценивал все прочее. Постоянное присутствие нехристиан воплощало для него наличие чужого, но, как правило, не враждебного или достойного презрения. Вишенского объединяло с неверующими во Христа физическое пространство (но не духовная близость) – факт, о котором он считал нужным постоянно напоминать. Эти места в тексте почти не дают оснований говорить о том, что автор чувствовал оскорбление для своих религиозных чувств или культурную брезгливость. Иногда Вишенский ассоциировал реально живущих евреев, с которыми он встречался, с историей распятия Христа. Но и тогда он не обнаруживал враждебности; он скорее ориентирует читателя в христианском времени, чем желает, чтобы тот засвидетельствовал некий дискомфорт в воспоминании об описываемых событиях. Часто упоминаются турки-османы; и хотя Вишенский редко отзывается о них положительно, но и не клеймит как незаконных захватчиков. Его дневник носит здесь по сути имперский характер – и в имплицитном признании власти османов, и в его характеристике империи как политического организма, отличающегося культурным и конфессиональным разнообразием[209]209
Последние исследования по истории империи подчеркивают центральное значение этнического и конфессионального «различия» как самоочевидности, важной для понимания того, чем были империи и как им удалось просуществовать так долго. См. об Оттоманской империи: Barkey K. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge, 2008.
[Закрыть]. Вишенский без комментариев упоминает о священных праздниках других религий. Но заботит его прежде всего христианская вера, и наиболее критические отзывы о турках появляются тогда, когда он наблюдает вмешательство нехристианских властей, имеющих доступ к богослужениям и святыням. Только в эти моменты в тексте появляются оттенок раздражения и нелестные отзывы. Представляя себя одновременно пастырем и человеком империи, Вишенский выполняет для далекого читателя роль толмача, растолковывая ему Святую Землю и придавая ей духовный смысл.
В исследовании Мэри Пратт об «имперских контактных зонах» такой тип путевых дневников характеризуется как упражнение в транскультурации[210]210
Pratt M. L. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. New York, 1992. Р. 4 ff.
[Закрыть]. Будучи больше чем просто передвижением из одного места в другое, они воспроизводили комплексные культурные и демографические реалии границ и отличий, различая подданных империи от ее властей. Установленные границы были для Вишенского и геополитическими (путешествие по территории под суверенитетом султана), и религиозными (предпочтение христианства – паломничества – всем остальным наблюдаемым реалиям, конфессиональным, политическим или бытовым). Но в этом процессе он многое открывает и о себе самом. Для него, как и для Димитрия Ростовского, характерны доверительность в рамках христианского или библейского габитуса и отстраненность вне его. Время было эластичным и многослойным, одновременно и прошлым, и настоящим, все заключено в Писании[211]211
См. в недавней статье С. Н. Травникова близкое к этому наблюдение о представлении времени у Вишенского: Травников 2016.
[Закрыть]. В отличие от Димитрия, Вишенский почти ничего не говорит о своих чувствах по отношению к отдельным лицам. И тем не менее мы можем видеть в авторе далеко не только паломника.
Другие русские путешественники, как духовные, так и миряне, обычно более сдержанны. Говоря о себе, они, как правило, используют формальные характеристики – путешественник-россиянин, православный паломник, официальный деятель и т. д. – вместо того чтобы описать себя как личность. Петр Толстой, к примеру, приводит длинные описания посещенных им мест, необычных людей и практик, которые он наблюдал, особенно относящихся к другим верованиям. Он писал от первого лица («Я был во дворце императоров», «я послал записки» и т. п.) и в этом смысле был ego, Я. Однако его стиль оставался бесстрастно этнографическим, будь то описания католических церквей, соборов и служб (на нескольких из которых от присутствовал), лишенные комментариев, или еврейских общин и обычаев, с которыми он сталкивался. Мы мало что можем сказать о мыслях этого аристократического Я, тем более о его интересах или чувствах – даже тогда, когда он пересказывает длинные беседы с собеседниками из Габсбургской и Оттоманской империи[212]212
Его дорожная переписка с братом (впервые: РА, 1864) носила более выраженный личный характер. См. в электронном виде: Письма П. А. Толстого из Турции к брату его И. А. Толстому // www.az.lib.ru (посл. посещение 01.03.2019).
[Закрыть]. Так что Вишенский представляется собеседником особенно красноречивым, но в определенном смысле исключением. Если мы хотим расширить нашу архивную основу, необходимо искать дальше.
В процессе работы я натыкался на разные тексты, содержащие то, что я бы назвал микровысказываниями монашеского Я. Иногда они казались мне достаточно интересными, чтобы посвятить им отдельные статьи. Соответственно, далее следует скорее краткое описание четырех подобных жанров: а) предисловия и послесловия; b) вставки в больших текстах; c) визуальные знаки; d) частная корреспонденция. Каждый из них ставит комплексные вопросы об интерпретации намерений автора и предполагаемом читателе. Были ли они предназначены для посторонних глаз? Если да, чьих? Было ли высказывание о себе предназначено для современников или для потомков, как это часто имело место в автобиографиях и мемуарах? Либо, возможно, подразумевалось воздействие здесь и сейчас? Или авторы хотели лишь, чтобы другие знали, что они думали и чувствовали в эти моменты?
а) Предисловия и послесловия. Они появились в московской книжной культуре задолго до Петра и достаточно часто привлекали внимание исследователей, особенно после публикации в 1981 году «Тематики и стилистики предисловий и послесловий», в приложении к которому перечислено более четырехсот заглавий книг с таковыми[213]213
Демин А. С. и др. Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981 (Приложение. С. 277–290).
[Закрыть]. Каждое из них представляет собой попытку автора, издателя или составителя обратиться «к читателю» напрямую, чтобы объяснить, что в книге содержится, кто санкционировал ее издание или – если это был новый или переработанный текст – почему следовало его напечатать и почему читателю нужно его прочесть. Введения к литургическим сочинениям, как правило, не упоминали об их авторах; сама их анонимность указывала на то, что это слова, предписанные самой церковью, а не отдельными людьми. На ранних этапах московского книгопечатания в предисловиях иногда объясняли также, почему печатная версия того, что до сих пор существовало только как рукопись, полностью соответствует догматам веры[214]214
См.: Русские старопечатные послесловия второй половины XVI в. (отражение недоверия читателей к печатной книге) // Там же. С. 45–70.
[Закрыть].
С распространением оригинальных сочинений распространилось и персональное авторство. Переиздание прошлых книг тоже становилось поводом для издательских заметок перед или после текста. Эти высказывания, как правило, были непосредственно адресованы читателю и упоминают, какая читательская аудитория была бы подходящей или желаемой. Они содержали инструкции, как необходимо читать настоящий труд или почему автор/составитель решил создать его. Некоторые носили политический характер: панегирики, идеология, пастырское увещание для власть имущих. В этом смысле они делали автора источником публичного признания (легитимации, морального авторитета). Временами эти советы сопровождались аккуратно сформулированным подтекстом, мягким критицизмом или покровительственным предложением определенного образа действий либо предостережением против других. Примером последнего может служить Иоасаф Кроковский, в то время архимандрит Киево-Печерской лавры, который добавил свое околопоучительное предисловие в издание «Патерика» 1702 года.
Кроковский не был многословен, а его немногочисленные публикации обычно мало что говорят об авторе. Однако это предисловие шло прямо от сердца, оно было непосредственным посланием писателя царю. В тексте, написанном в период затишья между победоносными кампаниями на юге и началом Северной войны, с заметным нажимом подчеркивалось, что мир и любовь – это самые достойные цели для помазанника Божия, в данном случае Петра I. Во-вторых, в нем подчеркивались храбрость и верность запорожских казаков, завуалированно противопоставленных недавним мятежникам из московских стрельцов, о которых Кроковский напрямую не высказывался[215]215
О Кроковском и «Патерике» 1702 года см. мою статью: Marker G. Love One’s Enemies: Ioasaf Krokovs’kyi’s advice to Peter in 1702 // Harvard Ukrainian Studies. 29. 2007. Р. 193–224.
[Закрыть]. Иначе говоря, Кроковский воспользовался своим положением настоятеля священного места христианской Руси, чтобы в тексте, рассказывавшем о ее зарождении и святых отцах-основателях, прибегнуть к смелой попытке прямого обращения к небожителям государственной политики в защиту народа, населявшего колыбель ее крещения. Свое авторское присутствие он связал, таким образом, с личным обращением, а свой пастырский авторитет возвел к долгой традиции христианства Руси. Даже если это проявление Я у Кроковского оставалось изолированным, оно было зато чрезвычайно значимым.
b) Вставные места в тексте. Таковые появлялись нечасто, но если появлялись, то нередко подразумевали самоописание, пусть и понятное лишь для избранной читающей публики. Читатель уже знал автора по титулу книги. Но обычно никто не предупреждал, что внутри нее есть рассказ, задействующий автора. Уже просто найти соответствующее место (места) в тексте требовало времени, терпения и внимательного чтения, особенно если книга была большой по объему. Такая стратегия несколько отличалась от избранной Кроковским. В обеих стратегиях использовались печатные издания (в эпоху, когда большая часть оригинальных сочинений циркулировала в рукописях), и в этом смысле обе они были «публичными». Но если предисловие Кроковского было первым, что читатель видел после фронтисписа, то вставки присутствовали в середине книги. В этом можно видеть не столько непубличность, сколько форму диалога, в котором автор решался обратиться к особым читателям, подобным ему, то есть к ученым клирикам, как бы говоря: в моем повествовании заключены не просто мои слова, а все мое существо.
Один пример середины 1660‐х годов относится к труду Иоанникия (Галятовского) о чудесах Богородицы «Небо новое», созданному, когда он был ректором Киево-Могилянской академии. Выдающийся иерарх и плодовитый писатель, Галятовский был автором многочисленных важных трудов по богословию, схоластике и гомилетике. Горячий поборник православия и защитник православного населения в киевской метрополии, обычно он не высказывался о себе публично. Здесь же, посреди многочисленных чудес, засвидетельствованных, начиная с Античности и до современности, терпеливый читатель вдруг натыкается на рассказ о чудесном видении самого Галятовского! В двух разных местах он рассказывает нам, что Богородица посетила во сне некоего монаха Иоанникия[216]216
Галятовский, Иоанникий. Небо новое, с новыми звездами сотворенное, тоесть Преблагословенная Дева Мария Богородица з чудами своими. Львов, 1665. С. 165–168.
[Закрыть]. Этим Иоанникием, был, конечно, сам Галятовский, и в этой одной истории он воспользовался достаточно распространенным барочным приемом, связывая себя и своих читателей со священными текстами. Это способ придать особое привилегированное значение собственному месту в долгой сакральной традиции христианства. «Обратите внимание, – читается между строк, – Богоматерь посетила меня, и постольку, поскольку это читаете Вы, также и Вас через меня; Вы, я – мы вместе запечатлены в продолжающейся истории чудесного»[217]217
Об употреблении этого типа встраивания в повествования о чуде см.: Kelley M. J. Spinning Virgin Yarns: Narrative, Miracles, and Salvation in Gonzalo de Berceo’s Milagros de Nuestra Senora // Hispania. 74. 1991. 4. Р. 814 ff.
[Закрыть]. Галятовский не просто искал Бога так же, как упоминавшиеся «самосозидатели» Ренессанса, он лично нашел Бога (или наоборот) через Заступницу, Царицу Небесную. Что фиксировало авторитет Галятовского и личный опыт соприкосновения с сакральным, одновременно в качестве объекта, свидетеля и рассказчика о нем. Вряд ли это может удивлять в сборнике рассказов о чудесах, но все же стоит подчеркнуть, что, как и у Вишенского, сфера доверительного у Галятовского очерчена не этничностью, территорией или православием как таковым, а общим пространством универсального христианства (Богородица; чудеса, включающие всю христианскую ойкумену, крещение, спасение)[218]218
«Небо новое» – это комплексный и важный текст, который допускает различное прочтение. О более общем контексте см. мой очерк: Marker G. Narrating Mary’s Miracles and the Politics of Location in Late 17th-Century East Slavic Orthodoxy // Kritika. 15. 2014 (Fall). 4. Р. 695–727. Обсуждение «Неба нового» см. 704–714.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?










![Книга Словарь церковных терминов [с иллюстрациями] автора Дмитрий Покровский](/books_files/covers/thumbs_100/slovar-cerkovnyh-terminov-s-illyustraciyami-28248.jpg)





























