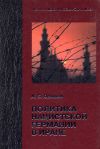Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 5"
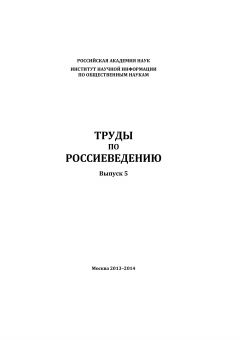
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Политический миф – продукт политической мысли; последняя же ищет опору и истоки в культурной мифологии. «История» культурного мифа становится для мифа политического своего рода идеальным (архетипическим) прообразом; он ее заимствует, чтобы состояться. Политический миф нужен «элитам» для управления обществом; он, повторю, по преимуществу искусствен, инструментален. Культурный миф дает ему силу воздействия на коллективное сознание и бессознательное, обеспечивая за счет этого связь/единство «элит» с массами. Политическая мифология, замешенная на культурной основе, имеет шансы войти в массовую культуру, стать элементом национального самосознания. В этом качестве она может быть как ускорителем, так и тормозом общественного развития – все зависит от того, какую ценностную систему она представляет, куда зовет.
Политический миф, усвоенный массовым сознанием и ставший элементом массовой культуры, есть форма инобытия культурного мифа, способ его вхождения в современное общество, адаптации к нему. Содержа в себе архетипический код, политический миф постоянно достраивается; он изменчив, так как подчиняется меняющимся политическим задачам. Политические мифы могут поэтому «снашиваться», устаревать, теряя свою заражающую силу и растрачивая идентификационный, легитимационный потенциал. Но чем сильнее их связь с культурной традицией, тем больше у них шансов на возрождение. При политической необходимости, в определенных исторических условиях, провоцирующих массовый спрос на самоутверждающую национальную мифологию, «старый» политический миф может быть вновь использован для нужд социального управления. Но в новых условиях он способен повести себя иначе, чем прежде, стать идеологической базой для других политических сил и легитимационных проектов.
О культурных склонностях, социальных потребностях и утешающе-возвышающих мифах
Обеспеченность национальных культур мифами трудно как-то оценивать – это данность. Мифы встроены в механизмы коррекции культурой действительности, указывают на то, какой она (эта действительность) должна быть с точки зрения данной культуры. Историческая мифология, по существу, имеет значение временнóй релаксации, разрядки, подпитывающей социальную энергию образами идеализируемого («правильного») прошлого. В этом смысле она выполняет защитно-компенсаторные функции. Являясь формой выражения национальной (или групповой) культуры и основой самоидентификации ее представителей, мифология активизируется в те моменты, когда ставится под сомнение сложившийся образ «нации» (или группы), что создает угрозу национальной (групповой) сплоченности.
В эпохи политических конфликтов, культурных разломов, социальных потрясений, когда нарушаются налаженные механизмы взаимодействия и преемственности, расшатываются ценностно-нормативные основы, общества становятся особенно восприимчивы к мифологии, попыткам политического манипулирования на этой почве. Мифологические истории, конечно, снимают стресс, снижают уровень социальной тревожности, а потому способствуют социальному умиротворению129129
Известно, что «функции компенсации стрессовых факторов, разрушительных и в плане психологического дискомфорта индивидов, и в плане психологической сплоченности социального коллектива… призваны выполнять многие сопутствующие жизнеобеспечивающей практике человека символические акции… Чем выше уровень тревожности людей в связи с теми или иными угрожающими их жизни и благополучию факторами и чем в меньшей степени или с меньшей надежностью они могли противодействовать этой угрозе, тем большее место в общем поведенческом массиве жизнеобеспечения занимают символические акции, создающие иллюзию такого противодействия» (6, с. 70–71]. К символическому компенсаторному «комплексу», созданному культурой, относятся и мифы.
[Закрыть]. Однако чем более влиятельной становится мифология, чем глубже она проникает в общество, тем больше оно склонно рассматривать и настоящее, и прошлое в мифологической (т.е. в искажающей, неадекватной им) логике и, исходя из нее, принимать решения. Появляется опасность, что миф подчинит себе реальность, превратится из социальной психотерапии в своего рода яд – дополнительный источник деструкции.
Еще опаснее, когда мифологическая истерия возникает в культурах, традиционно склонных к подмене реального «воображаемым» – в том числе мифологическим. Активно выраженное в таких культурах иллюзорно-фантазийное начало есть ответ (защитно-компенсаторная реакция) на сложности существования. Чем агрессивнее «среда обитания» социума, тем выше в нем потребность в символической компенсации стрессогенных природных, социальных, геополитических факторов. Именно такова традиционная русская культура: в ней всегда были чрезвычайно сильны утопическое и мифологическое начала. Более того, они сливались: утопические царства правды/справедливости локализовались в идиллическом прошедшем; по аналогии с ним мыслилось («воображалось») будущее. Поэтому образы будущего связаны у нас традиционными идеалами, а не идеями прогресса.
В рамках такой логики невозможно объяснить зависимость вещей, установить пределы допустимых и опасных социальных действий. Здесь другая цель – «отменить» действительность в воображении (средствами культуры) и тем самым приспособиться («притерпеться») к ней. «Воображаемые миры» русской культуры позволяли снизить до приемлемого уровня катастрофизм действительности, принять ее; компенсируя ощущение внутренней слабости, давали своего рода алиби успешности. Об этом много написано и сказано; здесь я сошлюсь лишь на два суждения.
Первое принадлежит философу и общественному деятелю, одному из авторов «Вех» М.О. Гершензону: «Народ наш – не только ребенок, но и старик, ребенок по знаниям, но старик по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению, что у него есть и, по существу вещей, не может не быть известная совокупность незыблемых идей, верований, симпатий, и это в первой линии – идеи и верования религиозно-метафизические, т.е. те, которые, раз сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека… Народ ищет знания исключительно практического, и именно двух родов: низшего, технического, включая грамоту, и высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить» (3, с. 98–99). Эту мысль по существу продолжает И.А. Бродский: «Основная тенденция русской культуры – это тенденция утешения, тенденция обоснования существующего миропорядка на каком-либо наиболее подходящем трансцендентальном уровне. Это не тенденция отрицания – это тенденция оправдания и утешения. И можно на пальцах пересчитать тех, кто из этой тенденции выпадает» (1, с. 334).
Мифология «оправдания и утешения», конечно, позволяет обществу выживать, приспосабливаясь к действительности, какой бы она ни была, но препятствует накоплению потенциала развития. Там, где защита и безопасность становятся основным (и даже единственным) ориентиром деятельности социальных субъектов и институтов, не остается места и сил для развития (или, выражаясь языком нашего времени, для модернизации). Из потребности в защите и безопасности формируется спрос на оправдывающие и утешающие «символические акции». Нарастание же в культурном поле в ответ на трудности и кризисы иллюзорно-фантазийного начала, увеличение его влияния на социальную практику означают, что реальные проблемы и противоречия не устраняются, а вытесняются, «снимаются» в воображении. При этом у общества создается иллюзия их решения, что не только не способствует безопасности, но еще больше увеличивает социальные риски. Следствием «больших» проблем становятся большие революции. Россия дважды в ХХ в. срывалась в такой сценарий; их опыт, однако, так никого ничему и не научил.
Особый тип «коммуникации» с действительностью, с прошлым и настоящим, характерный для традиционной русской культуры, не был преодолен (или хотя бы подправлен, отчасти рационализирован) в советское время. Традиционные ценности, мировоззрение, «модальные личности» не ушли, уступив место современным, – они были советизированы. Уничтожив социальную основу, связи, практики традиционного (крестьянского) мира, советская власть активно эксплуатировала его мифологические и утопические начала. Поэтому традиционный алгоритм существования – «оптимизировать» действительность в воображении, оставив в жизни все, как есть, – лишь закрепился в советское время.
Средствами советской масскультуры был сформирован определенный тип личности: конформно-инертный, готовый притерпеться ко всему, вечно недовольный, ищущий успокоения и оправдания (жизни и себя) в словах и образах. Личность этого типа приучена жить как бы в двух измерениях – в повседневной обыденности, ставившей перед человеком одну задачу: выжить, и в мире масскультовых грез, где сказка о справедливой, устроенной, сытой и красивой жизни становилась былью. Чем страшнее и «невозможнее» была для советского человека действительность (Гражданская, голод, эпидемии, разруха, коллективизация, террор, Отечественная, послевоенное восстановление – всего этого слишком для любого народа), чем меньше было у него шансов изменить ее в свою пользу, тем больше его снедала тоска по «правильному» миропорядку. Советский масскульт (кино, литература, массистория, идеология и проч.) убеждал людей, что такой порядок возможен. Тем самым давал им веру, вносил смысл в их повседневное существование. Не случайно масскультура была монополией советской власти; она служила столь же эффективным инструментом социального управления, как и насилие130130
Здесь опять требуется методологическое отступление. Индивидуальные опыт и воспоминания могут не соответствовать (и часто не соответствуют) официальной памяти, которая дается «элитами» и становится основой коллективных идентичностей. Чем меньше прав имеют в обществе человек, личная память и памяти «меньшинств», тем больше оно подвержено тирании официальной памяти, нейтрализующей (репрессирующей) все иные воспоминания. В случае установления монополии власти на «управление прошлым» официоз становится единственным источником и смыслом национальной идентичности, по существу, одним из способов социальной эксплуатации. Принося очевидные выгоды/прибыли «верхам», эксплуатирующим массовое воображение и саму историю, этот алгоритм воспоминаний чрезвычайно ограничивает память нации, обедняя ее «культурный запас» и тем самым препятствуя развитию. Но такого рода общества привыкают жить в режиме диктата (а временами и диктатуры) официальной памяти, перестают его ощущать, воспринимают «историю от власти» как свою. При этом теряют интерес и способность к участию в «мемориальной» работе. Историк в этом случае оказывается не свободным профессионалом, общественным деятелем, а «уполномоченным» («слугой») государства/власти, производящим нужные им воспоминания. История СССР – классический пример отстранения общества от «работы памяти», «управления прошлым» исключительно в интересах господствующих групп. Сложившийся в советское время алгоритм воспоминаний, поддерживающий вертикальную социальную интеграцию (когда все – и реальное, и воображаемое – спускается «сверху» и замыкается «наверху»), работает и сейчас. Российское общество безразлично попустительствует «верхам», отказываясь от автономии, самостоятельности, своих прав на воспоминания/историю. Власти же этим пользуются, «присваивая» национальное пространство памяти.
[Закрыть].
По мере того как советское общество становилось более образованным и свободным, осваивало стандарты современного потребления, в нем падал спрос на мифологическое и утопическое. Взамен усилилось стремление рационализовать отношение к действительности, изменить ее – «под» человека, для общего блага. Этим стремлением оказалась захвачена и позднесоветская власть – потому и пошла на перестройку. Но привычка жить, выкручиваясь и приспосабливаясь, по возможности избегая ответственности (не за личное – здесь действовал принцип «помоги себе сам», а за общее), надеждами на мгновенное «превращение» «плохого» в «хорошее» (как в сказке – «по щучьему велению, по моему хотению», т.е. магическим образом), не меняясь по существу (переодевшись, заговорив другими словами), осталась – и у «низов», и у «верхов». Слишком невелик был опыт ее преодоления, сильна инерция существования, «рецепт» которого у нас всем известен: «будь как все», «перетерпим», «не высовывайся», «моя хата с краю», «кто виноват?», «бей врагов» и т.п. Этот «рецепт» – о том, как быть за всё со всеми и со всеми же против всего, но всегда оставаться в одиночестве: за себя – против всех. Это сложный замес первобытного индивидуализма с первобытным же коллективизмом, эффективный там, где есть одна задача: выжить вопреки всему.
Склонность русско-советской культуры к оправдывающей мифологии, разрешению реальных проблем в «воображении» реализовалась во всей полноте в современную кризисную эпоху. Ответом на распад привычных условий и правил социального существования, на кризис «старых» ценностей, катастрофические изменения географии и демографии, утрату позитивного ощущения общности стало (помимо прочего) торжество мифологики. Оправдывающие и утешающие мифы о самих себе, которыми мы, как ватой, обкладываем свою жизнь, – это, по существу, каталог нынешних социальных дефицитов. Так массовый постсоветский человек защищается от действительности, заставляющей его постоянно балансировать между крайностями: «так жить нельзя» и «жить сложно, но можно терпеть».
Чтобы «жить–терпеть», необходима уже не утопия светлого завтра (ее попросту нет – и социализм, и капитализм потерпели на русской почве поражение), но легенда счастливого и героического, трудного и жизнеутверждающего, а потому великого прошлого. И понятно, почему объектом идеализации стала именно советская история: в культурно-ментальном отношении она еще не закончилась (мы во многом остались советскими людьми), но социально и геополитически мгновенно оборвалась, оставив по себе главный вопрос: почему? Здесь большой простор для фантазии – причем по традиционному для нас алгоритму: чем страшнее реальность, тем лучше и возвышеннее воспоминания.
Память об общем советском прошлом снимает стресс одиночества, вызванного атомизацией социальной материи. Чем больше постсоветский человек уходит в частное пространство (мир личной жизни, карьеры, индивидуальных интересов), тем больше он нуждается в идеальных историях о себе как о члене большого, сильного, сплоченного, успешного сообщества. И здесь решение приходит само собой: да здравствует миф! И прочь наука с ее критической – не в смысле «критикуем», а в значении рационализуем, познаем – функцией. Спасительная мифология выше критики, она противится ограничению историей, т.е. знаниям о случившемся (действительно бывшем), его адекватному пониманию, его моральной оценке.
Такая специфическая «работа памяти» приводит к тому, что от нашего общества все больше ускользает реальность – сходит на нет потребность ее осмыслить, понять и перестроить. Мир вокруг не меняется, но превращается в место, где жить нельзя. Недалеко то время, когда неудовлетворенность настоящим не смогут скрасить и «воображаемые миры» постсоветского масскульта. Скорее, станут раздражать разительным несоответствием действительности. Так уже было – совсем недавно, и закончилось крахом.
Об актуальных задачах текущего момента: миф или реальность
Конечно, от мифологии культуры никуда не уйти, да и уходить не надо. Она все равно останется в фундаменте общества. Вопрос в другом. Современный социум не может жить (исключительно или по преимуществу) мифами, не должен управляться, исходя из мифологической логики. Мифология не способна и не должна подменять собою сложность современного мира131131
В. Живов, умерший в 2013 г., писал о роли и месте мифологии: «Мифы – это часть истории. И, если мы не хотим стоять с вывернутой шеей, в историю их и надо интегрировать. Интегрировать миф в историю означает узнать, частью какого дискурса он первоначально был, как сложился этот дискурс и какие социальные или асоциальные нужды он удовлетворял» (4, с. 51]. Следует подчеркнуть: только общество может дать санкцию на «интегрирование мифа в историю», признав возможной и социально полезной работу специалистов – историков, политологов, культурологов и проч. – по деконструкции национальной мифологии. Без этой санкции такая работа затруднена, да и бессмысленна в социальном отношении.
[Закрыть]. Если рациональное социальное сознание пытаются редуцировать к мифу, то идущее на это общество обречено. Оно лишится и прошлого, и настоящего, и будущего, окажется вне времени – миф ведь вневременной феномен.
Особенно опасным это внеисторическое явление становится, когда его начинают использовать специалисты по «информационно-политическим технологиям», социальные «конструктивисты»-конструкторы. Известно, что «арийский» миф (идеалистическая, романтическая история о превосходстве и об ущемленности немецкой расы), как важная составляющая немецкой культуры, существовал и до национал-социалистов. Конечно, он всегда был потенциально опасен, что понимали соседи Германии. Но разрушительным и для самих немцев, и для всей Европы стал лишь тогда, когда его принялись осуществлять нацисты. «Арийский» миф заменил собой право, политику, культуру во всем ее многообразии, науку. В конечном счете попытка реализовать «арийский» миф привела к суициду немецкого народа. И это вечное предупреждение тем, кто хочет поиграть в мифы.
Говоря привычным для советских людей языком, миф может и должен оставаться в «базисе» общества, но его ни в коем случае нельзя пускать в «надстройку». Более того, миф относится к социальному, а не к государственному. Государственные институты, должностные лица обязаны оставаться вне сферы мифологического. Обществу же, которое использует миф в качестве консервативной опоры, требуются и другие основания – прежде всего в виде науки, научного знания. Для него это, если угодно, не менее важная страховка от самоубийственных срывов, чем для политики система сдержек и противовесов.
Особенно осторожным должно быть отношение к мифам, связанным с относительно недавними историческими событиями. Действующими лицами этих мифов являются отцы и деды, а не легендарные Зигфриды и Брунгильды. Сила этих мифов всепобеждающа, поскольку они питаются энергией еще ощущаемого страдания, еще переживаемой боли, еще возвышающей гордости. Такие мифы действительно способны и повести за собой, и сформировать определенный тип человеческой личности. Иными словами, они обладают повышенной мобилизационной силой.
Все это в полной мере относится к тому, что происходит в нашем обществе в связи с темой Отечественной войны. Сложнейшее, трагическое событие свелось в нашей памяти к военно-победной, парадно-маршевой истории, прославляющей военную мощь государства и героизм народа. Она вся укладывается в формулу: большая война – Победа – великая страна. Эта история вселяет оптимизм, будит даже не национальное чувство, а националистическое тщеславие и великодержавную агрессию. Ее назначение – демонстрировать силу и большие амбиции; в ней нет места для вопроса о цене, потому что ответ известен: «И все-таки мы победили». А за победу можно отдать все. Речь идет о создании из войны («изобретении» на этой фактической основе) той «истории», которая «полезна» современным обществу и власти. Но эта «польза» краткосрочна. Парадно-героический, мобилизационный миф, «утешая» и гоня сомнения в себе, позволил выжить на тяжелейшем переломе, но не дает развиваться.
Существует громадная, острейшая опасность закрыться этой большой «историей» не только от нашего прошлого, но и от нашего настоящего и будущего. Невероятно измученный в последнее столетие русский народ может «утонуть» в ней примерно так же, как он тонет в водке. И те современные идеологи и политики, которые нагнетают мифологическую обстановку в стране и военной мифологией пытаются подменить абсолютно необходимое для общества самопознание, вне всякого сомнения, ведут Россию в тупик. Именно эти люди превращают миф из созидательного начала, работающего на жизнеустройство, в жизнеразрушающую силу.
Список литературы
1. Бродский И. Книга интервью. – 5-е изд. – М.: «Захаров», 2011. – 784 с.
2. Быков Д. Школа неверия // Новая газета. – М., 2014. – 10 февр. – С. 18.
3. Гершензон М.О. Творческое самосознание // Вехи: Интеллигенция в России: Сборник статей, 1909–1910. – М.: Молодая гвардия, 1991. – С. 85–108.
4. Живов В. Об оглядывании назад и частично по поводу сборника «Семидесятые как предмет истории русской культуры» // Неприкосновенный запас. – М., 1999. – № 2 (4). – С. 48–55.
5. Жирар Р. Насилие и священное. – М.: НЛО, 2000. – 400 с.
6. Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокультурного исследования / Маркарян Э.С., Арутюнов С.А. и др. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1983. – 319 с.
7. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. – 535 с.
8. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. – 346 с.
9. Хюбнер К. Истина мифа. – М.: Республика, 1996. – 447 с.
10. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест–ППП, 1995. – 238 с.
11. Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. – М.: REFL-Book: «Ваклер», 1996. – 288 с.
12. Юнг К. О психологии бессознательного // Юнг К. Психология бессознательного: Собр. соч. – М.: Канон, 1994. – 319 с.
Из истории российско-советской бюрократии: упущенные возможности, невыученные уроки
А.В. ОБОЛОНСКИЙ
«Чиновники размножаются как поганки – делением».
А.П. Чехов
«С плохими законами, но хорошими чиновниками управление еще возможно, но с плохими чиновниками не помогут никакие законы».
О. фон Бисмарк
«Есть легион сорванцов, у которых на языке “государство”, а в мыслях – пирог с казенной начинкой».
М.Е. Салтыков-Щедрин
Советское чиновничество было и остается предметом полярных по содержанию мифов: от стопроцентного очернения до стопроцентной апологетики. В данной статье мы постараемся представить более адекватный взгляд на это социальное явление. Но сначала немного о временах предшествовавших – о бюрократии имперской.
Предыстория: об общественной репутации и реальных делах царской бюрократии
В России от века существовала национальная забава – плевать в бюрократию. Но ни в коем случае не выше. Дескать, главный (царь, генсек, президент) у нас умный, добрый, хороший, да слуги его (бояре, дьяки, чиновники) плохие – глупые, злые, жадные, воры. И всех этот простенький миф устраивает: не только «царей», но даже и самих «слуг». Хоть и обидно, но безвредно – не влечет никаких последствий.
Пожалуй, не было в России другой социальной группы, кроме чиновничества, которая бы всегда, при любом правителе и любых обстоятельствах подвергалась постоянной и резкой критике со всех сторон. Более того, говорить о чиновниках положительно считалось почти неприличным. В литературе господствовали гоголевские, сухово-кобылинские, щедринские персонажи: казнокрады, взяточники, чинодралы, бездушные разорители людей, равно ничтожные сановники и жалкие столоначальники. Публицисты и интеллектуалы всех направлений тоже хлестали наотмашь. Либералы-западники видели в развращенной, невежественной и своекорыстной бюрократии едва ли не главное зло общественного и государственного устройства, одно из самых безобразных проявлений российской «азиатчины». Славянофилы и панслависты бичевали бюрократию с прямо противоположных позиций – как разносчика тлетворных, убийственных для русской самобытности европейских влияний. Чиновников поносили и низшие слои, видевшие в них своих главных притеснителей: они обманывали «добрых царей», которые пеклись о народе, но не могли ничего сделать поверх голов своих «злых слуг». И самая высшая власть не упускала случая покритиковать бюрократа: так она хотя бы частично снимала с себя ответственность за те или иные непопулярные действия и демонстрировала якобы солидарность с народом. На чиновников беспрестанно жаловалось купечество, при этом развращая их взятками и всевозможными подношениями. Словом, пороки российской бюрократии вошли в поговорки, стали общим местом.
Реальность однако гораздо сложней. Чиновничество наше было и неоднородно и менялось с течением времени. Серьезный анализ позволяет сказать, что российская бюрократия, этот извечный «мальчик для битья», была, при всех ее пороках, лучше своей общественной репутации. И немало хорошего для страны сделала. Во всяком случае, в последние три романовских царствования. Да и раньше совсем не все государевы слуги были чинодралами, казнокрадами, реакционерами.
Вспомним нашего первого «идеального бюрократа» М.М. Сперанского. Как писал о нем В.О. Ключевский, «со времен Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум, после Сперанского, не знаю, появится ли третий. Это была воплощенная система» (10, c. 462). Будучи одним из ближайших сподвижников молодого Александра I, он, как известно, предложил реформу всей структуры государственного управления на базе передовых идей века. Правда, участь как реформы, так и ее идеолога печальна. Немногое из задуманного Сперанскому удалось (хотя бы частично) воплотить в жизнь: был перестроен центральный аппарат – образованы министерства и Государственный совет; в систему чинопроизводства введен критерий образования. Согласно царскому Указу от 6 августа 1809 г., для производства в чины коллежского асессора (8-й класс) и статского советника (5-й класс) требовалось помимо соответствующей выслуги лет свидетельство об окончании курса в одном из российских университетов либо сдача экзамена по прилагавшейся к Указу программе. Программа была довольно обширной и предполагала знание русского и одного иностранного языков, основательные познания в областях права (естественного, римского, уголовного и гражданского), отечественной истории, экономики и статистики, а также наличие общих познаний по ряду других предметов (13, с. 120–121). Обратим внимание: акцент в программе делался именно на отечественную историю.
Помимо прагматической задачи повышения образовательного уровня чиновников Указ от 6 августа преследовал и более широкую (социальную) цель: стимулировать в нации (или, во всяком случае, в национальной элите) интерес к получению образования. Ведь в начале позапрошлого столетия, когда с открытием гимназий, увеличением числа университетов и других учебных заведений расширились возможности для распространения в стране просвещения, нашим просветителям подумалось, что проблема решена. В романтических планах, во множестве являвших в «дней Александровых прекрасное начало», даже виделось, что уже через пять лет все требующие квалификации должности в государственном аппарате будут заполнены лицами, окончившими учебные заведения. Надежды не оправдались: молодежь отнюдь не ринулась изучать науки. Исключения не составили даже дворянские семьи, где предпочтение по-прежнему отдавалось традиционной форме образования – найму гувернеров и домашних преподавателей, учивших, как известно, «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь».
Тем не менее именно в александровское и николаевское царствования патриархальная российская подозрительность и нелюбовь к «многознанию» и «высокоумствованиям» ушли наконец в прошлое. Однако реакция на стремление правительства сформировать корпус образованных служащих была по преимуществу негативной. Один за другим посыпались аргументы и доводы против реформы. Причем сопротивление исходило не только от закосневших в невежестве провинциальных «столоначальников» и обитателей поместных «медвежьих углов», но и от придворных петербургских кругов, и даже от интеллектуальной элиты.
Например, сам Карамзин представил царю записку, в которой дал волю сарказму относительно Указа от 6 августа: «Отныне никто не должен быть производим ни в статские советники, ни в асессоры без свидетельства своей учености… председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойства оксигена и всех газов, вице-губернатор – пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни сорокалетняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга узнать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь не согласного с их целью» (цит. по: 8, с. 32).
А в популярной пародийной молитве того времени есть такие строки:
«А что мы не знаем астрономии и по-французски “прости”,
И предки наши сего не знали,
А дела вершили по справедливости.
Но по простоте нашей завидумке
Умилосердись и в ученые классы
И нас и профессоров не введи.
Нас от разорения, а профессоров от обогащения
Да избежим тем все лукавого» (10, с. 225).
(В последних фразах, очевидно, содержится намек на получение аттестата за взятку.)
Дело не ограничилось ерничаньем. Министры один за другим стали «пробивать» для своих ведомств исключение из правил. При этом каждый доказывал, что именно для его «отраслевой специфики» опыт важней знаний. Особенно усердствовало Министерство внутренних дел, в котором, кстати, уровень образования был особенно низким. То есть для тех, кто по роду службы был призван обеспечивать соблюдение законности, «нести в массы» идею права, образование объявлялось излишним. Последствия известны. Мы постоянно сталкиваемся с ними и по сей день. Не случайно в русской литературе трудно припомнить положительный образ представителя полицейской власти – все больше держиморды, пришибеевы да взяточники попадаются.
Царь дрогнул, дозволив отступления от установленного порядка для отдельных ведомств и категорий чиновников. Это вызвало новую волну ходатайств об исключениях. Уже через несколько лет исключением стало соблюдение требований Указа от 6 августа. К тому же «под давлением общественности» царь вынужден был уволить Сперанского.
Между тем, если бы тогда удалось сохранить квалификационные требования для претендентов на госслужбу, Россия в этом отношении на полвека опередила бы все европейские страны, за исключением Пруссии. Впрочем, это типичная судьба многих российских прожектов и попыток прорыва в будущее. Реакционерам при власти очень часто (увы, гораздо чаще, чем в других странах) удавалось заблокировать прогрессивные реформы, изобретения, потенциально перспективные проекты, а их авторов, да и просто нестандартно думающих людей вытолкнуть из управляющих слоев132132
Мы никогда не комментируем мнения авторов «Трудов…», но в этом случае необходимо сказать несколько слов в защиту М.М. Сперанского. Его вклад в строительство российского государства гораздо более глубок и обширен, его влияние на ход исторического развития страны громадно. Здесь мало кто может с ним сравниться. – Прим. ред.
[Закрыть].
К счастью, так случалось не всегда. И российская бюрократия внесла свою лепту в социальный прогресс. Вспомним, что Великие реформы времен Александра II разрабатывались и проводились в жизнь чиновниками. Поражение в Крымской войне послужило толчком к общественному обновлению. Чиновничество, как и все вокруг, начало меняться. Новые времена и идеи призвали к государственному управлению новых людей. П.А. Зайончковский, посвятивший истории российского чиновничества XIX в. специальную работу, констатировал: «В связи с подготовкой как крестьянской, так и других реформ выдвигаются такие талантливые представители либеральной бюрократии, как братья Н.А. и Д.А. Милютины, А.В. Головнин, С.И. Зарудный, Н.И. Стояновский, В.А. Татаринов и др.» (8, с.186–187). Процесс либерализации бюрократии затронул не только столицы, он перекинулся и в провинцию: «Среди губернской администрации появляются такие честные, образованные и либерального образа мыслей губернаторы, как В.А. Арцимович, К.К. Грот, А.Н. Муравьев (бывший декабрист. – А.О.), В.И. Ден. Однако число их было невелико» (с. 8, с. 190). К этому списку можно добавить М.Е. Салтыкова-Щедрина – вице-губернатора сначала в Рязанской, а потом в Тверской губернии, а также ряд других имен. Думается, несмотря на общий пессимизм, характерный и для Зайончковского, движение вперед было очевидным.
Реформы 1860–1870-х годов, в отличие от преобразований предыдущих царствований, носили не авторитарный, а либеральный характер. Чиновничество вынуждено было меняться в соответствующем направлении. Причем изменения действительно затронули не только высший уровень чиновной иерархии. Пришедшие к руководству ведомствами либеральные руководители нуждались в опоре и вопреки сопротивлению инертной чиновничьей массы стали ближайших сотрудников подбирать из числа единомышленников. А те стремились распространить обновленческую волну на следующие этажи иерархии (см.: 3).
Увы, «розовый период» продолжался недолго. Изменения не успели пустить глубокие корни. События 1 марта 1881 г. сыграли трагическую роль. Рука Желябова со товарищи походя столкнула российскую бюрократию, только-только начавшую выбираться из авторитарного болота, обратно. Строго говоря, попятные движения начались еще раньше, но их можно рассматривать как неизбежную борьбу старого с новым. А после 1 марта исход этой борьбы определился. Стрелка качнулась назад: Россию, по совету Победоносцева, опять попытались «подморозить». Катастрофические результаты этого курса сказались очень скоро – уже через два десятилетия.
Впрочем, даже реакционность высшей власти не исключает административных и даже более широких реформ – разумеется, если они непосредственно не «подрывают основ». Но для успеха здесь, как, впрочем, и во многих других подобных делах, нужны личности. И хотя авторитарная система в целом блокировала выдвижение на государственные посты талантливых людей, все же исключения случались. Наиболее ярким таким исключением последних двух царствований стал С.Ю. Витте – министр путей сообщения, министр финансов, председатель Кабинета, а затем – и первый председатель Совета министров «послеманифестной» (1905) России. Человек блестящих способностей, аналитического ума и кипучей энергии, резко выделявшийся на сером фоне окружения последних российских императоров, Витте сделал максимум возможного для того, чтобы предотвратить падение России в пропасть революционной катастрофы. Он советовал Николаю II пойти по пути ограничения монархии, пытался уберечь его от пагубных придворных влияний, от «православного язычества», хотел предотвратить бессмысленную войну с Японией.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?