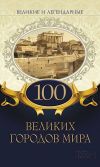Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Однако генерализировать этот вывод не следует. Если мы обратимся к материалу из других городов, то обнаружим, что там просматривается несколько иное отношение к униформе: в Бамберге одежда геральдической расцветки была, видимо, в первую очередь именно отличительным признаком городского служащего167167
Stadtarchiv Bamberg. Rep. B4. Arch.-Nr. 3 Altes Ratsbuch. Fol. 163’. 27.2.1509.
[Закрыть]. Нечто похожее в Аугсбурге встречается только в исключительных случаях, и притом не в постановлениях совета, а в прошениях снизу: например, аугсбургский палач писал, что униформа полагается ему именно как отличительный признак чиновника, служащего в ратуше; курьер Каспар Хойхлин, не имевший прав аугсбургского гражданства и не состоявший, насколько можно заключить по его петиции, на городской службе, просил в 1534 г. позволить ему носить в городе и за его пределами герб Аугсбурга на одежде, так как это должно было придать ему легитимный статус и дать возможность выполнять и дальше работу курьера после того, как Швабский союз, чьим гербом он пользовался прежде, перестал существовать. Совет постановил разрешить ему носить на перевязи футляр для транспортировки свернутых грамот, украшенный аугсбургским гербом168168
Stadtarchiv Augsburg Reichsstadt Akten 1078 Stadtbedienstete Stadtboten.
[Закрыть]. Во Франкфурте-на-Майне тоже именно городские курьеры вновь и вновь обращались к совету с прошениями о выдаче им обмундирования169169
Stadtarchiv Frankfurt am Main Stadtkanzley. 1508, 1512. № 36. Rep. 292. № 1, 2.
[Закрыть]: за городскими стенами этот знак суверенитета должен был защитить служащего, так как указывал на того суверена, который за ним стоит и в случае чего сможет за него вступиться.
Таким образом, город раннего Нового времени как суверен и наниматель если не всегда, то во многих случаях наряду с печатями на письмах, флагами на кораблях, гербами на парадной посуде, дарственных кубках и прочих репрезентативных объектах зримо воплощался в специфической одежде, которую он выдавал своим служащим. Эти репрезентации не несли никакой эмоциональной окраски – их задача была в том, чтобы возбуждать чувство благоговения, указывая на силу и славу репрезентируемого ими политического субъекта.
Подводя итоги, можно констатировать, что репрезентация города в двух рассмотренных видах источников различается, во многом принципиально. В литературном произведении, таком как «Белый Король», мы видим город – его пространство, его людей, его время, его эмоциональную окраску – глазами придворного, который замечает лишь то, чем город как место/время отдыха и развлечений отличается от менее комфортных пространств/времен пути: это удобные и роскошные жилища, праздники и различные увеселения, которым сопутствуют чувства однозначно положительные. При этом города безлики, неотличимы один от другого и полны анонимных безликих людей. Примерно таков же образ города в иллюстрациях к «Белому Королю».
В картинах, созданных в те же годы и в том же регионе, но горожанами и по заказу горожан, можно видеть, как и в романе, что загородное пространство представлено как зона преимущественно сезонных занятий, зона просторов и путей, городское же – как зона тесноты, минимальных перемещений и занятий, привязанных либо к самым разным коротким и длинным календарным циклам, либо же вовсе свободным от временнóй привязки. В плане эмоциональной окраски как город, так и его округа являют собой арену для пестрого набора сцен, связанных с самыми разными чувствами, однако, в отличие от литературного текста, эти чувства не обозначены привычным нам способом и могут лишь угадываться. Художники, изображая Аугсбург, создали узнаваемые портреты как города, так и его обитателей – в каких-то случаях это портреты индивидов, в каких-то – социальных категорий, в частности – городских служащих, одевая которых (все время или по особым случаям) в униформы, городские власти символически подчеркивали, что стоят наравне с другими суверенами, претендуют на благоговейное к себе отношение, а пространственный аспект – малые размеры города по сравнению с территориальным государством – не играет при этом никакой роли.
Юлия Иванова, Павел Соколов
Урбанистические теории Ренессанса и барокко как модели коммуникации власти и подданных
Формы и способы эксплуатации урбанистического воображаемого в ренессансной и барочной политической культуре – одна из наиболее динамично развивающихся междисциплинарных исследовательских областей, расположенная на стыке истории архитектуры, штудий о барочной политике и urban studies170170
Назовем лишь некоторые, с нашей точки зрения, наиболее значимые книги, посвященные этой проблематике: Performativity and Performance in Baroque Rome / ed. by P. Gillgren, M. Snickare. Burlington: Ashgate, 2012; Aureli P. V. The Possibility of an Absolute Architecture. Cambridge, MA; London: MIT, 2011; Embodiments of Power. Building Baroque Cities in Europe / ed. by G. B. Cohen, F. A. J. Szabo. New York; Oxford: Bergahn Books, 2008; Levy E. Propaganda and the Jesuit Baroque. Berkeley; Los Angeles: California University Press, 2004; Hersley G. L. Architecture and Geometry in the Age of the Baroque. Chicago; London: Chicago University Press, 2000.
[Закрыть]. Перечень проблем, решение которых принадлежит к этой области, чрезвычайно велик: к числу наиболее значимых относятся стратегии использования городской образности в коммуникации управляющих и управляемых, концептуализация публичного пространства у ренессансных теоретиков архитектуры, манипуляция зрением как форма репрезентации власти и идеологического воздействия, сращение архитектурной формы гражданской архитектуры и политической конструкции stato в палладианском неоклассицизме, эксплуатация эстетики возвышенного в архитектуре барокко.
В настоящем очерке мы ставим своей целью проанализировать превращение грамматики архитектурных стилей (классицизма, маньеризма и барокко в разных изводах) в один из языков нововременной политики в условиях кризиса гуманистической этико-риторической парадигмы и рождения état moderne и связанные с этим сюжеты: унификация ордеров как проект «lingua franca гражданской жизни»171171
Aureli P. V. The Possibility. P. 64.
[Закрыть]; гомогенизация пространства как оптическая модель регулярного государства; квантификация визуального опыта в архитектурной теории в контексте возникновения новой дисциплины – «статистики»; рационализация городского ландшафта как решение апории социальности. Первым предметом нашего анализа станут политические импликации ренессансных и барочных теорий архитектуры: будет показано, как архитектура превращается в инструмент и манифестацию косвенной власти (potestas indirecta – категория, получившая широкое хождение благодаря полемике Томаса Гоббса с Робертом Беллармином). Для того чтобы сделать явным это политическое измерение, трактаты ведущих ренессансных и барочных теоретиков архитектуры Леона Баттисты Альберти (1404–1472) и Хуана Карамуэля Лобковица (1606–1682) следует, на наш взгляд, читать на фоне таких контрреформационных теоретиков «мягких» моделей политической манипуляции, как Джованни Ботеро или Томмазо Боцио. Ключевым понятием, которое стало связующим звеном между архитектурной и политической теорией в ренессансной интеллектуальной культуре, было понятие линейной перспективы. Теоретические рассуждения о перспективе мы можем в изобилии обнаружить уже на страницах средневековых читателей Аль-Кинди и Ибн аль-Хайсама: Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона и множества других172172
Eastwood B. The Geometrical Optics of Robert Grosseteste. Wisconsin: Ann Arbor, 1964.
[Закрыть]. Выдвижение перспективы в центр гуманистической рефлексии об архитектурном пространстве было в значительной степени инициировано переоткрытием Витрувия такими авторами, как Ченчо де Рустичи, Поджо Браччолини и Бартоломео Арагацци173173
Clarke G. Vitruvian Paradigms // Papers of the British School at Rome. 2002. Vol. 70. P. 320.
[Закрыть]; наиболее активное внедрение этого принципа в теорию и практику архитектуры обыкновенно связывается с именем Филиппо Брунеллески, спроектировавшего знаменитый купол Санта Мария дель Фьоре и создавшего в 1425 г. изображение оптической проекции Флорентийского баптистерия и всего ансамбля Пьяццы Сан Джованни.
Впрочем, невзирая на метафорику «прозрачности» и «гомогенности пространства», риторический эффект ренессансной архитектуры, может быть, не в меньшей степени, чем архитектуры барочной, был основан на принципах simulatio/dissimulatio. В этом отношении такие шедевры анонсированной гуманистами «великой инставрации» – масштабного восстановления античной архитектуры, – как Tempietto Донато Браманте (около 1502 г.), ничуть не более свободны от тщательно скрываемого отступления от авторитетных образцов, нежели сочинения высмеянных Эразмом Роттердамским цицеронианцев. Как бы Браманте ни умножал реплики из самых различных памятников классической древности – театра Марцелла, Храма Геркулеса Победителя на Бычьем форуме и т. д., – использование балюстрад и сама толосовая форма храма безошибочно изобличали в его творении новодел. Риторика «инставрации» античности обосновывалась такими программными теоретическими текстами, как «Восстановленный Рим» Флавио Бьондо, «Десять книг о зодчестве» Леона Баттисты Альберти и, не в последнюю очередь, «Жизнеописания знаменитых живописцев» Джорджо Вазари. Основными элементами структуры этих текстов был нарратив и экфрасис; однако, занятным образом, соотношение этих элементов текста воплотило в себе коллизию темпорального и пространственного, «паратактического» самосознания Ренессанса. Так, damnatio memoriae – идеологически мотивированное предание забвению – средневекового искусства в нарративах Бьондо и Альберти очевидно противоречит изобилию чертежей памятников готической архитектуры в визуальных приложениях к их трудам174174
Sankovitch A.‑M. Anachronism and Simulation in Renaissance Architectural Theory // RES: Anthropology and Aesthetics. 2006. № 49/50. P. 190.
[Закрыть].
Важнейшей предпосылкой политической концептуализации архитектурной теории Возрождения у ранних ее представителей, таких как Леон Баттиста Альберти, стал радикальный пересмотр того раздела аристотелевской физики и учения о категориях, который можно назвать топологией. Впрочем, относительно этого ключевого пункта в исследовательской литературе нет единогласия: недавно сербско-норвежский историк архитектуры Бранко Митрович175175
Mitrović B. Leon Battista Alberti and the Homogeneity of Space // Journal of the Society of Architectural Historians. 2004. Vol. 63. № 4. P. 424–439.
[Закрыть] подверг критике тезис Джеймса Элкинса и Патрика Коллинза (выдвинутый ими, в свою очередь, в ходе критики классических работ Эрвина Панофски и Эрнста Кассирера), согласно которому идея гомогенного пространства оставалась неизвестной европейской архитектуре вплоть до XVIII столетия и, следовательно, высказанные Панофски идеи о «перспективе как символической форме» в ренессансном искусстве следует признать анахронистическими. По мнению Митровича, идея нематериального однородного пространства была известна еще Аристотелю (более точный смысл использовавшегося им термина – «дистанция», διάστημα) – эту концепцию он приводит полемически в «Физике» как мнение Гесиода и «большинства других». Сам Стагирит, правда, выделял как особую категорию место (топос), предшествующее находящимся в нем телам, однако чего-либо подобного нововременному геометрическому понятию пространства не признавал, ибо подобная гипотеза подразумевала бы наличие в природе пустоты и «ничто». Сторонники поздней датировки концепции «гомогенного пространства» связывают ее универсальное распространение и проникновение и в архитектурную теорию и практику с триумфом в науке ньютонианства с его идеей spatium как sensorium Dei. Однако Митрович показывает, что анонсированная (и отчасти реализованная) Альберти программа систематической квантификации визуального опыта – как в живописи, так и в архитектуре – просто не имела бы смысла. Помимо очевидных выгод для концептуального аппарата архитектуры, гомогенизация пространства, то есть представление его как всюду однородного континуума, имела следствием обогащение политического визуального воображения. Такие морфемы идеального пространства, как линейная перспектива, были освоены теоретиками политической самопрезентации еще в XV в.: например, Эней Сильвий Пикколомини осуществил в своих «Записках» первый эксперимент по проецированию перспективистской утопии на автобиографический нарратив. Однако полноценную альтернативу аристотелевской топологии составила именно категория пространства, разработанная Альберти (термин spatium девяносто восемь раз встречается в его трактате «Десять книг о зодчестве»), которую уже нельзя было, как у его средневековых латиноязычных предшественников, понимать как синоним «измерения» (dimensio), – как точно отметил Маркович, подобное понимание лишило бы смысла целый ряд предпринимаемых Альберти понятийных сопряжений, прежде всего синтагму «пространство определенного места» (huius loci spatium).
Геометрически идеальная форма, воспринимаемая в прямой перспективе, представляет собой место встречи порядка космического с порядком социальным. Именно поэтому у Альберти архитектурная гармония (concinnitas, латинский аналог греч. εὐρυθμία) рассматривается как гражданский и вместе с тем христианский долг архитектора: по словам Кэрролла У. Уэстфолла, в «Десяти книгах о зодчестве» «намерения и способности архитектора согласуются с намерениями и деяниями Бога, а также человека как социального существа. Именно следование concinnitas делает архитектора общественно значимой фигурой»176176
Westfall C. W. Society, Beauty, and the Humanist Architect in Alberti’s de re aedificatoria // Studies in the Renaissance. 1969. Vol. 16. P. 66.
[Закрыть].
С этих позиций Альберти корректирует знаменитую витрувианскую триаду, в которой азиатский принцип «прочности» или «добротности» (firmitas) соединяется с греческим идеалом «красоты» (venustas) и рождает римскую «полезность» (utilitas). Витрувианская категория красоты (venustas) не устраивала Альберти потому, что не включала в себя представления о социальной функции архитектуры; поэтому он предпочел использовать синонимичный, но не скомпрометированный излишним «идеализмом» термин pulchritudo, который тоже можно перевести как «красота». Вопросы о принципах социальности и природе архитектуры сопрягаются у Альберти уже в «Предисловии» к «Десяти книгам» (1485), однако особая роль в этом вопросе была отведена в программной четвертой книге трактата Альберти. Эта книга начинается с экскурса в политическую историю (и вместе с тем – в историю политической мысли): в противовес Цицерону Альберти утверждает, что «сообщества людей произошли не от огня и воды, а от кровли и стены»177177
Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. С. 6.
[Закрыть], то есть видит в зодчестве фундамент гражданской жизни. Некоторые исследователи находят у Альберти «идею абсолютной архитектуры», предполагающую рассмотрение полиса как бы изнутри архитектурного порядка, то есть приоритет архитектурной конструкции политической утопии перед нарративной178178
Aureli P. V. The Possibility of an Absolute Architecture. Cambridge, MA: MIT, 2011. P. 38.
[Закрыть]. В соответствии с функциональным разделением – одни здания созданы для необходимости, другие для удобства, третьи для наслаждения – конструируется и социальная иерархия, и урбанистическое пространство разделяется в согласии с ней (здания для всего общества, для «первенствующих» и для простого люда)179179
Альберти Л. Б. Десять книг. С. 109.
[Закрыть]. Значение архитектуры не сводится к учреждению общества – не менее важна роль архитектора в налаживании коммуникации между людьми: благодаря строительству коммуникаций «люди стали передавать людям плоды, ароматы, драгоценные камни, опыт и знания – все, что способствует благоденствию и удобству жизни»180180
Там же. С. 5–6.
[Закрыть]. Однако это привнесение регулярности, это прореживание и усовершенствование городского пространства имеют в то же время и отчетливо осознаваемую политическую цель: формирование условий для благодетельного контроля со стороны власти, подобной платоновскому Законодателю-демиургу, или, как формулирует сам Альберти, «чтобы старшие могли следить за младшими». Эта еще не очень отчетливо артикулированная у Альберти идея благодетельного контроля посредством обустройства города достигнет кульминации у контрреформационных оппонентов Макиавелли, прежде всего у Джованни Ботеро (1544–1617).
В сочинении «О величии городов» (Delle cause della grandezza delle città, 1588) Ботеро много говорит об удовольствии, жажда которого может привлечь людей в недавно основанный город. В его социологической концепции удовольствие и удобство суть одни из основных стимулов. В рекомендациях по привлечению населения в города и по обустройству городской жизни Ботеро не оставляет без внимания даже самые незначительные, казалось бы, детали социального строительства. Например, в городе следует учредить университет, но так как студенты – народ беспокойный, склонный к дракам, азартным играм и пьянству, нужно спланировать городские ландшафты так, чтобы они не просто препятствовали бесчинствам, но и способствовали облагораживанию нравов. Положительным примером здесь может служить Франциск I, устроивший студентам широкий луг за городом возле реки для подвижных игр, благоприятных для здоровья и приятных для глаза постороннего наблюдателя. По краям проезжих дорог, ведущих в город, следует сажать деревья и кустарники, чтобы в них селились и пели птицы, и тогда такие дороги будут приятны купцам, которые с радостью станут сходиться в недавно основанный город. Управлять следует не только каждым индивидуумом, но и социальными отношениями. Например, нужно обеспечить местность водными коммуникациями и дорогами: тогда люди смогут совершать путешествия, посещать и узнавать друг друга, и так между ними возникнет дружба, а затем и любовь. Для того чтобы находить правильные меры воздействия и быть уверенным в лояльности подданных (или, по крайней мере, принимать меры безопасности, зная, что они склонны нарушать спокойствие в государстве), нужно хорошо знать свойства разных классов и социальных групп, проживающих на территории государства. Наконец, Ботеро посвящает III книгу сочинения о городах исследованию зависимости благосостояния города от численности населения и дает рекомендации по ее контролю.
Власть у Ботеро, с одной стороны, осуществляет все более тотальный контроль над подданными, чтобы лучше знать не только их дела, но и – главное – их потребности. С другой стороны, власть развивает индустрию образов действительности вместо самой действительности, – и все это для того, чтобы привести свою паству к счастью на земле и блаженству в вечности.
Сила и притягательность дисциплинарной власти у Ботеро основывается на нелегитимном сопряжении: созданная Макиавелли для его экстремистской конструкции государства минималистская антропология (все люди движимы, в конечном счете, корыстными интересами и низменными страстями, на которые и нужно опираться в политической деятельности) и осуществленное им снятие запрета на манипуляцию сочетаются у Ботеро с классической телеологией политического действия (достижение политического счастья), для которой эсхатологические страхи Макиавелли очевидным образом нерелевантны. Это позволяет ему на место радикального и непривлекательного для многих террористического режима, описываемого Макиавелли, поставить своего рода христианское государство всеобщего благополучия, – в основе которого, впрочем, все равно лежат иллюзия и манипуляция.
Возвращаясь к Альберти, отметим, что, любопытным образом, образ архитектора у него обнаруживает черты сходства с макиавеллиевским государем ante litteram: подобно государю у Макиавелли, архитектор у Альберти приручает фортуну (природу) с помощью virtù (scientia architecturae). В связи с этим характерно, что Альберти был автором диалога «О роке и судьбе»: природные силы в его «Десяти книгах о зодчестве» выступают своего рода символами фатума. Специальное внимание он посвящает и одному из ключевых для Макиавелли вопросов о месте основания города: как известно, автор «Государя» рекомендовал основывать города в местах суровых и труднодоступных, дабы сохранять твердыми нравы жителей181181
Обсуждение топоса об основании города у Альберти см.: Альберти Л. Б. Десять книг. С. 111.
[Закрыть]. В действительности эта проблема восходит к различию в понимании основания полиса как своего рода «государственного переворота» (μεταβολή) у Аристотеля и колониальной утопии платоновских «Законов»182182
Bertrand J.‑M. De l’écriture à l’oralité: lectures des Lois de Platon. Paris: Sorbonne, 1999. P. 15–49.
[Закрыть]. Альберти в этом древнем споре встает на сторону тех, кто полагает, что законами и отеческими установлениями общество можно контролировать не хуже, чем если помещать его в суровые экологические условия, и приводит в пример Египет, падение которого никакие природные факторы предотвратить не смогли.
Значимой особенностью представлений Альберти о гражданской функции архитектуры является его идея, согласно которой сами числовые пропорции и закономерности, заложенные в плане гражданских построек, могут оказывать воздействие на душу зрителя, воплощать и учреждать гармонию микрокосма и макрокосма (другой аспект concinnitas). Альберти приводит иногда самые причудливые аналогии, призванные обосновать соответствие архитектурных принципов природным закономерностям: у животных четное количество конечностей и нечетное – отверстий, поэтому и у архитектурных сооружений должно быть четное количество опор и нечетное – входов и выходов. Практическим воплощением этой платоновско-пифагорейской «магии» стал фасад палаццо Руччелаи (возведен Бернардо Росселлини по проекту Альберти), подчиненный законам пифагорейской гармонии (диапасон, диатессарон, диапенте). Поверенная платонически-пифагорейскими гармониями «искусственная» топология, в основе которой лежит абсолютная симметрия и резкое противопоставление центра пространства его периферии, оказывается символом новой социальности, основанной на совершенном законодательстве и безупречном этосе граждан. В этом смысле перспективистская утопия Ренессанса и раннего классицизма принципиально отличается от формалистической программы классицизма позднего (architecture parlante Этьена-Луи Булле и Клода-Николя Леду), теоретики которой видели главную цель архитектуры в том, чтобы «выражать собственное предназначение» независимо от каких-либо политических или иных гетерономных по отношению к чистой форме смыслов.
Одновременно кульминацией и инверсией «идеального города» в духе Альберти, Урбинского Анонима и Фра Карневале стали колониальные города Вест-Индии, планировка которых была построена в форме решетки. Планы этих городов, утверждавшиеся именными ордонансами испанских королей (обобщающая компиляция была составлена Филиппом II в 1573 г.), знаменовали собой процесс превращения гражданской архитектуры в национальную; на смену нумерологической утопии приходила систематическая рационализация, предпринимаемая абсолютистским государством183183
Mundigo A. I., Crouch D. P. The City Planning Ordinances of the Laws of the Indies Revisited. Part I: Their Philosophy and Implications // The Town Planning Review. 1977. Vol. 48. № 3. P. 247–268.
[Закрыть]. Закономерным образом с каждым пересмотром этих планов возрастала зависимость их от римской архитектуры, то есть они делались все более «витрувианскими» – идеология renovatio imperii постепенно обретала наиболее подходящую для себя форму. Не случайно в связи с этим возникновение и мифологемы «Венеции как энтелехии Теночтитлана»: на целом ряде гравюр XVI столетия (самую известную из них см. в «Изолярии» Бенедетто Бордоне) мы можем увидеть, как ацтекский альтепетель предстает прототипом (или, если использовать экзегетический термин, – антитипом) «христианнейшего полиса», града святого Марка и воплощения аристотелевского идеала политической формы, «смешанной конституции»184184
Kim D. Y. Uneasy Reflections: Images of Venice and Tenochtitlan in Benedetto Bordone’s «Isolario» // RES: Anthropology and Aesthetics. 2006. № 49/50. P. 80–91.
[Закрыть].
Антитезой – и по содержанию, и по формальным параметрам – альбертианской республиканской программе архитектурной политики стала барочная концепция «воспитания аффектов» посредством разного рода «симулякров» и «призраков» власти, в соответствии с принципами «тайноводственной политики» Арнальда Клапмария и подобных ему авторов: богатая метафорика «сокровенного», «мистериального» в описании природы власти185185
См., например, известную цитату из Габриэля Ноде: «Народы, ближе всего живущие к истокам Нила, пользовались изобилием даров этой реки, не имея ни малейшего представления о том, где она берет начало; следовало бы, чтобы и народы восхищались благотворными следствиями Мáстерских Действий своих Государей, ничего не зная об их причинах и средствах, позволивших их осуществить» (Naudé G. Considerations politiques sur les coups d’Estat. Paris, 1639. P. 23), а также подборку в первой и четвертой главах «О тайнах государств».
[Закрыть] резко контрастировала с классицистическим имагинарием с его категориями универсальной прозрачности и «просматриваемости» (см. в связи с этим классический анализ «Паноптикума» Иеремии Бентама у Мишеля Фуко186186
Фуко М. Око власти (беседа с Ж.‑П. Барру и М. Перро) // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 220–247.
[Закрыть]). Коррелятом и в определенной степени предпосылкой барочной архитектурной утопии в политической теории можно считать феномен, известный под именем кризиса «флорентийской свободы»187187
Атмосфера, по выражению Макиавелли, «крушения и гибели», повсеместно ощущавшаяся в Европе XVI–XVII вв. – в Италии после походов Карла VIII и Франциска I, в Нидерландах после войны за независимость, во всей Европе после Тридцатилетней войны и Войны за испанское наследство, – породила целый ряд утопических «эйренических» проектов. Среди множества других утопий, призванных преодолеть кризис хотя бы в воображении, возникает и идея гражданского мира под эгидой совершенных архитектурных форм.
[Закрыть] и связанной с ней программы «воспитания желания» (education of desire) в духе общего блага и «гражданской доблести» (civica virtus)188188
Об этом см.: Burtt Sh. The Good Citizen’s Psyche: On the Psychology of Civic Virtue // Polity. 1990. Vol. 23. № 1. P. 23–38.
[Закрыть]. Своего рода квинтэссенцией антиреспубликанизма XVI столетия можно считать известную сентенцию Джованни делла Каза:
Свобода состоит из двух частей: одна – это пользование, вторая – плоды свободы, т. е. не что иное, как ее цель. Что касается пользования, то гражданин, покоряющийся государю, и в самом деле теряет свободу, однако плоды ее он, напротив, приобретает. Он лишен свободы голосования, но обладает свободой наслаждаться и обладать теми вещами, ради которых всякий здравый ум и желает свободы, борется за нее и восхваляет ее189189
Цит. по: Viroli M. Dalla politica alla ragion di stato: la scienza del governo tra XIII e XVII secolo. Roma: Donzelli, 1994. P. 163.
[Закрыть].
Новый политический климат по-новому расставил политические акценты в архитектуре: республиканизм Альберти оказался не в моде – Витрувий, основной трактат которого был впервые переведен на вольгаре в 1511 г. Фра Джованни Джокондо (Джованни Веронский, Жан Жоконд, ок. 1433 – 1515), в большей степени пришелся ко двору. Многие теоретики архитектуры указывали на асимметрию между визуальными возможностями, допускаемыми идеальным принципом перспективы, и ограниченными возможностями архитектуры: так, Гварино Гварини утверждал, что архитектура не столь вольна (licenziosa), как перспектива, единственная цель которой – доставлять удовольствие взгляду190190
«Deve l’Architetto procedere discretamente» (Guarini G. Architectura civile. Torino: G. Mairesse, 1737. P. 7).
[Закрыть]. Эти авторы формулируют альтернативную идею «криволинейной архитектуры» (architectura obliqua), идею, автором которой был Гварини, самым известным теоретиком – епископ-цистерцианец Хуан Карамуэль Лобковиц, а крупнейшим реализатором – Франческо Борромини. В противовес статичному и линейно ориентированному ренессансному пространству «искривленная архитектура» призвана была порождать иллюзию движения; зритель, подобно актеру в театральной постановке, вовлечен в действие как его активный участник. Эффект «искривленности», многомерности пространства был результатом применения особых технических средств: линии архитектурного пространства рисовались таким образом, чтобы правильные пропорции можно было различить в нем только под определенным углом. Для достижения этой цели использовались сложнейшие проспеттографы, самыми известными из которых можно считать sportello Дюрера и модификацию его у Э. Меньяна. Эта техника обыкновенно использовалось для изображения анаморфоз святых, подчеркивая как бы соучастие пространства в акте телесной метаморфозы: так, в соборе св. Игнатия в Риме напротив изображения триумфа святого, выполненного Андреа Поццо, на плитах пола было отмечено специальное место с таким расчетом, чтобы только с этой позиции все пропорции здания казались гармоничными, а все иллюзионистские объекты (купол) – объемными. Дидактическая цель этого приема и стоящая за ним сотериологическая идея ясны: только в непрерывном акте созерцания анаморфозы святого и размышления о нем христианин обретает способность видеть гармонию мира (мир как космос); как только он покидает «правильную» позицию, космос немедленно обращается в хаос. Жан Франсуа Нисерон, ученик одного из известнейших европейских картезианцев Марена Мерсенна, видел в spazio obliquo, «криволинейном пространстве», «наивысшее воплощение натурфилософии», динамическую сценографию образа, преобразующую помещаемые в него объекты в зависимости от различных выбираемых идеальным зрителем перспектив и вовлекающего зрителя в «магическую игру преобразования и регенерации образа» (magie artificielle des effets merveilleux). Именно с этих позиций испанский эрудит-полигистор, теолог, математик и изобретатель оригинальной «моральной логики» Хуан Карамуэль Лобковиц подверг критике Альберти: perspectiva linearis является живописной, так как она лишь подражает природе; архитектурная же перспектива предполагает «подчинение точке зрения зрителя»191191
Camerota F. Het merkwaardige perspectief van de architectura obliqua // OASE Tijdschrift voor architectuur. 1988. Vol. 20. Z. 44.
[Закрыть]. В самом деле: «Десять книг о зодчестве» самим автором мыслились как органичное продолжение трактата «О живописи», завершенного в 1435 г., а перспектива – как промежуточное звено между «живописным искусством» (ars pingendi) и «наукой архитектуры» (scientia architecturae). Карамуэль упрекает ренессансных теоретиков перспективы в том, что они, если использовать терминологию Витрувия, остались на уровне «ортографии», в то время как архитектурный объект должен быть «скенографическим» – не плоскостным изображением, а трехмерной архитектонической моделью. Сохраняя верность расхожим схоластическим категориям, Карамуэль объясняет динамику визуального восприятия «искаженной архитектуры» посредством различения «пропорций в себе» (quoad se) и «с нашей точки зрения» (quoad nos). Совмещение новомодного «геометрического стиля» (mos geometricus) с барочным пристрастием к «нарушениям симметрии» (défaut de symmetrie, broken symmetry), а также к разного рода искривленным геометрическим фигурам – эллипсам, эксцентрам и эксцентрико-эллиптическим формам (отражение в архитектуре небесной механики192192
Hersey G. L. Architecture and Geometry in the Age of the Baroque. Chicago: Chicago University Press, 2000. P. 201.
[Закрыть]) – на теоретическом уровне воплотилось в парадоксальной идее: подвергнуть метаморфозе все архитектурные элементы, сохранив при этом в неприкосновенности каноны перспективы. Характерно, что мы можем обнаружить эквивалент идеи «искривленной архитектуры» в энциклопедической системе Хуана Карамуэля, а именно в его теории «косвенных суждений» (logica obliqua), которые он объявляет, помимо всего прочего, исходной формой всякого суждения вообще, в том числе простых атрибутивных суждений, из которых складываются, как известно, Аристотелевы категорические силлогизмы193193
Dvořák P. Relational Logic of Juan Caramuel // Handbook of the History of Logic. Vol. 2: Mediaeval and Renaissance Logic / ed. by D. M. Gabbay, J. Woods. Amsterdam: Elsevier, 2008. P. 656.
[Закрыть] («реляционная силлогистика»). По Карамуэлю, искривленные формы являются исходными уже в замысле Творца: именно поэтому сам Господь создал Тропики и Зодиак в форме кривых линий, а также покрыл земную поверхность горами. Теоретическая программа Карамуэля вдохновляла многих практикующих архитекторов: так, Джованни Лоренцо Бернини в своей имеющей форму циркумференций колоннаде в Сан Пьетро в Риме (1656–1657) реализовал эллиптический план тетрастиля, почерпнутый из Architectura civil Карамуэля, а Франческо Борромини и вовсе прославился как мастер эллипса (палаццо Барберини с его знаменитой «лестницей-улиткой», Сан Карло алле Куатро Фонтане и т. д.).
Закономерным образом, у Карамуэля описанное нами теоретическое переосмысление пространства проявилось и в его единственном известном практическом архитектурном опыте. Спроектированный им западный фасад кафедрального собора в городе Виджевано в плане имеет искривленную, вогнутую форму, к тому же он значительно шире самого собора, смещен относительно его оси и расположен под углом к ней, но изнутри здания это незаметно; точно так же и при взгляде с площади Пьяцца Дукале (которая представляет собой правильный прямоугольник с пропорциями сторон 3:1) за счет ширины и вогнутости фасада не бросается в глаза то, что древний (в основе своей Х в.) собор стоит под углом к ее оси. Храм благодаря этому приему не просто доминирует над Герцогской площадью, но гармонично замыкает ее своего рода раскрытым объятьем, в которое ведут наблюдателя шаги арок, идущие вдоль двух длинных невысоких зданий по боковым ее сторонам. Один из центральных архитектурных ансамблей Виджевано, таким образом, служил визуализацией того идеала отношений светской власти, церкви и горожан, который преследовал епископ Хуан Карамуэль: перестройку фасада собора он затеял сразу после своего назначения на кафедру в этот город.
Переход от господства символической формы в средневековом искусстве к альбертианской идее линейной перспективы позволил нам увидеть, как в перспективистском искусстве проявляет себя известный в логике перформативный эффект тавтологического суждения. Будучи квинтэссенцией истины (вспомним, что тавтологиями в логике называются тождественно истинные высказывания), тавтология именно за счет содержащегося в ней момента итеративности (тавтологическое удвоение центра – центр символический / центр геометрический), утверждения посредством повторения того же самого оказывает фасцинирующее воздействие на зрителя, лишенного возможности, которой он располагал в символическом искусстве, разъять предмет созерцания на буквальное и аллегорическое измерение. В самом деле: акт присвоения символического значения, несмотря на констатацию непреодолимой дистанции между субъектом созерцания и трансцендентным смыслом, находится полностью под контролем зрителя, в чьем распоряжении имеются как резервуар аллегорических значений, так и способы ассоциирования их с символическими образами. Иными словами, перформативный потенциал аллегорезы слишком ограничен вследствие простоты ее бинарного кода (lettera-allegoria), в то время как числовые и геометрические закономерности, господствующие в перспективистском искусстве, оказывают на зрителя более мощное воздействие именно в силу своей асемантичности (перспективистское пространство организовано синтаксически). Однако этот итеративный механизм тавтологии был все еще слишком статичен; напротив, барочное «искривленное пространство» (spazio obliquo) позволило вырвать зрителя из состояния пассивного созерцания и сделать его активным участником производства тех смыслов, которые транслируют видимые им архитектурные формы.