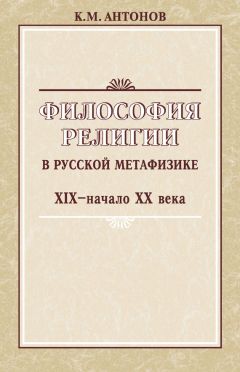Читать книгу "Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века"
Полный круг философии религии включает, по Шеллингу, рассмотрение трех основных форм религиозного сознания: естественной религии (мифологии), сверхъестественной религии (откровения) и философской религии, возникающей из философского понимания и истолкования первых двух[56]56
Шеллинг Ф. В.Й. Введение в философию мифологии // Соч. Т. 2. С. 367–372.
[Закрыть]. Систематизируя различные точки зрения на мифологию, Шеллинг приходит к выводу, что мифологические представления должны мыслиться как «необходимые произведения человеческого сознания», «содержание древнейшей истории»[57]57
Там же. С. 361.
[Закрыть], закономерное развитие которых от относительного монотеизма через политеизм к монотеизму истинному создает условия возможности откровения, т. е. свободного действия Бога на это сознание, реализованного в личности Христа. Цель философии откровения – не создание спекулятивной догматики, не доказательство истинности христианства, но понимание христианства в его самобытности, т. е. в единстве доктринального и исторического в нем[58]58
Шеллинг Ф. В.Й. Философия откровения. Т. 1. СПб., 2000. С. 249.
[Закрыть].
Легко увидеть основные темы шеллинговской философии в философии русской[59]59
О восприятии идей и личности Ф. В. Й. Шеллинга в России см. подробнее: Философия Шеллинга в России. СПб., 1998; Шеллинг: Pro et contra. СПб., 2001.
[Закрыть]: историзм; критика рационализма; критика «теизма» – т. е. того схоластического (неважно, томистского или вольфианского) богословия, которое Шеллинг изучал в университете и которое преподавалось и в наших академиях; установление взаимосвязи философского и религиозного сознания; принцип «динамического пантеизма»; оправдание «мифа»; позитивное в целом истолкование религий древности не как простой совокупности заблуждений, а как необходимой подготовки христианского откровения; идея «философской религии», которая истолковывалась русскими мыслителями весьма различно: и как необходимость философского оправдания «веры отцов», и как идея «нового религиозного сознания», синтеза языческой мифологии и христианского откровения.
Все эти темы разрабатывались русскими философами начиная с П. Я. Чаадаева и славянофилов, однако это не означало вторичности русской философии по отношению к шеллингианству. В самом деле, Шеллинг, проделавший колоссальную работу по преобразованию господствующих онтологических схем и главным образом принципа единства бытия и мышления, вряд ли вполне представлял себе объем дальнейших исследований: обоснование и развитие нового подхода, его последствия для таких философских дисциплин, как эстетика, философия религии и философия истории, культуры. Многие представители русской метафизики, действуя в этом направлении, могли бы повторить вслед за П. Я. Чаадаевым: «Следуя за Вами по Вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили Вы»[60]60
Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. М., 1991. С. 75.
[Закрыть]. В русской мысли сходные интуиции намечались уже со времен Г. С. Сковороды, и поздняя философия Шеллинга сыграла в их реализации скорее значение катализатора.
Подводя итог, можно сказать, что Шеллинг указал возможность новых путей в философии религии, а русские мыслители вполне своеобразно перевели ее из возможности в действительность.
Иначе складывалось отношение русских мыслителей к Гегелю, философия которого, с одной стороны, казалось бы, покончила с философской критикой религии как предрассудка и обмана, развернутой эпохой Просвещения, а с другой – сама стала источником новых форм атеистической мысли и породила «религию человекобожества», преодолению которой как в личном, так и в теоретическом плане русские религиозные мыслители должны были отдать немало сил.
Именно Гегель представил философию религии как существенную часть всеобъемлющей философской системы. У него она предстала как «мыслящее рассмотрение религии», которому «надлежит показать необходимость религии в себе и для себя»[61]61
Гегель Г. В.Ф. Философия религии. М., 1976. Т. 1. С. 223, 207.
[Закрыть] – как философская дисциплина с особым предметом, структурой и историей.
Согласно Гегелю, высшие формы человеческого духа: искусство, религия и философия – имеют одно и то же, но различными способами данное, содержание – Абсолютное, Бога. Вместе с тем именно философское спекулятивное осмысление религии составляет, по Гегелю, «истину всей истории религиозного сознания»[62]62
Коротких В.И. col1_0 // Религиоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 230.
[Закрыть]. В конечном счете, именно философия постигает Абсолютное наиболее адекватным Его природе образом – через мышление. Однако тем самым и сама философия приобретает религиозное измерение: «Философия сама есть так же богослужение, религия, ибо она, по существу, не что иное, как тот же отказ от субъективных домыслов и мнений в своем занятии Богом»[63]63
Гегель Г. В.Ф. Философия религии. Т. 1. С. 220.
[Закрыть].
С этой точки зрения противоположность и даже враждебность философии и религии – не более чем подлежащий снятию момент в истории их взаимоотношений, когда философия выступает в виде рассудочной конечной рефлексии, а религия в форме «бессодержательной набожности». Истина же их взаимоотношения состоит, согласно Гегелю, в единстве их содержания при различии форм его постижения[64]64
Гегель Г. В.Ф. Философия духа. М., 1956. С. 354–355.
[Закрыть].
Идеи Гегеля были с энтузиазмом восприняты в России начиная с 30-х гг. XIX в.[65]65
Подробнее см.: Чижевский Д. Гегель в России. СПб., 2007.
[Закрыть] Не подлежит сомнению, что его понимание философии религии – как в отношении ее статуса, так и содержательно – оказало сильное воздействие на русских мыслителей. Некоторые из них (славянофилы, Вл. Соловьев), с одной стороны, активно использовали диалектическую методологию немецкого философа, с другой – вслед за Шеллингом столь же активно критиковали его чрезмерный или «отвлеченный», с их точки зрения, рационализм.
Вместе с тем, русское гегельянство в лице П. А. Бакунина, Б. Н. Чичерина и др. становится весьма значительным направлением русской метафизической мысли. Параллельно этому другая часть русских мыслителей – М. А. Бакунин, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин, В. Г. Белинский – приняла активное участие в становлении движения младогегельянцев. Решающим моментом их духовного развития стало (так же как и для Маркса и Энгельса, например) восприятие «Сущности христианства» Л. Фейербаха, которое предопределило и их общий теоретический взгляд на религию как на преходящую и иллюзорную форму общественного сознания, и их личное крайне негативное отношение к ней[66]66
См.: Булгаков С.Н. Душевная драма Герцена // Соч.: В 2 т. Т. 2: Избр. статьи. М., 1993. С. 95–130, здесь, с. 98. Ср.: Герцен А.И. Былое и думы // Соч. Т. 5. М., 1956. С. 24.
[Закрыть]. На этой основе возникает русский атеизм, который и как определенная религиозно-метафизическая позиция, и как своеобразная философия религии, на протяжении долгого времени был главным оппонентом религиозной метафизики.
Следует, по-видимому, согласиться с С. Н. Булгаковым, увидевшим именно в Л. Фейербахе основной исток и позитивистской, и марксистской, и ницшеанской концепции религии[67]67
Булгаков С.Н. Религия человекобожества у Л. Фейербаха // Булгаков С.Н. Два града. СПб., 1997. С. 15–50.
[Закрыть]. Очевидно, что именно полемика с ними и с их русскими производными играла определяющую роль в становлении метафизической антиредукционистской философии религии в России на протяжении всего рассматриваемого в настоящей работе периода. Потребность вывести христианство из-под огня атеистической критики была важным стимулом в предпринятом здесь переосмыслении основных религиозных понятий и представлений. Выше уже указывалось, что русским философам удалось создать своего рода «возвратный механизм», превращающий обсуждение критических аргументов в адрес христианства и религии вообще в мощное средство укрепления религиозной традиции. В то же время отметим, что одним из последствий этой борьбы стало возникновение более рафинированных форм атеистического сознания, оказавших значительное влияние на западную философию. В дальнейшем этот процесс будет рассмотрен более подробно.
Вышесказанное не следует воспринимать как указание на вторичность русской мысли в философии вообще и в философии религии в частности. Речь идет о том, чтобы указать место, занимаемое ею в общем процессе становления философии религии. Прежде всего мне хотелось указать здесь на те общие идеи, более или менее активное восприятие и оригинальное развитие которых осуществлялось в русской метафизике XIX–XX вв. как вполне самостоятельной интеллектуальной традиции, решавшей свои собственные задачи и обладавшей собственной логикой становления.
Философия религии в русской мысли середины XIX века
Историческое рассмотрение проблем философии религии в русской мысли уместно начинать примерно с конца 20-х – начала 30-х гг. XIX в., поскольку именно с этого времени русская философия представляет собой целостный поток мысли, определенный целым рядом специфических внутренних закономерностей, диалектических переходов от одного его момента или этапа к другому. Именно в это время в шеллингианских и гегельянских кружках и в деятельности таких отдельных выдающихся личностей, как прот. Ф. Голубинский и П. Я. Чаадаев, философия обретает статус самостоятельной, претендующей на господство (или, по крайней мере, особое место) в культуре формы человеческого существования.
Разумеется, вопросы философии религии обсуждались русскими философами и раньше[68]68
См.: Шахнович М.М. История отечественного религиоведения: XVIII век // Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006. С. 24–72.
[Закрыть]. Это касается прежде всего М. В. Ломоносова, Г. С. Сковороды, мартинистов эпохи Екатерины II (И. В. Лопухин, Н. И. Новиков, И. Г. Шварц), представителей мистического направления эпохи Александра I (А. Ф. Лабзин, М. М. Сперанский), а также представителей русского Просвещения, и мыслящих литераторов типа Г. Р. Державина (ода «Бог») или Н. М. Карамзина. Нельзя не отметить и творчество таких церковных мыслителей, как св. Тихон Задонский, прп. Паисий Величковский, митр. Платон (Левшин) и др. Однако, несмотря на то что все они занимали (и вполне осознанно) определенную религиозную позицию и так или иначе рассматривали, исходя из этой позиции, отдельные вопросы и проблемы, попыток последовательно отрефлектировать свою точку зрения, доведя ее до предельных онтологических и гносеологических оснований, мы у них (за исключением лишь Г. С. Сковороды, впервые сознательно «замыслившего умом и пожелавшего волею быть Сократом на Руси»)[69]69
См. об этом: Марченко О.В. Григорий Сковорода и русская философская мысль XIX–XX веков: Исследования и материалы. М., 2007. С. 18; Зеньковский. История русской философии. Л., 1990. Т. I. Ч. 1. С. 65. В своем членении философской системы Сковороды О. В. Марченко не выделяет философию религии в отдельный пункт, однако соответствующая проблематика легко просматривается в каждом из выделенных аспектов (см.: Марченко. Указ. соч. С. 30–31).
[Закрыть] не найдем. Только институциализация философии как особой духовной сферы – результат целого ряда сложных процессов, происходивших в русской культуре XVIII–XIX вв., – и рецепция немецкой классики (активно положительная в кружках Веневитинова, Станкевича и Герцена и скорее критическая у П. Я. Чаадаева и прот. Ф. Голубинского) позволили достичь принципиально нового уровня освоения и концептуальной разработки философской проблематики вообще и философии религии в частности.
В своем возникновении и бытовании русская философия была очень тесно связана не только с религией, но и с литературой. В 20–30-е, а так же в 40–50-е гг. XIX в. философский процесс в значительной мере можно рассматривать как только еще начинающий обособляться аспект процесса литературного. Более того, сама постановка религиозной проблемы для русских мыслителей того времени была во многом обусловлена необходимостью обоснования свободы и ценности собственного литературного творчества и их неудовлетворенностью теми возможностями такого обоснования, которые предоставляла им секуляризованная мысль Просвещения и романтизма. Отсюда – сложное положение русской мысли, определяющее многообразие формирующих ее творческих позиций. Приняв активное участие в пересмотре и преодолении основных предпосылок и установок эпохи Просвещения и секуляризованной культуры Нового времени вообще, русские мыслители вместе с тем, как правило, остро ощущали невозможность полного отказа от достижений этой культуры, невозможность провозглашения ее полностью отрицательной ценностью.
Обладая острой чувствительностью к основной ценности этой эпохи – ценности культуры, как таковой, – они свою творческую позицию выстраивали по возможности так, чтобы обеспечить максимально мирное сосуществование и взаимосогласованность обеих, что требовало от них религиозного обоснования культуры, с одной стороны, и оправдания религии перед лицом культуры – с другой. Это в свою очередь вело к постановке основных проблем философии религии и культуры. Большей или меньшей степенью успешности в реализации этой программы и определяется далее и религиозная позиция того или иного мыслителя, и его место в философском процессе и, в особенности, его философия религии.
Так, полная неудача данного замысла вела либо к религиозному обскурантизму в духе Аскоченского, либо к (философски, как правило, более продуктивному) атеизму в духе Герцена и Бакунина; усмотрение проблематичности именно православного обоснования культуры имело следствием становление религиозного западничества, наиболее значительным представителем которого был, конечно, П. Я. Чаадаев; преодоление и переосмысление представленных западниками критических аргументов вело к становлению славянофильства – наиболее значительного, на мой взгляд, философского направления рассматриваемого периода. Особняком стоит здесь, наконец, философия духовных академий, развивавшаяся на собственно теологической почве и озабоченная прежде всего, по выражению о. В. Зеньковского, «построением системы христианской философии, исходящей целиком из основ христианства, но совершенно свободной в построении системы»[70]70
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 72.
[Закрыть].
Ниже будет представлено рассмотрение философии религии религиозных мыслителей западнической (П. Я. Чаадаев) и славянофильской (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков) ориентаций, П. Д. Юркевича как представителя духовно-академической школы философии, оказавшего в то же время значительное влияние и за ее пределами (в частности, на Вл. Соловьева), М. А. Бакунина как наиболее яркого представителя атеистического направления.
П. Я. ЧаадаевПри рассмотрении философии религии Чаадаева я буду опираться главным образом на текст «Философических писем», где необходимо корректируя изложение отрывками и данными переписки[71]71
К сожалению, исследователей до сих пор зачастую больше привлекает публицистический запал первого философического письма (одни рассматривают его с точки зрения патриотической, другие – с гражданско-правовой), чем философское содержание последующих. Сюда же относится и диссертация: Каштанова Н.А. Мировоззрение П. Я. Чаадаева: историко-философское содержание и динамика: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. Екатеринбург, 2005. Ряд аспектов философии религии Чаадаева рассматривался в свое время в работах: Гершензон М.О. П. Я. Чаадаев. М., 1908; Зеньковский. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. С. 161–184; Тарасов Б.Н. П. Я. Чаадаев. М., 1990; Он же. Неуслышанный Чаадаев. Непрочитанный Достоевский. М., 1996; Смирнова З.Н. Проблема разума в философской концепции Чаадаева // Вопросы философии. 1998. № 11. С. 91–101.
[Закрыть].
Прежде всего следует отметить, что Чаадаев специально обосновывает необходимость философского рассмотрения религиозной проблематики, указывая на недостаточность и даже некоторую принципиальную ущербность чисто богословского ее рассмотрения. Так в письме княгине Мещерской он пишет: «Я, благодарение Богу, не богослов, не законник, а просто христианский философ…» Путь богослова и законника – путь через букву Писания, через текст. Этот путь «наиболее извилистый и наиболее длинный». Текст, по Чаадаеву, – «прибежище религиозной гордыни». В противоположность этому путь философа – «это путь хорошо дисциплинированного разума, руководимого ясной верою и свободного от всякого корыстного чувства»[72]72
Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 135.
[Закрыть]. Философ отличается от богослова тем, что ставит вопросы беспредпосылочно, по существу, свободно от всякой конфессионально-политической ангажированности, вместо того чтобы закапываться в ненужных мелочах и начетничестве[73]73
Подобная конфронтация с богословием была характерна для русской философии XIX–XX вв., в том числе и для религиозного ее направления. С жесткой критикой современного им богословия выступали И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, о. П. Флоренский, М. А. Новоселов, Н. А. Бердяев и др. С большой долей скептицизма относился к самой возможности наукообразного богословия С. Л. Франк. Эта критика оказалась потенциально продуктивной для самого богословия: она привела о. Г. Флоровского и других русских богословов XX в. к разработке концепций «западного пленения» православного богословия и «неопатристического синтеза». Особенность Чаадаева состоит в тотальности его отрицания – возможности богословия иного стиля, чем существующее, он в принципе не видит.
[Закрыть]. Ошибка нефилософов, с его точки зрения, состоит в том, что они полагают, «что вера и разум не имеют между собою ничего общего». Этот взгляд, по Чаадаеву, противоречит и Писанию, и преданию и восходит к XVIII в., установившему раскол между религией и наукой. Задача религиозной философии – центрального, с его точки зрения, философского проекта XIX в. – преодоление этого раскола[74]74
См. его письма к Шеллингу и кн. Мещерской: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. М., 1991. С. 75–78, 134–137. З. Н. Смирнова справедливо предлагает рассматривать эти идеи Чаадаева в контексте «религиозного ренессанса к. XVIII – нач. XIX века», аналогичного более известному ренессансу начала XX в., в частности, в контексте идей французских традиционалистов (Смирнова. Проблема разума… С. 99). В то же время не следует забывать, что, как свидетельствуют указанные письма, Чаадаев в 1820-е гг. именно Шеллинга рассматривал как центральную фигуру всего этого движения.
[Закрыть]. С этой целью она должна установить основные антропологические, онтологические и гносеологические условия возможности и необходимости религиозной традиции и откровения, т. е. стать именно философией религии. Таково, в общих чертах, самопонимание Чаадаева, его замысел. Этим замыслом закладывается основа и религиозной философии как некоторого направления и стиля философского мышления, и философии религии как философской дисциплины, разработка которой является необходимым и существенным моментом в становлении и самообосновании этого направления.
Но обратимся к основным моментам реализации указанного замысла. Самое общее определение религии, по Чаадаеву, есть то, что она суть традиция, т. е. передача из поколения в поколение «первоначальных наставлений, преподанных человеку самим Создателем в тот день, когда Он его творил Своими руками»[75]75
Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 353, (ср. с. 384).
[Закрыть]. В основе религиозной традиции лежит, таким образом, откровение, причем это первоначальное откровение Чаадаев отличает от исторических откровений Ветхого и Нового Заветов[76]76
Там же. С. 352.
[Закрыть].
Это откровение не просто постулируется Чаадаевым как некоторый факт. Значительная часть текста «Философических писем» посвящена обоснованию необходимости его признания. Жизнь нашего сознания складывается, по Чаадаеву, из взаимодействия двух сил: нашей собственной свободы, свободной деятельности по осознанию идей, которую мы сознаем ясно, и некоей смутно, но также с необходимостью сознаваемой внешней силы, дающей толчок нашей собственной деятельности и с необходимостью ей предшествующей. Однако обыденное сознание отдает себе отчет только в первой. Будучи реально включенным в жизнь и многообразные связи мирового сознания, оно «проникнуто своей собственной обособляющей идеей, личным началом, разобщающим его от всего окружающего и затуманивающим в его глазах все предметы»[77]77
Там же. С. 361. Здесь уместно вспомнить Гераклита.
[Закрыть]. В результате, как обыденный, так и философский разум неизбежно «заключен в некий роковой круг»: «…он сначала предписывает сам себе закон, а затем начинает ему подчиняться»[78]78
Там же. С. 379.
[Закрыть], сознавая (на вершинах философской мысли) свою недостаточность, он пытается перестроить себя по некоему идеальному образцу, однако этот образец он вынужден искать в самом себе. К тому же, присущее разуму сознание свободы позволяет ему ставить под сомнение или отвергать любой подобный закон или образец. Но это именно и значит, что разум не может дать закона самому себе[79]79
Чаадаев. Указ. соч. 350–351, 377.
[Закрыть]. Тем самым устанавливается необходимость толчка, который извлекает его из этого круга. Этот толчок может приходить только извне, т. е. быть откровением.
Проблема заключается в том, что философский разум, подобно обыденному, редко доходит до признания этой необходимости, до осознания своей принципиальной оторванности и искаженности, иными словами, до идеи первородного греха. К этому сознанию он приходит только в результате некоторого опыта, размыкающего его отдельность и приобщающего к новой всеобъемлющей реальности, к «мощи чистого разума в его изначальной связи с остальным миром»[80]80
Там же. С. 361.
[Закрыть]. В этом опыте ценой совершенной подчиненности, отказа от своей воли, размыкаются границы пространства и времени, преодолевается эгоистическое обособление от других, осуществляется «конечное предназначение духа в мире»[81]81
Там же. С. 363.
[Закрыть]. Тем самым понятие откровения у Чаадаева оказывается двойственным: это не только сообщение Богом человеку некоторых истин. Само восприятие этого сообщения как откровения оказывается возможным лишь благодаря опыту размыкания замкнутости, восприятия иной реальности и переживания иной формы жизни сознания. Именно это приводит Чаадаева к мысли, о которой уже было сказано выше: к мысли об откровении как первоначальном факте человеческого существования вообще.
Это первоначальное откровение в жизни сознания играет роль, аналогичную роли первотолчка в жизни физической Вселенной. В нем Бог передает человеку определенный набор идей, «сообщающих разуму свойственное ему движение»[82]82
Там же. С. 389.
[Закрыть]. В дальнейшем эти идеи выступают в роли своеобразного a priori, делающего возможным всякое познание и всякое общение, обусловливающих вообще возможность жизни сознания. Своеобразие этого a priori заключается в его социальном характере: оно не есть природная принадлежность отдельного индивидуального сознания, но передается ему разнообразными путями в процессе социализации, которая оказывается тем самым и личным откровением Бога, обращенным к каждому человеку: «Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных»[83]83
Там же. С. 385.
[Закрыть].
Работа философии в этом направлении состоит в том, чтобы усматривать и описывать многообразные пути, связующие индивидуальное сознание одного человека в неразрывное единство с сознаниями других людей. Этот мир соприкасающихся сознаний образует своего рода единую атмосферу, которую Чаадаев называет «мировым сознанием». Знания, культурные умения и навыки, ценности, убеждения, идеи распространяются в нем весьма многообразными и часто таинственными путями, порой напоминающими известный физический опыт с передачей движения по шарикам. Эта передача осуществляется через науку, историю, философию, но также и незаметным образом через бесчисленное множество элементарных бытовых традиций: «…их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца»[84]84
Чаадаев. Указ. соч. С. 383.
[Закрыть]. Той же цели служат и собственно религиозные традиции с их символами, образами, культом, специфической организацией образа жизни, аскетическими и экстатическими практиками. Словесное общение есть наверное самый широкий из этих путей, но далеко не единственный[85]85
Там же. 381–383.
[Закрыть]. Тем самым вскрывается историческое измерение сознания: эти пути суть вместе с тем пути распространения идей и мыслей, движущих человеческой историей.
Итак, в основе истории лежат события религиозного порядка (первоначальное откровение, грехопадение, пришествие Спасителя), а ход истории определяется взаимодействием передающихся в традициях религиозных идей. В ее начале мы видим существенную двойственность, определяющую и двойственность всего процесса. С одной стороны, поступательное движение истории задается «традицией первоначальных внушений Бога»[86]86
Там же. С. 391.
[Закрыть], осуществляющейся в истории Израиля и главным образом в истории Церкви. Христианская культура торжествует в мире именно потому, что ею руководят «интересы мысли и души»[87]87
Там же. С. 409.
[Закрыть]. С другой стороны, этот процесс тормозится противоположной культурной силой, «антитрадицией», охватившей весь языческий мир. Здесь «вся умственная работа, как бы она ни была замечательна… служила и служит одной лишь телесной природе человека»[88]88
Там же. С. 408.
[Закрыть].
Однако победа христианской культуры не вызывает у Чаадаева никаких сомнений. Следующим шагом истории должно стать осознание не только нравственного, но и философского значения христианства, преодоление протестантского (и, как мы видели, богословского вообще) буквализма в понимании Писания. Это освобождение и самоосознание христианского разума должно вести к преобразованию не только мышления, но и всего строя человеческого существования. Через раскрытую свыше идею «совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу… осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль Самого Бога». Так наступает «последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез»[89]89
Чаадаев. Указ. соч. С. 440.
[Закрыть]. Чаадаев не употребляет здесь слово «Богочеловечество», однако его представление о конце истории практически совпадает с представлением Соловьева. Завершение истории мыслится здесь как установление совершенной религии, и этой религией оказывается философски осмысленное христианство.
Следует обратить внимание на распространенность этого представления в русской мысли и XIX и XX вв. Как у Н. Ф. Федорова, Вл. Соловьева, кн. С. Н. Трубецкого (следует особо отметить, что творчество Чаадаева в его целом оставалось им, по-видимому, неизвестным), так и далее мы обнаружим в той или иной форме идею конца истории не как катастрофы, но как логического завершения исторического процесса, установления «царства Божия на земле». Не вдаваясь в догматическую или философскую критику этого представления (к тому же разные мыслители предлагают разную его интерпретацию), отметим лишь, что такая распространенность свидетельствует о наличии существенной интеллектуальной и духовной потребности, которой оно, по-видимому, отвечало.
Таким образом, П. Я. Чаадаев впервые намечает целый ряд идей и подходов, ставших впоследствии для русской философии религии весьма характерными. Он занимает весьма критическую позицию по отношению к академическому богословию. У Чаадаева философия религии рассматривает религиозное отношение не только в плане сущего, но и в плане должного. Предлагая религиозное и телеологическое понимание истории, он вместе с тем намечает и определенную логику и телеологию истории религии. Существенно также, что он предлагает весьма своеобразную интерпретацию таких основополагающих для русской философии религии понятий, как религиозная традиция и откровение. В сложном взаимодействии с мыслью Чаадаева происходило становление философии религии славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского и А. С. Хомякова.