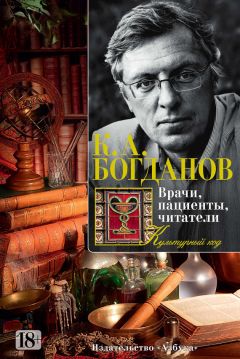
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Душа не тело: последние известия
Живой человек состоит из тела и души.
И. Я. Пленк. Естественная наука о действиях человеческого тела, 1789
В 1786 г. двадцатилетний Николай Карамзин решается обратиться с письмом к Иоганну Каспару Лафатеру, уже прославленному к тому времени автору «Физиогномических фрагментов» (1775–1778) и философско-педагогических сочинений, с вопросом, «на который, может быть, уже тысячу раз отвечали», но все ответы на который его «не удовлетворяют»: «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они совершенно из различных стихий? Не служило ли связующим между ними звеном еще третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного вещества в другое?» [Карамзин – Лафатер 1893: 16]. Лафатер ответил юному адресату, но не разрешил его сомнений. «Если бы мне, мой милый Карамзин, какое-нибудь существо под луной могло сказать, что́ такое тело само по себе и что́ такое душа сама по себе, то я бы вам тотчас объяснил, каким способом тело и душа действуют друг на друга, в какой взаимной связи они находятся, соприкасаются ли они посредственно или непосредственно? Я думаю, однако, что нам придется еще несколько времени подождать этого просвещенного существа. <…> Не смейтесь над моим неведением, мой милый! Мы не знаем, что́ мы и как существуем; знаем только, что существуем, верим, что существовали, надеемся, что будем существовать. Чтобы увереннее, радостнее и живее сознавать свое бытие, да помогут нам истина, добродетель и религия!» [Карамзин – Лафатер 1893: 23, 24].
Вопрос Карамзина и ответ на него Лафатера показательны для интеллектуальной атмосферы европейского Просвещения. Взаимоотношение телесного и духовного, физического и психического риторизуется в качестве важнейшей проблемы в философских и научных дискуссиях эпохи. Для современников Лафатера и Карамзина «сотрудничество» медицины и литературы в контексте этих дискуссий было само собой разумеющимся. Наука дает ключ к тайнам природы, медицина – к тайнам тела, поэзия – к тайнам человеческой души. Вопрос в том, какова корреляция между телом и душой, чувствами и миром. «Доказательно ли заключение, – как вопрошает Ж. Л. Даламбер в русском переводе 1790 г., – от чувствий выводимое до бытия предметов?» [Д’Аламбер 1790: 1]. Терминология «чувств» и особенно концептуализация самого понятия «чувствительность» (лат. sensibilitas, фр. sensibilitе́) становится при этом своеобразным паролем, объединившим науку и салон, термином, равно переводимым на язык медицины, философии и литературы [Vila 1998: 13, passim][126]126
См. также: [Stäfford 1991: 401–463].
[Закрыть]. В русскоязычном употреблении понятие «чувствительность» истолковывается в значении способности человека воспринимать объективную действительность и вместе с тем в значении сострадательности, доброты и кротости, находя синонимические параллели в словах «чувственность», «чувство», «чувствование» и «чувствие». Строгого семантического различия между этими словами не будет вплоть до середины XIX в. [Копорский 1955: 22; Веселитский 1964: 151–154][127]127
См. также: [Кожевников 1897].
[Закрыть]; не будет его также между собственно научным (в частности, медицинским) и литературным дискурсом.
Издавая в 1772 г. «Опыт исторического словаря российских писателей», Н. И. Новиков на равных правах включает в него авторов литературных и медицинских сочинений (Иосифа Тимковского, опубликовавшего в Лейдене на латинском языке «Рассуждение о неизлечимых болезнях», Стефана Фиялковского, издавшего в том же Лейдене «Сочинение о порядке учения во врачебной науке», Фому Тихорского – за изданное там же «Рассуждение о врачебной науке», Савву Леонтовича, составившего руководство в наставление повивальным бабкам, Матвея Крутеня, автора «Примечаний о болезнях, в армии случающихся» и др.). Научная и научно-популярная литература по медицине этого времени практически не разграничивается, и даже, казалось бы, вполне специальные исследования читаются не только специалистами [Громбах 1953: 96]. В характерном отзыве на издание русского перевода книги И. Гаубия «Начальные основания врачебной пафологии» (СПб., 1792) отмечалось, что она «не для одних только врачей нужна, но <…> общеполезна для всякого звания любителей, желающих вникнуть в преудивительное устроение телесного здания» [Московские ведомости 1792: 359]. Популярнейший «Письмовник» Николая Курганова, выдержавший с 1769 по 1793 г. пять изданий, предлагая читателю «Науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия», неизменно уделяет место «Описи состава человечья и прочих животных» – количеству «жидких и твердых частей», организующих телесную конституцию, роли физиологических отправлений, процессу развития зародыша, возрастным изменениям [Курганов 1793: Ч. 2, 197–204]. В ряду художественных, исторических и философских текстов журналы екатерининского времени регулярно публикуют научно-медицинские известия. Статьи об анатомии и нервной системе помещаются в первом русском журнале для детей «Детское чтение для сердца и разума» [Рассуждение об анатомии 1789: 134–141; О нервной системе 1789: 193–196][128]128
Первая статья переведена из «Spectator», вторая – из «The Universal Magazine» [Левин 1967: 94]. Издателем журнала был Н. И. Новиков.
[Закрыть] и провинциальных изданиях (например, «Новое анатомическое описание тела человеческого, с системою чувствований наших от нервов и нервенных соков», напечатанное в 1791 г. в Тобольске на страницах первого сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену») [Иртыш 1791: 40–43][129]129
В сменившем в 1793 г. «Иртыш» журнале «Библиотека ученая, економическая, нравоучительная и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей» за два последующих года, по подсчетам С. М. Громбаха, было напечатано больше 60 медицинских статей и заметок [Громбах 1953: 165]. Издатель «Иртыша» и «Библиотеки ученой» П. П. Сумароков (родственник драматурга А. П. Сумарокова) впоследствии (в 1804–1805 гг.) редактировал «Вестник Европы».
[Закрыть]. Язык науки не воспринимается в этом контексте ни как обособленный от языка философии и религии, ни как обособленный от языка поэзии[130]130
[Jones 1966; Soupel 1982: 27–33; Foot 1991: 81–104]. Характерно название медицинской диссертации Шиллера: «О связи между физической и духовной природой человека» (1780). Рассуждая о физиологии и анатомии, Шиллер обильно цитирует Шекспира, Герстенберга и, более того, стихотворные отрывки из собственных «Разбойников» [Dewhurst 1978: 50]. В. Вордсворт в предисловии ко второму изданию «Лирических баллад» (1800), сравнивая «знание Поэта» и «знание Человека Науки», заключает, что научное знание тогда будет вести к истине, когда оно обогатится поэтическим проникновением в телеологию духовной сущности человека [Wordsworth, Coleridge 1969: 168]. См. также: [Wiesling 1995; Käser 1998].
[Закрыть]. Научная логика и суггестивная убедительность литературы – таковы риторические средства, обеспечивающие жизнеспособность научного дискурса конца XVIII – начала XIX в.
Важнейшие темы, определяющие «горизонт читательских ожиданий» просвещенных россиян конца XVIII в., – связь души и тела, смерть и бессмертие. Убеждение в бессмертии гарантируется религиозной традицией и при этом находит свою поддержку на языке философии и науки. Профессор Московского университета Д. С. Аничков издает «Слово о невещественности души человеческой и из оной происходящем ея бессмертии» (М., 1777), А. Фрязиновский – перевод трактата И.-Э. Швеллинга «Бессмертие души основательно против безбожников и скептиков доказанное» (СПб., 1779), В. Т. Золотницкий публикует сочинение «Доказательство бессмертия души человеческой, взятое от намерения Божия, с каким он изволил создать мир сей, и из врожденных человеку совершенств и способностей» (СПб., 1787), священник И. М. Кандорский (диакон Иван Михайлов) – книгу «Наука о душе, или Ясное изображение ее совершенств, способностей и бессмертия» (М., 1789). О бессмертии печатно рассуждают философ-естествоиспытатель М. В. Данилов [Данилов 1783], литератор В. А. Левшин [Письмо 1788], архиепископ (с 1787 г. – митрополит) Платон [Платон 1779: 39–46; Платон 1778: 354–355], поэты В. А. Майков («Ода преосвященному Платону <…> о бессмертии души в рассуждении бесконечных наших желаний», 1778)[131]131
Текст оды: Русская литература. Век XVIII: Лирика. М., 1990. С. 232–234. См. также: [Кукушкина 1999: 177–184].
[Закрыть] и Г. Р. Державин («Бессмертие души», 1785–1796. Две начальные строфы этого стихотворения В. И. Панаев читал в масонской ложе при произнесении собственного «Слова о бессмертии души»[132]132
Сочинение Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1866. Т. 3. С. 657. А. Левицкий отмечает, что все четыре книги лирических «Сочинений» Державина, выходивших под наблюдением самого поэта, завершаются стихотворением на тему бессмертия. Таковы «Памятник», «Лебедь», «Венец бессмертия» и «Ода к Полигимнии» [Левицкий 1999: 263, примеч. 9].
[Закрыть]). Рассуждениями на тему бессмертия заполнена интеллектуальная периодика того же времени. Так, например, на страницах только одного журнала «Вечерняя заря» в 1782 г. русскоязычный читатель встречал пространно-компилятивное «Рассуждение о бессмертии души», «Философическое рассуждение о душе», «Философическое рассуждение о Троице в человеке, или Опыт доказательства, почерпнутого из разума и Откровения, что человек состоит 1) из тела, 2) души и 3) духа», «Рассуждение о соединении души с телом и о действии сего соединения», «Египетское учение: что душа, будучи погружена в чувственном, не старается о мысленном; когда же возвысится к мысленному, тогда презирает чувственное». Научными ориентирами авторам и переводчикам этих текстов служат упоминаемые здесь же «труды Реймаровы, Миллеровы, Боннетовы, Бюффоновы, Барониевы», а в рассмотрении заявленных тем от читателя не утаивается разноголосица исследовательских мнений и научной полемики – «тот лабиринт, в котором столь многие совратились слишком либо в правую, либо в левую сторону и, так сказать, самих себя потеряли. Некоторые почитали душу вещественною, а другие невещественною. Иные утверждали, что она есть смертна и тленна, а другие, что она бессмертна и нетленна» [Философические рассуждения 1782: 282]. Примечательно, что в поиске выхода из подобного «лабиринта» предлагается примирение «разнодисциплинарных» позиций, – сегодня такой метод был бы, вероятно, назван интегративным: «Как сии вопросы и споры при раздроблении их открывают в науке о душе новый вид, так оные ж, встречаясь в естественном любомудрии (in Physica), в науке врачебной (Medicina) и богословии равное в них производят. Мы видим, например, что душа, будучи существо чистейшее, простейшее и телесное, есть как бы средство или орудие, чрез которое духовный мир соединяется с телесным; также видим, как дух, посредством оной, может действовать на тело, и тело посредством души действовать на дух, и так далее» [Философические рассуждения 1782: 283]. Тезис о «простоте» души остается весомым аргументом в философской, научной и религиозной полемике конца XVIII и начала XIX в. В популярном «Словаре натурального волшебства» (1795) это – основной довод в обоснование ее бессмертия: «душа есть существо простое, дух бессмертный». Что же касается того, как «душа на тело действует <…> доказательством вывести не можно; ибо каждому мнению остается отвалить с пути своего великий камень, оный заграждающий» [Словарь натурального волшебства 1795: 250][133]133
Переводчиком этого словаря был, вероятно, В. А. Левшин [Громбах 1953: 115].
[Закрыть].
Сегодня можно счесть парадоксальным, что общественное сознание адаптировало медицинские идеи в обсессивном интересе к богословским по своему существу проблемам, но парадокса в этом, конечно, нет: медицинская наука всегда так или иначе претендовала на то, что находилось в ведении религиозного контроля [Porter 1993: 1449–1465]. Взаимосвязь религиозных и медицинских претензий осознавалась при этом тем острее (гораздо острее, чем это имеет место в современной культуре), что объектом таких претензий были одни и те же люди. Эти люди составляли церковную паству, а в случае болезни становились пациентами врача. Врач и священник встречались у постели больного, и они же (по крайней мере – теоретически) были последними свидетелями его кончины. Само слово «врач», изначально церковнославянское, в конце XVIII в., хотя уже и подверглось определенной секуляризации, еще не было лишено религиозных коннотаций: «врачеванию», так же как и «(ис)целению», вверялось не только тело, но и душа, «болящий» врачевался лекарственными снадобьями, но также словесным увещеванием и молитвой[134]134
См. стандартную характеристику социальных ролей Церкви и медицины в описании деятельности Императорского человеколюбивого общества: «Общество состоит из множества членов, которые все имеют целью вспомоществование несчастным. <…> Члены этого общества, в числе которых много медиков и священников, врачуют тело и душу человечества» [Бурьянов 1837: 375].
[Закрыть]. Исполнение религиозных предписаний находит одобрение и в собственно медицинском отношении: например – в диетологическом «Слове о постах, как средстве предохранительном от болезней» доктора П. Д. Вениаминова, произнесенном в 1769 г. в публичном собрании Московского университета и тогда же изданном отдельной брошюрой [Вениаминов 1769]. В целом контроль за физическим здоровьем естественным образом сопутствовал практикам религиозного контроля – и врач, и священник, при всем различии между ними, пеклись о физическом и душевном здоровье, а значит, и о будущем тех, кто им был вверен властью и законом[135]135
Современные социокультурные исследования в области медицинской социологии (или в ее американском названии – Sociology of Health and Illness) демонстрируют, что психологическое «взаимоналожение» функций врача, священника, а также функций мага-чудотворца и родителя является одним из наиболее стойких – едва ли не бессознательных – эмоциональных комплексов, определяющих взаимоотношения врачей и их пациентов. См., напр.: [Katz 1984: 40; Maseide 1991: 555; Lupton 1994: 106]. Дальше других в сравнении социальных ролей врача и священника заходит Ричард Зельцер, усматривая даже в хирургической операции сходство с церковной мессой: в обоих случаях имеется плоть и кровь, болезнь изгоняется подобно греху и т. п. [Selzer 1976].
[Закрыть].
«Дублирование» социальных функций врача и священника поддерживалось в России еще одним важным обстоятельством. Начиная с петровского времени врачами регулярно становились выходцы из священнического сословия. Первые русские медицинские школы вербовали студентов из учащихся семинарий и студентов духовных академий, где преподавался необходимый для изучения медицины латинский язык [Смирнов 1855: 239–241; Луппов 1973: 23]. В середине XVIII в. основным таким заведением была Киево-Могилянская академия, воспитанники которой отпускались «в медико-хирургическую науку» «как по письменным приглашениям Медицинской коллегии», так и «по собственному желанию» (по доношению киевского митрополита в Екатерининскую комиссию по Уложению, к 1754 г. таких студентов было более трехсот) [Бочкарев 1917: 465–466][136]136
См. также: [Чистович 1883: 288–291, 327–333].
[Закрыть]. Из духовного звания вышли первые отечественные ученые-медики, добившиеся европейской известности: академик Н. Я. Озерецковский, профессор С. Г. Зыбелин, врачи-эпидемиологи Н. М. Максимович-Амбодик, Д. С. Самойлович, М. Н. Тереховский, анатомы А. М. Шумлянский и О. Я. Саполович [Громбах 1953]. Именным указом Павла I от 28 августа 1797 г. духовные семинарии должны были ежегодно отпускать до 50 воспитанников в медицинские заведения. Прием в основанную при Павле (1798) Медико-хирургическую академию дозволялся риторам, философам и богословам духовных училищ по их собственному желанию. Святейший синод, по представлению Медицинской коллегии, предписывал училищному начальству увольнять таких желающих беспрепятственно, а Медицинское управление облегчало им экзамен в академию, заложив основы рекрутирования медиков из, как казалось властям, наиболее благонадежных в идеологическом отношении социальных слоев населения [Знаменский 1881: 597]. Стоит заметить, что и среди самих священнослужителей было немало интересовавшихся медициной и способствовавших популяризации медицинских знаний[137]137
Заметим, что первый известный перевод анатомического трактата – «Эпитоме» Везалия – на славянский язык был сделан для патриарха Никона. Этот (не сохранившийся до наших дней) перевод был выполнен в 1658 г. монахом Епифанием Славинецким и озаглавлен «Врачевска анатомия». О его завершении свидетельствует расходная запись в книге Патриаршего казенного приказа: «Киевленину старцу Епифанию, что в Чудовом монастыре живет, перевел на славянский язык государю патриарху дохтурскую книгу, в приказ 10 рублев дано сполна, те деньги по казначееву велению старцу Епифанию в Чудов монастырь отнес подьячий Иван Зерцалов» [Оборин 1959: 100]. Замысел издания другого анатомического атласа – неких таблиц, содержащих «все члены тела человеческого на медных дщицах для пользы и помощи всем люботщателем», – приписывается также Симеону Полоцкому [Звонарева 1988: 241]; В. Г. Брюсова считает, что атлас был издан [Брюсова 1977: 28–34].
[Закрыть]. В 1770-е гг. академик И. И. Лепехин, удостоверившийся на собственном опыте в ничтожном количестве профессиональных врачей на окраинах России, настаивал, что медицинское просвещение священников полезно уже потому, что «долго нам надобно ждать, чтобы в наших селах завелися лекаря, когда и в городах отдаленных мало их сыщешь». Сельский пастырь мог бы составить при этих обстоятельствах посильную замену врачу [Лепехин 1780: 41–42]. К началу XIX в. медицинское образование и в самом деле находит своих проповедников в провинциальных епархиях. Один из них – Костромской епископ Евгений, организовавший в 1803 г. при костромской семинарии особые классы для преподавания «первых начал врачебной науки» и усердно заботившийся о пополнении семинарской библиотеки сочинениями по медицине [Андронников 1874: 33][138]138
Среди книг, завещанных епископом Евгением (ум. в 1811 г.) Костромской семинарии: «Физиология» И. Ф. Блюменбаха (М., 1796), «Физиология» Ж. К. Вальмон де Бомара (СПб., 1787), «Медицинская практика» И. Ф. Рюбеля (М., 1789), «Фармакология» И. Г. Д. Еллизена (СПб., 1797) [Мартынов 1981: 123–124].
[Закрыть].
Самоубийство, поэтическая энтомология
Когда душа вещает телу: ты узы мои!
А. Н. Радищев. О человеке, его смертности и бессмертии, 1796
В конце XVIII в. убеждение о необходимости медицинского образования для объяснения человеческой природы репрезентируется дискурсом, не позволяющим решительно развести в нем научное от литературного, религиозное от философского. Выразительным примером такого «синкретизма» может служить трактат А. Н. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии» (1792–1796). На страницах сравнительно небольшой работы (сто страниц стандартного формата) автор упоминает или подразумевает десятки имен – Г. В. Лейбница, К. А. Гельвеция, П. А. Гольбаха, Ж. О. Ламетри, Д. Дидро, Ф.-М. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Пристли, И. Г. Гердера, Д. Локка, Т. Гоббса, Б. Спинозы, Ш. Л. Монтескьё, Адама Смита, Ж. Л. Л. Бюффона, К. Ф. Вольфа, П. Л. Мопертюи, Ж. Б. Робине, У. Гарвея и многих других – и демонстрирует осведомленность в важнейших для просветительской мысли философских, естественно-научных и медицинских теориях. Конструируя аргументы, призванные доказать человеческое бессмертие, Радищев далек от строгости в следовании определенной философской позиции. Начиная с первой публикации трактата (Собрание оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева. Части II–III. М., 1809) в литературе продолжаются споры, нужно ли считать Радищева материалистом или идеалистом, кто ближе Радищеву – Локк или Лейбниц, Гельвеций или Дидро?[139]139
По мнению Е. Боброва и В. А. Мякотина, Радищев – идеалист-лейбницианец [Бобров 1907: 206 и след.; Мякотин 1906: 215], по мнению П. Н. Милюкова и И. И. Лапшина, – монист и сенсуалист [Лапшин 1907: VIII]. Советские критики настаивали, разумеется, на «материализме» Радищева (напр.: [Макогоненко 1956: 510]. Аллен Макконнел видит определение философской позиции Радищева в скептицизме [McConnell 1964: 162], Таня Пэйдж – в компромиссе между утилитаризмом и христианством [Page 1979: 1–10].
[Закрыть] О философском эклектизме Радищева неодобрительно высказался уже Пушкин: «Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма»[140]140
Пушкин А. С. Александр Радищев (1836) [Пушкин 1937–1949: Т. 12]. Пушкин оценивал трактат Радищева негативно («умствования оного пошлы и не оживлены слогом»), а самого Радищева считал «истинным представителем полупросвещения» [Пушкин 1937–1949: 35, 36. Т. 12].
[Закрыть]. Пушкин проницателен, но исторически несправедлив. Аргументация Радищева действительно эклектична; но подобный эклектизм типичен и для того философского и научного контекста, на который ориентировались его современники[141]141
О философском эклектизме эпохи Просвещения как закономерной стратегии самостоятельного мышления, свободного от догматического авторитаризма, см.: [Holzhey 1977: 13 ff].
[Закрыть]. В конце XVIII в. такой контекст объединял и примирял взгляды, позднее разведенные историками философии по взаимоисключающим рубрикам. В своей аргументации Радищев последователен не с системно-философской, но с эпистемологической точки зрения – важно не то, чем противостоит сенсуализм Локка идеализму Лейбница, а то, что чувство и умозрение равно свидетельствуют о бессмертии человека. Доверие чувствам не препятствует виртуализации их возможностей («Что чувства наши, или, лучше сказать, что чувственность может быть изощреннее, то доказывали примеры чувств, из соразмерности своей болезнию выведенные; дай глазу быть микроскопом или телескопом, какие новые миры ему откроются!» [Радищев 1941: 139–141]), а доверие умозрению – не отвергает сенсуалистических примеров. Один из таких приводимых Радищевым примеров – наблюдение за превращением гусеницы в бабочку в качестве аналогии к посмертной трансформации человеческого духа [Радищев 1941: 137–138] – заслуживает специального комментария.
Само по себе сравнение бабочки, вылупляющейся из куколки, с человеческой душой, покидающей тело, в европейской культуре восходит к Античности и широко представлено в фольклоре [Siganos 1985: 68–87, 162–180]. Аристотель и, позже, Плутарх употребляют слова «бабочка» и «душа» (ψυχη) в качестве синонимов и объясняют явление метаморфозы (яйцо – личинка/гусеница – куколка – бабочка) в контексте, подразумевающем аналогию с посмертным превращением человеческой души (Hist. Anim. 551a.1, Moralia 2.636c). Для Эзопа эта аналогия послужит сюжетом басни о бабочке, похваляющейся своим «человеческим» прошлым (Aes. 199). Вероятно, ту же аналогию подразумевает мозаика из Помпеев с изображением бабочки на человеческом черепе [Bendel 1980: 10] и выражение Овидия о «похоронных бабочках» («ferali… papilione»: Met. 15, 37). В литературе Возрождения античная метафорика наделяется христианскими коннотациями (например, у Данте: Purgatorio, 10; 124–125), определившими «энтомологический символизм» последующих столетий [Ferber 1999: 37–38]. Наблюдение над явлением метаморфозы и образ бабочки-души буквализуют представление о «трансформативной» приуготовленности человека к вечности. Теологические ассоциации, связываемые с энтомологией, вчитываются также в научную практику – ярким примером на этот счет может служит творчество Марии Сибиллы Мериан (1647–1718), голландской натуралистки и художницы, автора замечательно иллюстрированных альбомов, посвященных превращению гусениц в бабочек[142]142
Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Amsterdam, 1705; Der rupsen begin, voedzel en wonderbaare veranderung. Amsterdam, 1713–1714. D. I–II. О жизни и творчестве Мериан: [Lendorf 1955].
[Закрыть]. Энтомологические увлечения и богословские убеждения Мериан, состоявшей в религиозно-пиетистской секте лабадистов (последователей лютеранского реформатора Жака Лабади), содержательно взаимосвязаны и объясняются, по мнению Дэвида Лэшмета, развитием принципиальной для лабадистов вероучительной идеи о префигурации, или «предосуществлении» (Адам Ветхого Завета – первый человек, «предосуществивший» появление Христа Спасителя в Новом Завете и тем самым «предосуществивший» будущее спасение человечества). Метаморфоза насекомых является с этой точки зрения не только удивительным природным феноменом, но и неоспоримым свидетельством тотального «предосуществления»: личинка умирает личинкой, но «предосуществляет» себя к жизни в образе бабочки – человек умирает человеком, но «предосуществляет» себя в будущем бессмертии[143]143
Заметим попутно, что теологические коннотации в истолковании метаморфозы насекомых остаются актуальными по сей день и особенно популярны в риторике неорелигиозных течений, см., напр.: [King 1996; Pearson 2002;].
[Закрыть]. Бо́льшая часть рисунков Мериан была, кстати сказать, куплена Петром I во время второго путешествия по Западной Европе и затем хранилась в собрании Библиотеки Академии наук[144]144
Об истории этой покупки: [Лебедева 1998: 318–334]. Современное издание рисунков Мериан, приобретенных Петром: [Merian 1974].
[Закрыть].
В философском контексте сравнение превращения гусеницы в бабочку с обретением душою бессмертия разовьет современник Мериан – Лейбниц (в «Размышлениях относительно учения о едином всеобщем духе», 1702) [Лейбниц 1908: 231]. В конце XVIII в. к тому же сравнению обратится И. Г. Гердер (в «Идеях к философии истории человечества», 1784–1791) [Herder 1989: 191–192]. Следует подчеркнуть, что сравнение человека и бабочки не было при этом только метафорическим. В середине XVIII в. учение о стадиальном сходстве в развитии человека и бабочки развивает один из крупных европейских физиологов, немецкий ученый И. Г. Редерер. Это учение приведет в восхищение учившегося в Гёттингене у Редерера Петра Аша – микроскописта и эмбриолога, ставшего позднее городским врачом в Москве [Соболь 1949: 248].
У кого бы Радищев ни заимствовал указанное сравнение, во время написания его трактата оно очевидно сохраняет не только риторико-поэтическую, но и научно-силлогистическую содержательность и даже напрашивается на соответствующую критику; так, например, анонимный автор статьи «Душа по смерти», опубликованной в 1785 г. в последнем номере журнала «Покоящийся трудолюбец», воздерживается «сказать что-нибудь решительное» о состоянии благочестивой души после телесной смерти: «как бы блаженна душа непосредственно после смерти ни была, но со всем тем было бы сие блаженство жизнь кукол в рассуждении жизни бабочки – единый сон и дремание в рассуждении бдения и жизни по воскресении» [Покоящийся трудолюбец 1785: 121–122]. В русской литературе образ бабочки – бессмертной души стал особенно знаменитым благодаря Г. Р. Державину, сделавшему его кульминационным в стихотворении «Бессмертие души» (1796), написанном в том же самом году, когда Радищев заканчивал работу над своим трактатом.
Как червь, оставя паутину
И в бабочке взяв новый вид,
В лазурну воздуха равнину
На крыльях блещущих летит,
В прекрасном веселясь убранстве,
С цветов садится на цветы;
Так и душа, в небес пространстве,
Не будешь ли бессмертна ты?
[Державин 1865: 10]
В издании стихотворений Державина 1797 г. «Бессмертие души» было проиллюстрировано вполне энтомологически – изображением бабочки, вылетевшей из куколки, и крылатого юноши, взлетающего к Богу[145]145
Воспроизведение рисунков см. в кн: [Державин 1865: 1, 11].
[Закрыть]. В 1802 г. скульптор М. И. Козловский создал надгробный памятник Е. А. Строгановой (жены президента Академии художеств) и ее умершей новорожденной дочери, украшая его золочеными бронзовыми бабочками, «порхающими» по белому мрамору вазы-курильницы, венчающей собою мемориал [Ермонская и др. 1978: 74][146]146
Тот же мотив составляет тему более раннего произведения скульптора «Девочка с мотыльком». Памятник Строгановой и ее дочери находится на кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
[Закрыть]. Еще позже образом «надгробной бабочки» воодушевится В. В. Капнист (в стихотворении «К несчастному», 1819):
В пыли презренный
Влачится червь не весь свой век.
Уснет – во сне преображенный,
Уж златокрылый мотылек
С цветочка на цветок порхает.
Такой нас жребий ожидает
За бренной гробовой доской.
В 1830-е гг. становящееся все более расхожим сравнение «инфантилизируется»: князь В. Одоевский кладет его в основу написанного для детей рассказа «Червячок» (1834), регулярно переиздававшегося впоследствии в составе «Русской хрестоматии для детей» А. Галахова (3-е изд. вышло в 1845 г.). Умилительное повествование о превращении личинки в гусеницу, а гусеницы – в радужную бабочку завершается моралью, призванной объяснить юному читателю недетские вещи:
Так бывает и не с одним червячком, любезные дети. Нередко видите вы, что тот, с которым вы вместе резвились и играли на мягком лугу, завтра лежит бледный, бездыханный; над ним плачут родные, друзья, и он не может им улыбнуться; его кладут в сырую могилку, – и вашего друга как не бывало! Но не верьте! ваш друг не умер, раскрывается его могила – и он, невидимо для нас, в образе светлого Ангела возлетает на небо[148]148
Первоначально рассказ опубликован в журнале «Детская книжка для воскресных дней» (1834). Цит. по: [Галахов 1845: 98].
[Закрыть].
В инерции поэтических и нравоучительных повторений сравнение – метаморфоза насекомых и человека становится постепенно не более чем пустым тропом – метафорой, не подразумевающей буквального истолкования. Такого буквализма не предполагалось, конечно, и от современников Радищева и Державина, но само явление – метаморфоза, служившее наглядно-эмпирическим доказательством потенциальной трансформативности жив(отн)ой природы, наделялось в их глазах гораздо более весомым смыслом, чем для их потомков[149]149
К истории литературного символизма бабочек: [Manos-Jones 2000]. Применительно к русской литературе: [Пурин 1996: 88–92; Сендерович, Шварц 1998: 243–252; Sill 1997: 596–623].
[Закрыть]. Верный пафосу энциклопедизма, Радищев ищет свидетельства такой трансформативности за счет аргументации, эклектично черпаемой из различных сфер научного знания. Это – новейшие теории эмбриологии (теория предсуществующих зародышей Ш. Бонне, «эпигенетическая» теория К. Ф. Вольфа об образовании семени в женском организме), ботаники (классификация Карла Линнея), химии (теория флогистона Г. Шталя и Д. Пристли), краниологии (краниометрические исчисления Петруса Кампера и «Физиогномические фрагменты» Лафатера), сравнительной анатомии животных (исследования Ж. Л. Л. Бюффона), психиатрии (книга Тиссо об онанизме), сурдопедагогики (изобретение аббатом Л’Эпе азбуки для глухонемых), механики и оптики (воздушный шар братьев Монгольфьер, рефлектор И. П. Кулибина, микроскоп А. Левенгука). Важнейшие в книге – экскурсы в область анатомии человека. Анатомическое сравнение человека с животными обнаруживает между ними много общего.
Внутренность человека равномерно сходствует с внутренностию животных. Кости суть основание тела; мышцы – орудия произвольного движения; нервы – причина чувствования; легкое равно в них дышит; желудок устроен для одинаковых упражнений; кровь обращается в артериях и венах, имея началом сердце с четырьмя его отделениями; лимфа движется в своих каналах, строение желез и всех отделительных каналов, чашечная ткань и наполняющий ее жир, наконец, мозг и зависящие от него деяния: понятие, память, рассудок. Не унизит то человека, если скажем, что звери имеют способность размышлять [Радищев 1941: 48].
Перечень анатомических сходств между человеком и животными обнаруживает, однако, одно фундаментальное, и принципиальное для Радищева, различие: в отличие от животных, человек способен к самосовершенствованию, духовному развитию и познанию Бога. Знание анатомии свидетельствует о том, что́ анатомией не определяется и не репрезентируется. Это – душа и разум, способные абстрагировать, называть, а значит, и онтологизировать порождаемые ими идеи и страсти. В изображении патологоанатома смерть свидетельствует о телесном разложении, но уже поэтому (апофатически) указывает на то, что́ продолжает существовать «за вычетом» ею уничтожаемого. Тело человека и тело животных умирает одинаково:
Труп хладеет, кровь, лимфа и водяность приходят в согнительное воскипение, все члены распадаются, каждое начало отходит к своей стихии, каменородная часть животного, кости, противятся несколько времени проникшему в него тлению; но скоро могущественность воздуха, разрушив известное их сложение, разделит на составляющие их части и, иссосав в воздухообразном виде содержащуюся в них кислость, остатки предаст земле [Радищев 1941: 47].
«Материализм» анатомии не противоречит «идеализму» нашего убеждения в бессмертии, более того – служит этому убеждению лишним основанием, поскольку свидетельствует о том же процессе совершенствования и трансформации, в котором нас убеждает опыт самопознания. Даже сама смерть – то, что она происходит не вдруг, а растягивается на неопределенно-продолжительное время «умирания», – лишний залог развития, довлеющего человеку и им самим осознаваемого [Радищев 1941: 100–101][150]150
В рассуждении о том, что жизнь и смерть «не столь разделены, как то кажется нашим чувствам» и «суть токмо суждения наших чувств о переменах вещественных, а не состояния сами по себе» [Радищев 1941: 101], Радищев, как показывает Лапшин, повторяет аргументацию М. Мендельсона («Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele», 1764): [Лапшин 1907: XVI–XVII. Примеч. 2].
[Закрыть]. Подытоживающее трактат резюме Радищева звучит оптимистически:
Человек по смерти своей пребудет жив; тело его разрушится, но душа разрушиться не может: ибо несложна есть; цель его на земли есть совершенствование, та же пребудет целию и по смерти; а из того следует, как средство совершенствования его было его организациею, то должно заключать, что он иметь будет другую, совершеннейшую и усовершенствованному его состоянию соразмерную. Возвратный путь для него невозможен, и состояние его по смерти не может быть хуже настоящего; и для того вероятно или правдоподобно, что он сохранит свои мысли приобретенные, свои склонности, поколику они от телесности отделены быть могут; в новой своей организации он заблуждения свои исправит, склонности устремит к истине; поелику сохранит мысли, коих расширенность речь его имела началом, то будет одарен речью. <…> И верь, скажу паки, верь, вечность не есть мечта [Радищев 1941: 141].
В доказательствах бессмертия Радищев, как известно, был последователен до конца, «приблизив» к себе загробное совершенствование мучительным самоубийством. При всех личных мотивах, в которых искали и находили причину его поступка[151]151
На вопрос врача, вызванного к умирающему от яда Радищеву, «„ответ был продолжительный, несвязный“. Врач сказал: „видно, этот человек был несчастный“» [Сухомлинов 1889: 636]. Хорошо знавший Радищева И. М. Борн в мемуаре о его смерти восклицал: «Как согласить сие действие с непоколебимою твердостию философа, покоряющегося необходимости и радеющего о благе людей в самом изгнании, в ссылке, в несчастии? Или познал он ничтожность жизни человеческой? Или отчаялся он, как Брут, в самой добродетели!» (Свиток муз. Кн. 2. 1803. С. 141).
[Закрыть], факт остается фактом – возможность самоубийства Радищев обосновал и оправдал уже в своем трактате («Везде явна власть души над телом. И поистине, нужно великое, так сказать, сосреждение себя самого, чтобы решиться отъять у себя жизнь, не имея иногда причины оную возненавидеть. <…> Когда душа вещает телу: ты узы мои! ты моя темница! ты моя терзание! я действовать хощу, ты мне воспящаешь! да рушится союз наш, прости вовеки! то сколько бы жало смерти болезненно ни было, притуплено единою мыслию, сладостное, увеселительное становится паче всех утех земных» [Радищев 1941: 123]). Анатомический акцент на процессуальности телесного функционирования, на работе отдельных «деталей», составляющих, по выражению Руссо, «телесную машину», выразился у Радищева в том, что сама жизнь понимается им как некое неизбежное умирание, не столько предшествующее смерти, сколько ее упреждающее. В этом опережении смерти оправдание самоубийства оказывается тем проще, что оно по своей сути ничего не меняет: это только некий конвенциональный акт перехода из состояния всеприсутствия смерти в состояние ее вненаходимости.
Представляя смерть как процесс умирания, Радищев с формальной точки зрения не был, конечно, новатором: уже в позднем Средневековье акт смерти был эпистемологически осложнен вниманием к понятиям «смертного часа», смертной муки (Todesschmerz), «искусства умирания» (сочинения жанра «ars moriendi») [O’Connor 1942; Duclow 1983: 93–113]. В России сочинения в жанре «ars moriendi» появляются в конце XVIII в. (см., напр.: [Беллармин 1783]). Можно согласиться при этом с историками, подчеркивающими эвристическую инновативность этих понятий для своего времени и связывающими с ними подспудную секуляризацию общественного сознания [Böse 1983: 1–20; Portman et al. 1993]. Умирание превращает смерть в процесс, а значит, делает ее нефинализируемой, непредсказуемой и, соответственно, догматически неопределяемой. Анатомический интерес к умиранию может быть назван поэтому столь же «секуляризующим», сколь и «секуляризованным». Но важно, что к концу XVIII в. он так или иначе выражает идеологическую ревизию темы смерти, предпринятую просветителями. В идеологическом контексте эпохи самоубийство Радищева позволяет судить поэтому не только об умонастроении самого Радищева, но и – учитывая неординарную популярность темы самоубийства в литературе конца XVIII – начала XIX в. – о неких определенно общих для его современников интеллектуальных предпочтениях.









































