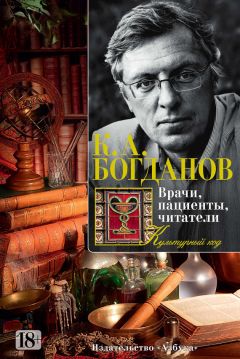
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
При всем познавательном энтузиазме Петра его действия говорят о нем прежде всего как о властителе, проводящем целенаправленную идеологическую стратегию. Современники Петра согласны в своих воспоминаниях об исключительном любопытстве царя – стремлении решать многоразличные вопросы, не имевшие, казалось бы, к нему непосредственного отношения. В области медицины это стремление простирается от стоматологии до хирургии, от фармакопеи до бальзамирования. В 1724 г. Петр берет в руки скальпель с не меньшей охотой, чем двадцатью годами раньше: дневник Берхгольца позволяет судить, как это пугало окружение царя: «Герцогиня Мекленбургская (Екатерина Ивановна, племянница Петра. – К. Б.) находится в большом страхе, что император скоро примется за ее больную ногу: известно, что он считает себя великим хирургом и охотно сам берется за всякого рода операции над больными. Так, в прошлом году он собственноручно и вполне удачно сделал <…> большую операцию в паху, причем пациент был в смертельном страхе, потому что операцию эту представляли ему весьма опасною» [Берхгольц 1860: 101]. Петр любил лечить других и любил лечиться сам[82]82
Но «лекарства его были, – недоумевает почтенный советский историк, цитируя бумаги Петра, – по большей части довольно странные: царь, например, „принимал лекарство, мокрицы и черви живые истолча“» [Мавродин 1988: 90].
[Закрыть], при этом его интересовала не только практика, но и теория – не только методы врачевания, но также причины болезней и смертей. Закономерно, что сама история отечественной патологоанатомии и, в частности, судебно-медицинской экспертизы берет институциональное начало также в эпоху Петра: «Воинский Артикул» 1714 г. предписал приглашать врачей при разрешении судом вопросов, требующих специальных медицинских познаний; «Воинский устав» 1716 г. обязывал врачей-анатомов протоколировать обстоятельства смерти, «дабы доподлинно узнать, отчего оная приключилась»; с 1722 г. анатомическому вскрытию законодательно подвергались умершие в госпиталях (изданием соответствующего закона Россия опередила большинство европейских стран) [Палкин 1959: 34][83]83
См. впрочем: [Самищенко 1998]. Автор этого учебника для юридических вузов вполне патриотично отвергает «мнение о том, что судебная медицина, как отрасль медицины служащая правосудию, появилась в России только во времена Петра Первого». Разумеется, что «признаки ее постепенного становления в соответствии с требованиями развития общества появились уже в далекие допетровские времена»: таковы, по его мнению, примеры освидетельствования в 1577 г. трупа жены Ивана Грозного доктором Бромелиусом с целью установления причин ее смерти и даже классификация телесных повреждений по степени тяжести в «Русской правде».
[Закрыть]. О том, какое значение Петр придавал посмертному вскрытию, свидетельствует, в частности, его письмо, касающееся смертельной болезни лейб-медика Арескина. 2 декабря 1718 г. Петр пишет коменданту Петрозаводска полковнику В. Геннину: «Письмо <…> в котором ты пишешь, что доктор Арескин уже кончаеца, о котором мы зело сожалеем, и ежели (о чем боже сохрани) жизнь ево уже прекратилась, то объяви доктору Поликалу, дабы ево распорол и осмотрел внутренне члены, какою он болезнию был болен и не дано ль ему какой отравы. И, осмотря, к нам пишите. А потом и тело ево отправьте сюды, в Санкт-Питербурх»[84]84
Цит. по: [Анисимов 1989: 63–64].
[Закрыть].
Остается гадать, насколько Петр был искренен в своих религиозных чувствах, но пиетета к мертвым телам он явно не испытывал. Судя по анекдоту в сборнике, составленном сыном работавшего при Петре наставника в токарном деле А. К. Нартова, А. А. Нартовым, религиозные табу не сдерживали любопытствующего монарха даже в виду святых мощей. Нартов рассказывает, как во время посещении новгородского собора Святой Софии у Петра завязалась беседа с сопровождавшим его графом Я. Д. Брюсом – просвещенным сподвижником царя, прославившимся ученостью (и приобретшим позднее фольклорную репутацию чародея). Петр спросил Брюса о причинах нетленности хранящихся в соборе мощей: «Но как Брюс относил сие к климату, к свойствам земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанию жизни, к сухоядению или пощению, то Петр Великий, приступая наконец к мощам святого Никиты, архиепископа новгородского, открыл их, поднял их из раки, посадил, развел руки, паки сложив их, положил, потом спросил: „Что скажешь теперь, Яков Данилович? От чего сие происходит, что сгибы костей так движутся, яко бы у живого, и не разрушаются, и что вид лица, аки бы недавно скончавшегося?“. Граф Брюс, увидя чудо сие, весьма удивился и в изумлении ответил: „Не знаю сего, а ведаю то, что Бог всемогущ и премудр“. На сие государь сказал ему: „Сему-то верю и я и вижу, что светские науки далеко еще отстоят от таинственного познания величества Творца, которого молю, да вразумит меня по духу. Телесное, Яков Данилович, так привязано к плотскому, что трудно из сего выдраться“»[85]85
[Нартов 1891: 89–90, № 137]. Атрибуция «Рассказов о Петре» Андрею Андреевичу Нартову, а не его отцу Андрею Константиновичу была недавно доказательно аргументирована П. А. Кротовым на основе источниковедческого и палеографического анализа обнаруженной им рукописи 1780-х гг. [Нартов 2001: 7–34]. В составе этой наиболее ранней редакции «Рассказов» цитируемый анекдот отсутствует, но это не мешает считать его содержательно достоверным в плане восприятия Петра его ближайшими современниками.
[Закрыть]. По контексту процитированного анекдота речь Петра не лишена православного благочестия (оттеняя тем самым безбожную аргументацию Брюса), но нужно представить, в каком месте и при каких обстоятельствах она произносится. Мощи святого, бестрепетно взятые Петром из святой раки, демонстрируются в качестве анатомического препарата, схожего с экспонатами в коллекции Рюйша: труп поражает качеством консервации, позволяющей сдвигать его в сидячее положение, проверять на гибкость и прочность. Причины, препятствующие разложению «экспонируемого» тела, очевидно загадочны, но уже поэтому заслуживают объяснения, хотя бы оно и лежало за пределами «светских наук»[86]86
Евгений Анисимов, комментирующий эту сцену, справедливо подчеркивает рационалистическое своеобразие петровского «богословия», но, как кажется, чрезмерно утрирует его фатализм: «Петр явно идентифицировал понятие бога, высшего существа, с роком и судьбой» [Анисимов 1989: 48]. О религиозных настроениях Петра см.: [Cracraft 1971: 2–22]. Задолго до посещения Петром Софийского собора в Новгороде об удивительной сохранности оберегаемых в нем мощей написал путешествовавший по России в 1578 г. датчанин Якоб Ульфельдт. Со слов своих русских информантов Ульфельдт несколько загадочно сообщал, что «ныне в Новгороде <…> можно увидеть <…> тела умерших, похороненные много лет тому назад, но нисколько не тронутые тлением, у них снова поднимается голова, шея, грудь, плечи, руки» [Ульфельдт 2002: 308]. (Мощи святого Никиты были торжественно открыты в Софийском соборе за двадцать лет до этого, в 1558 г.)
[Закрыть], при этом слова Петра, «молящего» Творца «вразумить его по духу», звучат как травестийный парафраз к «мольбе» Ювенала о здравии тела и разума (тем более что mens оригинала допустимо переводить не только как «разум», но и как «дух») из известной ему X сатиры.
Суждения царя на предмет останков святого Никиты не были случайностью. Так, документально известно, что в 1709 г., будучи в Киеве, Петр отправляет своего неоднократно упоминавшегося выше лейб-медика Роберта Арескина для экспертизы захоронений Киево-Печерской лавры. Проблема нетленности мощей продолжает интересовать Петра и позже. В 1723 г. Синод под несомненным нажимом императора рассматривает два дела, посвященные освидетельствованию мощей святых. Одно из них касалось некоей телесной реликвии, привезенной с Востока и хранившейся у секретаря Монастырского приказа Макара Беляева, второе – обнаружения захоронения в стене Солигаличского монастыря двух гробов с нетленными мощами монахов, почитавшимися в качестве местных святынь. По мнению О. Г. Агеевой, проинтерпретировавшей принятые Синодом решения по этим делам, уже сам факт административного синодального освидетельствования (духовной инквизиции) мощей святых достаточно демонстрировал готовность власти поставить под сомнение традиционные институты святости. Освидетельствование по первому делу показало, что заморская святыня была не частью человеческого тела, но слоновой костью. Решение Синода было при этом беспрецедентным: ложная святыня должна была стать предметом специального трактата и экспонироваться в синодальной Кунсткамере. Постановление по второму делу также отказывало в признании святости новооткрытых мощей и законности их почитания, хотя факт их нетленности и не отрицался. Вопреки традиционным православным воззрениям на святость нетленных тел, решение Синода обязывало православных к тому, чтобы считаться не с авторитетом предания, но с авторитетом власти, санкционирующей почитание тех или иных мощей в качестве святыни. Нетленность монашеских тел, обнаруженных в Солигаличском монастыре, не свидетельствовала об их святости по причине неизвестности имен умерших монахов. Значение имени и, соответственно, санкционированная властью репутация его носителя декларировались, таким образом, как условие более важное для православного вероисповедания, чем факт нетленности тела [Агеева 1999: 317–318]. Но более того, феномен нетленности получал свое объяснение не в качестве религиозного чуда, но как задача для научного, «экспертного» разрешения, явление, обязанное своим возникновением то ли сознательной фальсификации, то ли особенностям природной консервации и (или) патолого-анатомического бальзамирования[87]87
В европейской культуре того же времени об интересе к бальзамированию свидетельствуют романы аббата А. Ф. Прево «Мемуары знатного человека» (1728) и особенно «Английский философ, или История Кливленда» (первый том вышел в 1731 г.). В «Истории Кливленда» Прево описывает не только процесс бальзамирования, но и те сложности, с которыми приходилось сталкиваться его современникам, намеревавшимся захоронить останки покойного вдали от места смерти. (Этой теме посвящена статья: [Favre 1973].) Проблемами сохранения мертвого тела тогда же задается французский академик, историк искусств и романист граф Анн Клод Филипп де Кейлюс (1692–1765) в трактате «О бальзамировании трупов».
[Закрыть].
Джон Перри, английский инженер и ученик Ньютона, проведший в России почти четырнадцать лет и часто общавшийся с Петром, поражался в своих мемуарах поразительной склонности русского царя вникать в «смысл и причины» любых мелочей (reason and causes of… minutes things). To же впечатление Петр произвел на герцога Луи де Рувруа Сен-Симона, неоднократно видевшего царя во время его шестинедельного пребывания в Париже весной 1717 г. (во время этого пребывания Петр, помимо прочего, торопится посетить анатомический театр французского анатома Ж. Г. Дюверне и присутствует на операции знаменитого в то время английского окулиста Д. Т. Вулхауза по удалению катаракты). Английский посол в России Чарльз Уитворт позже охарактеризует Петра как властителя, достигшего едва ли не «универсального знания» («aquired almost an universal knowledge») [Crafcraft 1991: 235]. «Универсальное знание» сродни демиургическому. В глазах дипломатического окружения и своих подданных Петр последовательно выставлял себя в роли «прародителя», творящего «из ничего» (мотив, который будет особенно активно повторяться в панегирической литературе [Riasanovsky 1985: 25–34; Nicolosi 2002: 41–58]), и благосклонно принимал свидетельства того, что эта роль усвоена. Канцлер Г. И. Головкин в торжественной речи по случаю титулования Петра императором создал риторический образ, в котором демиургическое представало равно природным и социальным, биологическим и историческим: «Единыя вашими неусыпными трудами и руковождениями мы, вернии подданные, из тмы неведения на феатр славы всего сета, и тако рещи, из небытия в бытия произведены и во общество политичных народов присовокуплении» (курсив мой. – К. Б.) [Панегирическая литература 1979: 29–30]. Петр не упускал случая для театрализации подобной риторики. После убедительной работы Ричарда Уортмана, проследившего историю церемониальных «сценариев» в репрезентации власти в России, исключительная роль, которую отводил Петр своему «демиургическому» образу, предстает еще более очевидной. Петр, как отмечает Уортман, фактически разрушил церемониальную традицию, репрезентировавшую верховную власть в терминах преемственности. В отличие от своих предшественников, Петр демонстрировал себя «как основателя России, героя, отдаленного от прошлого, casus sui, отца самому себе» [Уортман 2002: 76]. Публичные церемониалы были для Петра манифестацией власти, выражавшей себя принципиально антитетическим к существующей традиции образом. «Создавая новые традиции, церемонии открывали путь к преобразованиям» [Уортман 2002: 81]. Хотя в своих наблюдениях Уортман ограничивается преимущественно парадной стороной инсценирования Петром собственной власти, следует добавить, что шокировавшая современников новизна петровского правления проявлялась не только в придворных торжествах и публичных триумфах, но и в более рядовых и «повседневных» нововведениях монарха (вроде проведения маскарада в Вербное воскресенье или богохульно пародирующих крестный ход «Всешутейших и всепьянейших соборов»). В ряду этих нововведений основание Кунсткамеры и покупка анатомической коллекции Рюйша также служили сценарию, репрезентирующему власть Петра как силу, креативную к настоящему, но разрушительную к прошлому, – неудивительно, что шоковый эффект, вызываемый тератологическим собранием Кунсткамеры, будет прочитываться позднее как релевантный «шоковому эффекту» самого петровского правления[88]88
Полтора века спустя после основания Кунсткамеры Д. И. Писарев, рецензируя работу Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом», будет особенно возмущаться демонстративным интересом русского царя к уродам и, в частности, его самодурным поведением в анатомическом театре в Лейдене, где он заставил своих брезгливых спутников разрывать мускулы трупа зубами [Писарев 1955: 83, 91]. Автор монографии о Кунсткамере, написанной в советские годы в период «борьбы с космополитизмом», оценивает интерес Петра к анатомическим девиациям также негативно – потому что интерес этот связан с Западом: «Повышенный интерес к монстрам, или уродам, был заимствован Петром I из-за границы. <…> Петр I также отдал дань этому нелепому увлечению» [Станюкович 1953: 42].
[Закрыть].
Церемониальность, с которой было обставлено создание Академии наук, позволяет, как показал в недавней работе Майкл Гордин, увидеть мотивирующую ее стратегию – перенесение в Россию европейской цивилизации и создание принципиально «новой» культурной действительности [Гордин 1999: 238–258; Gordin 2000: 1–32]. Строительство медицинских учреждений осуществляется не менее церемониально – не случайно, к примеру, что при возглавленной Бидлоо Госпитальной школе организуется театр, на сцене которого получают свое воплощение политически значимые «государственные аллегории»: «Освобождение Ливонии и Ингерманландии», «Торжество мира православного», «Царство мира» и другие образцы «светской политико-просветительской и панегирической литературы Петра» [Демин 1974: 28–29]. Не менее красноречивым является и тот факт, что один из островов, входивших в территорию новой столицы, в 1714 г. именным указом Петра передавался в распоряжение ведомства архиатра и стал называться Аптекарским [Ганичев 1967]. В 1715 г. Петр присутствует при торжественной закладке зданий Генерального сухопутного и адмиралтейского госпиталя. По плану (реализацию которого прервала смерть Петра) новый госпиталь должен был стать одним из наиболее внушительных архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга. Петр поручил строительство госпиталя Доменико Трезини, однако собственноручно вносил изменения в его чертежи, предполагавшие воздвижение двух связанных между собой зданий по берегам Большой и Малой Невы с двумя анатомическими театрами по краям и церковью посредине [Самойлов 1997: 29–30 (реконструкция проекта И. И. Лисаевич)]. Помпезный проект не был доведен до конца, но и без него итоги деятельности Петра в медицинском строительстве впечатляют: 10 крупных госпиталей (в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ревеле, Казани, Астрахани), 500 лазаретов, более двадцати аптек (в Москве – 8, в Санкт-Петербурге – 3), открытие лечебных минеральных источников (карельские и олонецкие конгезерские воды, терские «теплицы св. Петра» на Северном Кавказе, полюстровские «железные» воды в Санкт-Петербурге) [Самойлов 1997: 32, 35].
Институализация медицины и популяризация медицинского знания происходит при Петре параллельно формированию инокультурных поведенческих норм. Напечатанное «повелением царского величества» компилятивное руководство «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (с 1717 по 1723 г. книга была переиздана четырежды общим тиражом 2480 экз. [Луппов 1973: 103]) может служить примером идеологии, совмещающей административную «заботу о теле» молодых дворян с заботой об их образе мысли. Телесное контролируется наряду с социальным, или, говоря языком петровского времени, наряду с «политическим» (словом, входящим при Петре в русский язык в двух значениях – наука об управлении государством и обходительность, умение себя вести [Словарь Академии Российской 1822: Стб. 1430; Черных 1993: 52]). Упоминание мемуариста о «Политике» Аристотеля и сатире Ювенала, привлекших внимание Петра во время его путешествия по Европе, вполне соответствует с этой точки зрения тому образу петровского правления, каким оно сложилось к 1720-м гг., а процитированное в тех же мемуарах рассуждение Петра о том, в чем, по его мнению, состоит «лучшая политика честных людей» («прилежным и честным быть»), оказывается содержательно связывающим тексты Аристотеля, Ювенала и «Юности честное зерцало». Идея, допускающая в данном случае такую связь, – идея этического оправдания власти, с одной стороны, и единства властного контроля над телом и разумом – с другой (так, уже у Аристотеля («Политика». II, 11): «Во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую»).
Медицинские реформы Петра, подытоженные утверждением в 1721 г. Медицинской канцелярии [Палкин 1974: 63–66], адекватны к репрезентации как указанного оправдания, так и указанного контроля. Вверяя себе демиургическое право изменять общество, Петр представал перед современниками в роли властителя, дерзающего «корректировать» саму Природу, не случайно уподобляясь ими алхимику [Baehr 2001: 157] и чудесному врачевателю [Беспятых 1991: 258]. Принятый в 1718 г. акт, а в 1722 г. закон о престолонаследии отменит традиционный для допетровской России принцип старшинства и предоставит Петру непосредственное право решать вопросы не только о назначении своего преемника, но и о том, кто из возможных претендентов физически и умственно полноценен. Выбор императора декларируется отныне как социальный и «евгенический», оправдывая нововведения не только в сфере идеологического, но и биологического целесообразия[89]89
Ср.: [Зазыкин 1924: 72–82; Уортман 2002: 99–100]. В оправдание акта о престолонаследии Феофан Прокопович составит обширное сочинение «Правда воли монаршей» с доказательствами прав Петра назначать себе преемника, ссылаясь на церковную и гражданскую историю.
[Закрыть].
Петр остается верен интересу к медицине, анатомическим курьезам и к тому, что можно было бы назвать сегодня генетическим экспериментированием, до конца своих дней. Анатомическое собрание Кунсткамеры не только пополняется, но и активно рекламируется приезжающим в Петербург иностранцам [Пташицкий 1879: и 271 след.]. Состав инъекций, которым пользовался Рюйш для консервации трупов, ученый сообщил Петру вместе с продажей своей коллекции, но просил, по-видимому, не разглашать его рецепта. Неизвестно, пользовался ли сам Петр этим составом в своих анатомических занятиях, но свое обещание Рюйшу он, во всяком случае, сдержал. Судить об этом можно по переписке, которая в 1717–1718 гг. велась лейб-медиком Петра I Арескиным с французским анатомом Ж. Г. Дюверне-старшим на предмет заказанных Петром восковых моделей анатомических препаратов. Заказ касался, помимо прочего, изготовления из цветного воска модели открытого черепа с находящейся внутри ее моделью мозга. Дюверне писал, что для выполнения этой работы ему необходимы хорошо сохранившиеся трупы, а соответственно, необходимо знать секрет их консервации, которым владеет Петр. Просьбу Дюверне сообщить ему рецепт Рюйша Петр, однако, так и не удовлетворил [Княжецкая 1981: 93–94][90]90
Рецепт Рюйша обнародовал в 1743 г. уехавший из России бывший лейб-медик Анны Иоанновны Иоганн Христоф Ригер в опубликованной им в Гааге книге «Introductio in notitiam rerum naturalium et arte factarum, quarum in medicina usus est». Рюйш применял как инъецирующий раствор, вводившийся в вены трупа, так и бальзамирующий (liquor balsamicus), в котором труп выдерживался с целью консервации и придания ему «эстетического» облика. В состав инъецирующего консерванта, изобретенного Рюйшем, входили тальк, белый воск, масло лаванды, какие-то красящие компоненты (киноварь). «Liquor balsamicus» изготовлялся на основе винного (или зернового) спирта, доведенного до температуры 75–80 °C, с добавлением черного перца (см.: [Cole 1944: 302–310]). Специально о Рюйше и его технике см.: [Fyfe 1802]. Не исключено, что Ригер узнал рецепт Рюйша от Шумахера, который ему благоволил и который мог знать об этом рецепте лично от Петра. Ригер, кстати сказать, прослыл интриганом (добившимся увольнения с поста архиатра преемника Арескина академика Лаврентия Блюментроста, чтобы занять его место) и плагиатором, не только разгласившим секрет Рюйша, но и перепечатавшим под своим именем исследование Блюментроста о железистых водах в Олонецкой губернии [Энциклопедический словарь 1899: 683–684].
[Закрыть]. (Дюверне, впрочем, модели сделал и позднее передал их приехавшему в Париж И. Д. Шумахеру.) Помимо устроенной свадьбы карликов, Петр опекает и женит привезенного им из Франции великана Николая, или Буржуа (посмертно пополнившего коллекцию анатомических экспонатов Кунсткамеры)[91]91
Рост Буржуа составлял 226,7 см. Петр сделал Буржуа гайдуком, а 22 февраля 1720 г. женил его на чухонке, которая, по некоторым сведениям, была еще более высокого роста, чем ее муж. Как и в случае с карликами, Петр тщетно ожидал от женатой им пары диковинного потомства [Беляев 1800, Отд. 1: 190; Беспятых 1991: 145, 225]. «Евгенические» надежды Петра чуть позже попытается воплотить в жизнь прусский король Фридрих II, так же как и русский монарх, не только отбиравший великанов для армии и формировавший из них особые батальоны (в трех из таких батальонов все солдаты были ростом выше 210 см, а рост некоторых превышал 220 см), но и пытавшийся найти для своих гигантских гвардейцев соответствующих им по росту супруг, чтобы получить от них экстраординарное потомство [Carlyle 1901: 10]. Как и в случае с Петром, надежды Фридриха не сбылись.
[Закрыть], селит в здании Кунсткамеры живых «монструмов» Якова, Степана и Фому[92]92
Об оторопи, которую они наводили на посетителей, см.: [Берхгольц 1857: 153–154]. Один из живых «монструмов» – Фома Игнатьев был 126 см ростом и имел на руках и ногах вместо пальцев по два клешневидных отростка.
[Закрыть] – и во всех этих случаях «провоцирует» не только «творимое» им общество, но и саму природу, призванную не к воспроизведению уже известного, а к созданию еще небывалого. Расположение Кунсткамеры в центре новой столицы, а значит и нового государства кажется в этом смысле особенно символичным.
Идея музея, хранящего в себе экзотические курьезы, созвучна креационистской, демиургической стратегии петровского правления. О роли анатомических исследований в реализации этой идеи, с точки зрения самого Петра, достаточно свидетельствует уже то, что в обсуждавшейся им архитектурной планировке Кунсткамеры центральное место в проекте здания отводилось именно анатомическому театру. Над анатомическим театром должна была разместиться обсерватория; в западном крыле – библиотека, а в восточном – собственно Кунсткамера, объединявшая анатомические препараты, археологические и геологические находки, ботанические и зоологические коллекции [Петр I и Голландия 1996: 19]. Построенное в 1728 г. здание Кунсткамеры только отчасти воплощает первоначальный замысел, а тератологическое собрание стало представляться «эмоционально» доминирующим звеном самой музейной коллекции[93]93
См., напр., уже упоминавшуюся выше содержательную, но отчасти дезориентирующую статью: Anemone A. The Monsters of Peter: The Culture of St. Petersburg Kunstkamera in the Eighteenth Century: [Anemone 2000].
[Закрыть], но не менее важно учитывать, что, помимо уродов, бо́льшую часть анатомической экспозиции и при Петре, и позже составляли экспонаты, репрезентировавшие не патологию, а норму. Экспозиционный «лейтмотив» анатомического собрания – семантика природы, «игры Натуры» (lusus naturae) и рождения нового. По описи 1800 г., в Кунсткамере хранилось 98 «мужеских» и 66 «женских детородных членов», а также 106 «зародов и поносков» (эмбрионов), выставленных так, чтобы продемонстрировать «детородие и постепенное возвращение семени от самого зачатия до рождения младенца». Подавляющее же количество экспонатов представляло отдельные части человеческого тела [Беляев 1800: 31–33, 35. Отд. 2].
Радикализм немыслимого для традиционной русской культуры отношения к телесности, выразившийся в анатомическом собрании Кунсткамеры, найдет свою авторизацию еще в одном событии эпохи Петра – в создании знаменитой (в частности, благодаря рассказу Тынянова) «восковой персоны» – подвижного манекена, анатомически «дублирующего» тело и лицо императора (руки и ноги восковой фигуры крепятся на шарнирах, позволяющих придавать им любое положение, парик сделан из волос самого Петра). История необычного для своего времени скульптурного портрета не прояснена окончательно до сих пор, но важно подчеркнуть, что первые опыты по его изготовлению были предприняты уже при жизни и, несомненно, с одобрения Петра. Помимо хранящейся сегодня в Эрмитаже восковой фигуры в полный рост (по алебастровой маске, снятой с покойного императора его любимым скульптуром – Растрелли), известен и другой, поясной вариант восковой фигуры – бюст, сделанный в 1719 г. и, по легенде, подаренный кардиналу Оттобони в награду за хлопоты по отправке в Россию античной статуи Венеры. По свидетельству Ф. В. Берхгольца, еще один бюст Петра, «сделанный из особого рода гипса и окрашенный металлической краской», был подарен в 1724 г. герцогу Голштинскому [Архипов, Раскин 1964: 25; Калязина, Комелова 1990: № 74].
За год до своей смерти, в 1724 г., император устроил торжественные похороны мужа умершей в 1713 г. при родах карлицы – карла Якима Волкова. Как и в 1710 г., процессия из нескольких десятков карликов прошествовала по столице. Карликов, одетых в траурное платье, на этот раз сопровождали высоченные гвардейцы – великорослые гиганты, еще более подчеркивавшие гротеск происходящего: шествие крошечных людей, мерно двигавшихся за катафалком с крошечным гробом, обитым малиновым бархатом с серебряным позументом [Белозерова 2001: 149][94]94
Автор этой статьи всерьез предполагает, что интерес Петра к «столь странным увеселениям» не исключает двоякого объяснения: «возможно, это была попытка понять совершенно иной мир, мир другого измерения чисто в физическом смысле», а возможно, «император, со свойственным ему своеобразным демократизмом, пытался дать шанс всем россиянам утвердить себя в контексте реформаторских веяний той эпохи» [Белозерова 2001: 150]. Интерес «к миру другого измерения чисто в физическом смысле» оказывается, таким образом, в глазах современного исследователя еще и «политически корректным». Ср., впрочем: [Tomson 1997].
[Закрыть]. После смерти Петра таких зрелищ в России уже не будет. Анатомическое собрание Кунсткамеры остается, однако, тем, что по-прежнему репрезентирует «демиургическую» эмблематику петровского правления. Не исключено, кстати сказать, что ревниво оберегавшийся Петром рецепт Рюйша был, как предположила Линдси Хьюз, использован для сохранения тела самого Петра после его смерти. Тело Петра было выставлено для церемониального прощания и находилось в открытом гробу более месяца, что, конечно, было бы невозможно без предварительного бальзамирования [Hughes 2001: 263][95]95
Следует учитывать, конечно, что Петр умер 28 января и сохранению тела от разложения мог способствовать холод. Гравированное изображение прощальной залы, в которой был выставлен гроб с телом Петра: [Алексеева 1990: 164–165]. Как бы то ни было, ко времени захоронения (10 марта) тело Петра было в плачевном состоянии. Прусский посланник Густав фон Мардефельд сообщал, что труп покойного императора «позеленел и течет», а императрица, ежедневно посещавшая траурную залу, «вдыхает в себя много вредного испарения и подвергает опасности свое здоровье» [Дипломатические документы 1875: 261].
[Закрыть]. Замечательно, что даже в этом – посмертном – «деянии Петра» современникам был продемонстрирован вызов предшествующему православному обычаю похорон (должных совершаться не позднее чем на третий день после смерти) и положено начало новой традиции, окончательно выразившейся через двести лет в кремлевском Мавзолее.
Путешествовавший по России в 1734 г. ученый швед Карл Рейнхольд Берк, описывая в своих путевых заметках собрание Кунсткамеры как не имеющее себе равных в мире, замечает, что «более всего шума вокруг препаратов, показывающих развитие человеческого плода. Начиная с трехнедельного возраста от момента зачатия и до рождения младенца на свет» [Берк 1997: 194]. О популярности Кунсткамеры среди городской публики говорят и такие косвенные свидетельства, как, например, объявление, помещенное 24 ноября 1737 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости»: «Для известия охотникам до анатомии объявляется чрез сие, что обыкновенные публичные демонстрации на анатомическом театре в Императорской академии наук, при нынешнем способном времени года, по-прежнему учреждены». Судя по тому же объявлению, «охотникам до анатомии» предлагались не просто демонстрации, но и объясняющий их комментарий – «чего ради доктор и профессор Вейтбрехт нынешнего числа по полудни в третьем часу первую лекцию начал, и оные по понедельникам, средам и пятницам так долго продолжать будет, как то состояние способных к тому тел допустит» [Санкт-Петербургские ведомости 1737: 770][96]96
В историю отечественной медицины Вейтбрехт войдет произведенными в Кунсткамере и снискавшими европейскую известность исследованиями по анатомии связок [Weitbrecht 1742], а также физиологии сосудов (Вейтбрехт первым в истории физиологии стал рассматривать циркуляцию крови в сосудах с учетом сократительной функции сосудистой стенки). После смерти Вейтбрехта (1747) в 1749 г. на русском языке будет издано его же «Краткое введение в анатомию» (перевод с лат. А. П. Протасова. СПб.). О Вейтбрехте: [Baer 1900: 132].
[Закрыть]. Некоторые анатомические экспонаты Кунсткамеры станут со временем темой городского фольклора. О его бытовании упомянет, между прочим, автор первого каталога Кунсткамеры, изданного в 1800 г., унтер-библиотекарь Осип Беляев: в ряду описываемых предметов музея – «голова небольшого мальчика, с коей череп снят, и мозг с мозговою его объемлющей сорочкою и множеством простирающихся по нем тончайших нерв оставлен в естественном его виде и положении. Искусство, с каковым лицо головки и все сплетение мозговых жилок подделано, есть такое таинство, которое одному только Руйшу открыть в совершенстве природа благоволила. Головка сия известна ныне публике под названием головы одной девицы красавицы 15 лет, о которой плетутся разные басни и нелепости. Каким образом превращение сие случилось, – заключает автор, – поистине недоумеваю» [Беляев 1800: 31–32. Отд. 2. (курсив автора)].
Ближайшие преемники Петра не разделяли медицинских пристрастий царя-реформатора, но инерция заложенных им преобразований была, как показало время, достаточно сильной, чтобы процесс европеизации России был необратим также и в сфере медицины, и в частности анатомии. Последствия петровских нововведений выразились, однако, не только в институционально-научном, но и более общем – идеологическом и культурном – плане. Кунсткамерная коллекция Петра надолго связала саму репутацию анатомии с именем российского императора. Само проявление интереса к «вундеркаммерному» коллекционированию будет отныне восприниматься как идеологический знак традиции, «объединяющей» монарха-преобразователя и его наследников. Посещение Кунсткамеры напоминает о Петре и обязывает венценосных посетителей к символическим приношениям. «Императрица Анна Иоанновна, – сообщает в 1772 г. „Письмовник“ Н. Курганова, – удостоила сие место своим посещением и подарила оному многие искусством сделанные вещи. <…> Блаженной и вечной памяти Елисавета Петровна определила в Академическом регламенте в год по 2000 рублей для приумножения библиотеки и кунсткамеры» [Курганов 1793: Ч. 2, 194]. В 1770-е гг. собственным собранием природных, и в частности анатомических, раритетов будет гордиться фаворит Екатерины II князь Г. Г. Орлов. В сохранившейся описи «натуральной» коллекции князя перечисляются «монстры младенческие, птицы, звери, пресмыкающиеся, рыбы, лягушки, скорпионы, черви, летучие мыши, фрукты и цветы»[97]97
ААН. Ф. 3. Оп. 3. № 331. Л. 376 (цит. по: [Кулябко, Бешенковский 1975: 95].) Позднее по просьбе кн. Е. Р. Дашковой эта коллекция была передана Академии наук.
[Закрыть]. Сама Екатерина приобретает для Кунсткамеры в 1765 г. коллекцию анатомических препаратов берлинского анатома Н. И. Либеркюна[98]98
В настоящее время хранится в Музее персональных коллекций анатомов в Российской Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
[Закрыть]. Император Павел, болезненно подчеркивающий свою легитимную преемственность с Петром I, также не позабыл торжественно посетить и облагодетельствовать Кунсткамеру [Беляев 1800: 3 и след. Отд. 2]. И при Павле, и позже собрание Кунсткамеры продолжало напоминать о том, что сама сфера научного, и в частности медицинского, знания получила при Петре статус демонстративно властного знания. Петр узаконил институциональный контекст интеллектуальной практики, отводивший медицине символически знаковую роль в риторике и идеографии его правления. Репутация медицинской науки изначально формируется с оглядкой на власть, а ее институциональное место (в стенах Кунсткамеры, Академии наук, университете) в ряду других областей научного знания определяется не универсалистскими претензиями просвещенного Знания[99]99
Среди примеров изобразительной риторизации такого знания показательна гравюра, предваряющая анатомический атлас Кульма (Tabulae Anatomicae Io. Ad. Culmi, 1732): просветительский идеал равенства анатомии в ряду других «свободных наук» предстает здесь в образе прекрасной женщины-Мудрости, указывающей одной рукой на книги в кабинете ученого, а другой – на подготовленный к вскрытию женский труп, лежащий на анатомическом столе. «Просвещение» риторизуется при этом непосредственно – изображением окна, освещающего книги и тело, и женской фигурой, распахивающей перед зрителем гравюры «передний занавес» всей сцены.
[Закрыть], а универсализмом Власти, которая таким знанием уже обладает. Неудивительно, что и в истории отечественной науки медицинский дискурс предстает в несравнимо большей степени идеологизированным, чем в Европе, где формирование самой науки как специального института в существенной мере определяется ее декларативной (пусть и мнимой) «деидеологизацией» [Emergence of Science 1976]. Импорт медицинского знания в Россию привел к большей зависимости медицины от власти, но при этом и к большей связанности ее с теми составными атрибутами идеологии, от которых европейская наука была законодательно изолирована, – с политикой, религией и правом.









































