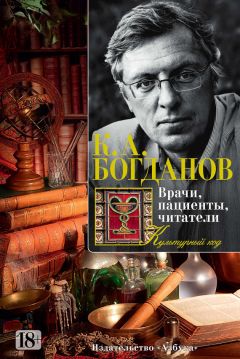
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Возрождение, как и само «здоровье» общественного организма, зависит, впрочем, от тех, кому вверена его опека. Разногласия начинаются в понимании опекунства – в представительстве тех, кому дано право распоряжаться общественным «организмом». В России, где распространение медицинского знания изначально связывалось с верховной властью, здоровье монарха закономерно выступало гарантом здоровья его подданных. Существенную роль в этом отождествлении сыграла риторика екатерининского правления, прежде всего – риторический контекст, сопутствовавший оспопрививанию. Замечательной иллюстрацией этого контекста может служить указ Правительствующего сената от 20 ноября 1768 г. «О принесении Ея Императорскому Величеству и Его Императорскому Высочеству Государю и Наследнику благодарения за великодушный и знаменитый подвиг к благополучию своих подданных привитием оспы и об установлении торжествования в 21 день ноября каждого года», заслуживающий того, чтобы процитировать его почти полностью.
Объявляется всенародно. Не прошло еще семи лет, как Всевышний промысл, благославляя Россию, благоволил Скипетр ея правления вручить Великой Екатерине, а уже отечество наше на такой степень блаженства возведено, какого и во многие годы ожидать нам едва было возможно. Сие всякий не только явственно видит, но и ощущает сам в себе, пользуясь теми учреждениями, каковые нас почти от всяких роду человеческому свойственных злоключений ограждают, словом сказать, в толь краткое премудраго Ея правления время, юношество от всех с их летами неразлучных поползновений предохранено добрым воспитанием, мужеский возраст от всех роком и злостию наносимых бедствий защищен премудрым в правительствах распоряжением, обремененная службою и тягостию лет старость достойным воздаянием награждена, почтена и успокоена. А сверх того, попечение нашей чадолюбивой Матери отечества простирается не на одно настоящее, но и на будущия времена, чтобы тож самое блаженство, которое мы от Нее получили, чувствовали и наши потомки; в чем бессмертным свидетельством быть может, собственным Ея Величества трудом сочиненный и Комиссии о новом Уложении данный Наказ, споспешествуемым и новоустановляемым на основании онаго законом. Но не на том только остановилась Сей Великой Монархини к подданным Ея любовь и милость. Видела она, в коликом трепете и содрогании верные Ея подданные быть должны о том, что Она и дражайший Ея Сын и Наследник, в котором состоит для будущих времен вся Российских сынов надежда, ежечасно подвержены от оспы той опасности, которая большей части человеческого рода наносит смертоносную язву; и дабы сей страх от всех как наискорее отнять: то, несмотря на зрелость Своих лет и несравненно большую против младолетства опасность, из любви к отечеству, предприняла не токмо Собственную Свою Особу опыту новоизобретенного прививания оспы мужественно вдать, но сим Своим великодушным примером возбудить и ободрить соизволила и Вселюбезнейшего Своего Сына и Наследника на то же поступить, чем и решила бывшия до сих пор вообще подданных ее сомнения, обрадовав изумленную Россию совершенным выздоровлением Обоих Сих вседражайших для нея Особ[336]336
Указ от 20 ноября 1768 г. [ПСЗРИ 1830: № 13.224].
[Закрыть].
22 ноября «для принесения императрице и наследнику всеподданнейшего благодарения за великодушный и знаменитый подвиг» в парадных покоях Зимнего дворца собираются «знатные персоны» и «чужестранные министры», в придворной церкви служится литургия и благодарственное молебствование. Именем Святейшего синода императрицу и наследника поздравил архиепископ Гавриил, а именем Правительствующего сената – граф К. Г. Разумовский. Екатерина ответила на поздравление немногословной речью: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподанных, кои, не знав пользы сего способа, онаго страшась, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего; ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы».
Не будет ошибкой сказать, что суть указа и последовавших за ним официальных торжеств – не польза оспопрививания, а могущество власти. Процитированный указ риторически безупречен и идеологически продуктивен: законопослушный подданный узнает, что императрица решилась на героическое «новоизобретенное прививание оспы» «из любви к отечеству», решимость императрицы демонстрирует при этом дееспособность власти как таковой (в союзе императрицы-матери и ее сына – будущего императора). Цель этой демонстрации тоже ясна – устранить «бывшие до сих пор вообще подданных ее сомнения», а тем самым – удостоверить идеологический порядок, «блаженство» подданных в тени власти. Физическое здоровье предстает при этом равно социальным: оно гарантируется верой во власть и отсутствием идеологических сомнений в ее правоте. Частным, но и наиболее буквальным примером таких гарантий стало возведение в дворянское достоинство мальчика, у которого брали оспу для высочайшей прививки. Вместе с дворянством за ним была закреплена фамилия Оспенный.
Торжества по случаю монаршего оспопрививания публичны и даже театральны: работавший в Петербурге итальянский балетмейстер Доменико Анджьоли неотложно ставит аллегорический пантомимный балет «Торжествующая Минерва, или Побежденное предрассуждение», посвященный героическому оспопрививанию (название балета частично воспроизводило название трехактной комедии Ф.-М. Вольтера «Нанина, или Побежденное предрассуждение», в 1765 г. переведенной на рус. язык И. Ф. Богдановичем) [Штелин 1935; Гозенпуд 1959: 212–216][337]337
Балет, как кажется, не понравился при дворе: вероятно, именно по его поводу Екатерина позже писала директору Имп. театров Бибикову о запрещении «употреблять аллегорию и заставлять танцевать „гнилую горячку“ (la fiévre putride)» [Екатерина II в переписке с Гриммом 1879: 142].
[Закрыть]. Прививший императрице и наследнику оспу английский врач-«инокулатор» Томас (Фома) Димсдейл получил огромную сумму гонорара – 10 тысяч фунтов стерлингов [Ровинский 1881: 342. Кн. IV][338]338
В 1781 г. Димсдейл снова приедет в Петербург, чтобы сделать прививки великим князьям Александру и Константину; получит баронский титул, чин действительного статского советника и звание лейб-медика с пожизненной пенсией в 500 фунтов стерлингов.
[Закрыть]. В благодарности Димсдейлу В. И. Майков назовет английского врача Гиппократом, вернувшим России былые утехи:
Россия посреди утех своих страдала,
Когда она вреда от оспы ожидала.
Теперь скончался страх, мы полны все отрад,
Узря, что язвы сей спаслась Екатерина,
Узря спасенного ея любима сына:
А спас их от нея сей мудрый Гиппократ.
[Майков 1867: 101]
Смысл знаменательного события оценивается современниками, повторимся, однако, не столько в терминах медицины, сколько в терминах идеологии: успех оспопрививания – успех медицинского просвещения, но прежде всего – гарантированное целесообразие власти. Михаил Херасков в оде «На благополучное и всерадостное освобождение Ея Императорского Величества от прививания оспы» характерно смешивает медицинскую и политическую терминологию – жертвенное деяние императрицы, решившейся на добровольное заражение, оградило от болезни не только подданных, но даже законы:
Возможно ль было нам то время не грустить,
Как ты отважилась яд в кровь свою пустить.
Мы духом мучились, взирали на законы,
И зараженными являлися нам оны.
Взирали на престол, взирали на себя,
И зараженными щитали мы себя.
Получение «оспенной материи» от императрицы превращается при дворе в нечто вроде почетного права: целительное заражение равнозначно титулованию и вместе с тем – удостоверению кровного сродства. Сама Екатерина писала к графу И. Г. Чернышеву (17 ноября 1768 г.): «Начиная от меня и сына моего, который также выздоравливает, нету знатного дома, в котором не было по нескольку привитых, а многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Граф Григорий Григорьевич Орлов, граф Кирилл Григорьевич Разумовский и безчисленных прочих прошли сквозь руки господина Димсдейля, даже до красавиц, как княжны Щербатова и Трубецкая, Елизавета Алексеевна Строганова и многие, коих долго прописать было, покорились сей операции. Вот каков пример. Месяца с три никто о сем слышать не хотел, а ныне на сие смотрят как на спасение».
Авторитетные медики также не замедлили откликнуться на монарший опыт: с 1766 по 1776 г. было напечатано 9 брошюр о пользе оспопрививания, не считая многочисленных панегириков Екатерине. По замечанию Громбаха, «в отличие от стран Западной Европы, где введение оспопрививания встретило большое сопротивление, Россия сразу заняла по отношению к этому способу прогрессивную позицию» [Громбах 1953: 86]. Причины единодушия российских врачей следует искать, однако, не в «прогрессивной позиции» отечественной медицины, восхваляемой Громбахом, а в абсолютизме российской власти и зависимой от нее науки. Ричард Бартлет в исследовании, посвященном истории оспопрививания в екатерининской России, пришел к выводу, что в целом эта история аналогична тому, что происходило в Европе – в Англии, Австрии и во Франции, но оговаривается, что ее идеологический антураж не лишен своей нарочитости [Bartlett 1986: 193–213][339]339
Понятно, что институальные особенности инициированных Екатериной мероприятий в области государственного здравоохранения легко обнаруживают европейские аналогии: [Alexander 1981: 185–204].
[Закрыть]. Оговорка Бартлета справедлива, но явно недостаточна – известное сходство не должно заслонять специфики «здравоохранительной» риторики екатерининского правления, воспроизводящей традиционную для России со времени Петра, но не слишком характерную для Европы XVIII в. формулу «монарх – отец, а монархиня – мать России». Муссировавшаяся пропагандой петровского правления риторика властного патернализма перенимается Екатериной и усваивается ее окружением.
В 1772 г. в память о привитии оспы по сенатскому постановлению были выбиты 12 медалей с изображением профиля Екатерины на одной стороне и аллегорической сценой – на другой: императрица-Минерва стоит перед храмом Эскулапа в окружении детей, а сама сцена комментируется надписью: «Собою подала пример». Барельеф в здании Сената в Москве изобразит схожую сцену, но включит в нее, помимо детей, также великовозрастных подданных[340]340
Репродукция медали и барельефа в: [Russia and the World of the Eighteenth Century 1986: 681, 682].
[Закрыть].
Спустя тридцать с лишним лет после знаменательного события Карамзин в панегирическом «Историческом похвальном слове Екатерине II» (1801) также вспомнит об оспопрививании – с тем, чтобы еще раз напомнить об эвристической силе привычной метафоры: «Мать народа… конечно! <…> Что одна мать может сделать для своего обожаемого младенца, то Екатерина сделала для своих подданных: Она привила себе оспу!.. День незабвенный для родителей, обязанных ему спасением детей и милою их красотою! <…> Она собственным опытом заставила нас прибегнуть к счастливому средству, и с того времени мы не боимся ужаснейшей эпохи в физическом бытии нашем»[341]341
Цит. по публикации в: [Ермашов, Ширинянц 1999: 125].
[Закрыть].
Коллективное бесстрашие, к которому апеллирует Карамзин, – бесстрашие, гарантированное властью. Образ Екатерины, врачующей Россию, окажется при этом парадигматическим: В. Петров в оде Екатерине по поводу «нового учреждения для управления губерний» уже непосредственно сравнит императрицу с мудрым врачом, следующим наставлениям самой природы.
Так мудрый Врач употребляет
Не строги средства на недуг,
Но лишь природе помогает,
Рачит и действует не вдруг.
Природа соучаствует власти в ее благих начинаниях. Соучаствуют ей и те, кто близок к власти «по природе», – «сама» Россия и «сам» народ. Начиная с екатерининского правления топос «народа» приобретет при этом достаточно парадоксальные коннотации: с одной стороны, «народу» некто и нечто угрожает, с другой – охраняемый монаршей опекой «народ» – то единственное, что никогда не теряет соприродного ему «здоровья». В 1805 г. в анонимной брошюре «О болезнях богатых и светских людей» (СПб., печатано в первом кадетском корпусе, 1805) подлинное здоровье декларативно вверяется простонародью, тогда как светский человек предстает недужным уже в силу его воспитания и времяпрепровождения.
Ежели (светский человек. – К. Б.) оставляет ломберный стол или какое-нибудь распутство, то для того только, дабы запереть себя в тесный и нечистый театр, где воздух заражен дымом шестисот свечей и дыханием трех тысяч человек, из коих по крайней мере три части больных. Из театра едет он на ужин, где каждое кушанье яд… После такового ужина, продолжающегося большую часть ночи, остальное время проводит он в игре или невоздержанном обращении с женщинами. Задаваясь вопросом: «Что причиною сего множества нервных болезней, коими страждут светские люди?», автор предлагает читателю не тешить себя поисками ответа, но и не отчаиваться: «Люди, сделавшие единожды привычку к такой жизни, неспособны к исправлению… Общество же получает от сего распутства ту пользу, что оно сокращает жизнь таких людей, кои в тягость своим ближним [О болезнях 1805: 6, 7, 9].
В подобном контексте терапия могла видеться столь же «медикаментозной», сколь и анатомической – тем более что практическую уместность анатомических метафор уже продемонстрировала революция 1789 г. В исторической пьесе Нестора Кукольника «Денщик» (1852) представителем власти, анатомически врачующим своих подданных, выступает Петр, называемый здесь же «великим Анатомом» и «бессмертным Врачом», а возрождение России рисуется как результат хирургической операции (невольно напоминающей о Франкенштейне):
Я видел, как великий Анатом
Рассек России одряхлевшей тело,
Переменил ей внутренность гнилую,
Сложил ее очищенные члены,
Искусно всю перевязал порядком,
За плеча поднял, на ноги поставил. <…>
Я видел, как в безмерном государстве
По жилам ходит кровь, как врачеванья
Те следствия приносят неизменно,
Которые задумал Врач Бессмертный.
[Кукольник 1852: 296][342]342
Ср. интерпретацию этой сцены: [Матич 1995: 181–183]. Заметим, что деятельность Петра сравнивается с «врачевством» уже современниками императора [Беспятых 1991: 258], в частности, в похвальном слове Феофана Прокоповича, произнесенном при погребении Петра: «Виновник бесчисленных благополучий наших, воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу» (цит. по: [Порфирьев 1901: 62]). В начале XIX в. это сравнение уже вполне адаптировано публичным дискурсом (см. его, напр., в речи Павла Свиньина: [Свиньин 1818: 95]. Образ анатомически преображенной России в пьесе Кукольника перекликается с пассажем Белинского из «Литературных мечтаний» (1834): «Потоки варваров, нахлынувших из Азии в Европу, вместо того чтобы подавить жизнь, воскресли ее, обновили дряхлеющий мир; из гнилого трупа Римской империи возникли мощные народы, сделавшиеся сосудом благодати» [Белинский 1953: 32].
[Закрыть]
Представление о Петре как о враче и анатоме педалируется в историко-публицистической литературе (в 1824 г. об этом пишет в своей статье о Петре популярный автор исторических статей, будущий декабрист А. О. Корнилович[343]343
В статье «О частной жизни императора Петра» (альманах «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного, изданная Корниловичем». СПб., 1824; 2-е изд. – 1825). Перепечатано: [Корнилович 1957: 162–163].
[Закрыть]; медицинской, и в частности анатомической, деятельностью императора специально интересовался А. С. Пушкин, собиравший о нем материалы для «Истории Петра» [Громбах 1989: 25]). Контекст, контаминировавший дискурсы власти и дискурсы медицины, в какой-то степени разделялся, по-видимому, и самой властью. Так, известно, что в 1837 г. будущий император, а в то время наследник престола Александр Николаевич во время своего триумфального путешествия по России присутствует на нескольких лекциях по анатомии в Московском университете [Уортман 2002: 482].
Отрицание личной смерти (в терминах умирания, бессмертия или воскрешения) релевантно невозможности смерти общества. Но верно и обратное: бессмертие общества (или государства, как это рисует текст Кукольника) отрицает и личную, приватную смерть его членов. Символизация этой взаимосвязи продуктивна. Замечено, например, что в описании дуэльных поединков литературный и идеологический дискурс русской культуры в 1830–1840-е гг. в гораздо большей степени, нежели прежде, педалирует телесно-физиологические подробности в описании ранений и умирания дуэлянтов. Ирэн Рейфман, обратившая внимание на эту тенденцию, считает, что, помимо возможного созвучия литературных и собственно медицинских текстов, особую роль в данном случае сыграла дуэль Пушкина. В рассказах современников описание этой дуэли медицински детализовано – разные рассказчики согласно живописуют, как был ранен и как умирал поэт: уже в глазах современников эта детализация было самоценной и символичной [Reyfman 2001: 77–82]. Такой она остается и сегодня – парадигматическим представлением о бесконечно умирающем, но потому и «вечно живом» поэте.
Начиная с 1840-х гг. литературные изображения болезней и умирания очевидно медикализуются, оказываясь в этом отношении близкими к собственно медицинскому, клиническому дискурсу в протоколировании смерти[344]344
В европейской литературе тенденция та же. Херцлих и Пьерет связывают ее с популяризацией научной медицины: [Herzlich, Pierret 1987: 29].
[Закрыть]. С другой стороны, заведомо дискурсивный характер такой медикализации придает последней и некий виртуальный характер: при всей детализованности анатомической и физиологической репрезентации смерть оказывается чем-то, что может быть обратимо. Анатомические подробности в описании смерти не отменяют веры в бессмертие. Умирание длится – и жизнь продолжается.
Болезни в обществе, болезни общества: Петербург и окрестности
Всякий, верно, найдет что-нибудь прибавить к сказанному мною или откроет из того дальнейшие виды.
Г. Аттенгофер. Медико-топографическое описание Санкт-Петербурга, главного и столичного города Российской империи, 1817
В литературе и литературной критике ссылки на медицину и (патолого)анатомию как метафору познания и преображения действительности вписываются в эстетический, но также историософский и социологический контексты. Иллюстрации из области медицины, анатомии, физиологии, конкретизируя репрезентацию телесности, оказываются востребованными в качестве продуктивного источника литературно-эстетических, философско-этических и политических метафор. Дело литератора, критика, публициста – объяснить анатомию и физиологию общества своим согражданам. Среди источников литературного и публицистического вдохновения в этом объяснении особое место занимает медицинская статистика и, в частности, традиция медико-топографических описаний российской столицы.
Очевидно, что привычная репрезентация Петербурга в литературе XIX в. резко контрастирует панегирическому официозу XVIII в., изображавшему российскую столицу новообретенным парадизом [Nicolosi 2002]. Записка «О Древней и Новой России» Карамзина (1810), противопоставляющая панегирикам во славу Петра, а заодно и панегирической традиции во славу основанного им города мнение о гиблом местоположении Петербурга – города, обреченного уже тем самым на то, чтобы, говоря словами того же Карамзина, в нем царствовали «бедность, уныние и болезни», – служит в данном случае вполне парадигматической для «негативной» репрезентации российской столицы, но вместе с тем свидетельствует о том, что противоречивые представления о Петербурге в большей или меньшей степени мотивируются идеологическими соображениями. Медицинские описания Петербурга представляют в этом контексте уже тот интерес, что они корректируют представление о «типизации» образа российской столицы в общественном сознании и уточняют дискурсивное «правдоподобие» литературы в изображении социальной реальности.
В истории отечественной медицины первое медико-топографическое описание Петербурга было написано иностранцем – швейцарским врачом Генрихом Людвигом Аттенгофером (1783–1856). Уроженец Зюрзее (кантон Люцерн), получивший медицинское образование во Фрайбурге и в Вене, Аттенгофер приехал в Петербург в 1808 г. по приглашению своего соотечественника и ближайшего советника российского императора Фредерика Сезара де Лагарпа. В 1808 г. Аттенгоферу – 25 лет, но он уже имеет за плечами опыт работы военного врача, пользовавшего раненых австрийцев во время боевых действий против Франции в 1805–1806 гг., годовую практику в общественной больнице Вены и опубликованную монографию о болезнях лимфатической системы [Attenhofer 1808][345]345
Наиболее подробно биография Аттенгофера изложена в: [Scalabrin 1983].
[Закрыть]. По подтверждении в Петербурге докторской степени Аттенгофер получил чин коллежского асессора, возможность частной практики и официальную должность с достаточным жалованьем в Калинкинской больнице – единственной в то время отечественной лечебнице для венерических больных [Капустин 1885]. Как ученый Аттенгофер специализировался в области венерологии, конкретно – в лечении сифилитиков (позже он опубликует специальную работу на эту тему в немецкоязычном медицинском журнале, издававшемся в Петербурге) [Attenhofer 1816], но постепенно круг его медицинской деятельности заметно расширяется. Он держит обширную частную практику, в 1812 г. работает хирургом в одном из военных госпиталей, удостаивается награды императора и чина надворного советника (наивысшего чина, до которого, кстати сказать, дослужился «государственный историограф» Н. М. Карамзин). Административная карьера Аттенгофера движется вполне успешно; в 1813–1815 гг. его врачебные обязанности включают инспектирование рынков, питейных заведений, а также надзор за работой лекарей медицинской полиции. Но в этом же 1815 г., получив известие о смерти своего отца, Аттенгофер просит отставки и навсегда уезжает из России[346]346
Отметим ошибку, содержащуюся в авторитетном биографическом словаре Хирша, указывающем, что Аттенгофер в 1838 г. все еще жил в Петербурге [Biographisches Lexikon 1929].
[Закрыть].
«Медико-топографическое описание Петербурга» было начато Аттенгофером, по-видимому, уже в России, но закончено и издано в Швейцарии, два года спустя после его возвращения. Этот факт важен, поскольку позволяет думать, что Аттенгофер заканчивал свою книгу, будучи вполне независимым от оглядки на российскую цензуру и вместе с тем ориентируясь на ближайших к нему читателей-соотечественников. Насколько конкретной была эта ориентация, остается гадать, но можно думать, что если не целью, то одним из мотивов издания в Швейцарии обширной книги о Петербурге было стремление ее автора к приобретению не только – и даже не столько – научной, но общественной репутации. По возвращении из России Аттенгофер чем дальше, тем больше посвящает себя политической деятельности. Врача постепенно сменяет политик, участвующий в работе городского и кантонального совета (1816–1823, Stadtrat; 1820–1833, Grossrat des Kt. Luzern), председательствующий в комиссии по призрению неимущих (1819–1839, Präsident der Armenkommision), кантональном союзе врачей (1822–1833, Präsident der Arztgesselschaft des Kt. Luzern) и, наконец, возглавляющий городское правление в родном Зюрзее (Amtsstatthalter, 1831–1847).
Появившееся первоначально в Цюрихе на немецком языке в 1817 г. [Attenhofer 1817], в 1820 г. описание Аттенгофера было издано в Петербурге в русском переводе [Аттенгофер 1820][347]347
В том же году, помимо отдельного издания, отрывки из книги Аттенгофера публикуются в «Вестнике Европы» (Аттенгофер фон. Отрывки из Новейшего описания С.-Петербурга // Вестник Европы. 1820. № 24. С. 298–308).
[Закрыть]. С историко-медицинской точки зрения значение работы Аттенгофера о Петербурге достаточно определяется тем, что она явилась хронологически первым исследованием в ряду последующих «медико-топографических описаний» российских городов, дав читателю-врачу руководство, суммирующее разрозненные наблюдения о наиболее распространенных в Петербурге болезнях и особенностях их лечения. Но книга Аттенгофера дает одновременно меньше и больше, чем только медицинский труд. Сам Аттенгофер подчеркивал в предисловии, что его намерением было написать сочинение, предназначенное «для С. Петербургских медиков и немедиков, для жителей природных и иностранцев». «Даже и на дамском туалете, – надеется он, – книга сия могла бы иметь место». Но почему швейцарский врач хотел – и чем он мог – привлечь к своей книге внимание читателей (или даже читательниц), далеких от медицинской профессии?
Немецкоязычное издание своей работы Аттенгофер посвящает Александру I – «Seiner allerhöchsten Majestät Alexander dem Ersten». Для Европы, и в частности Швейцарии, 1817 г. апелляция к имени российского императора была все еще полна актуального политического смысла. В разных частях своей книжки Аттенгофер не устает напоминать – подчас весьма цветисто – о том, что Петербург – не просто город, заслуживающий «занять место между новыми чудесами мира, между редкостями века и его духа», но столица, «никогда не оскверненная рукою чуждого завоевателя», столица, где «возник сильный порыв, расторгший цепи, в коих мнимый всеобщий монарх держал изнуренную им, но все еще мощную Европу, и кои чаял он наложить <…> на целый свет». Отсюда, из Петербурга, «низшел Александр, возвративший вселенной, томившейся во бранях, дни мира и блаженства». Статистические данные о народонаселении Петербурга здесь же сопровождаются таким, казалось бы малообязательным, комментарием: «Бо́льшая часть Петербургского юношества» в годы войны не только «устремилась на поприще храбрых», но и составила «тот знаменитый сонм, великим Монархом предводимый, который избран был от Промысла, кровию своею возвратить Европе мир и свободу». На таком, равно эсхатологическом и геополитическом, фоне автор-швейцарец, выслуживший на русской службе в годы Наполеоновских войн чин надворного советника, заслуживал, конечно, если не медицинского, то во всяком случае идеологического доверия. Вероятно, именно эти обстоятельства сыграли определяющую роль в переводе труда Аттенгофера и его издании в России – издании, которое не кажется, вообще говоря, само собой разумеющимся для цензурных порядков конца 1810-х гг. (см.: [Скабичевский 1892: 122 и след.]). Между тем труд Аттенгофера вполне мог дать повод к цензурным нареканиям в силу чрезмерной склонности автора к велеречивым рассуждениям и морализаторству на темы, не имеющие прямого отношения к медицине[348]348
Биограф Аттенгофера Ганс Рудольф Скалабрин справедливо удивляется, что русская цензура не отрегировала на критические рассуждения швейцарского врача: [Scalabrin 1983: 49].
[Закрыть]. В контраст к панегирическому славословию в адрес Александра и Петербурга швейцарский врач излишне наблюдателен к непривлекательным сторонам городской действительности, особенно в том, что касается жизни городской бедноты: «Почти невероятно, каким образом в комнате, имеющей в окружности едва 12 футов, живут <…> теснясь от 8 до 10 человек, из числа коих половина взрослых, а половина детей». «Я часто сам, – признается автор, – не мог пробыть десяти минут в таковых грязных, подземных и как нельзя более сырых покоях, не почувствовав некоторой тошноты». Многие петербургские дома поражают Аттенгофера своей ветхостью, антисанитарией и вонью («во многих, а особливо деревянных, домах нужники сделаны так, что очень легко найти их можно; ибо ужасная вонь предваряет уже существование оных»).
Наблюдательность медика сочетается у Аттенгофера с оглядкой на уже сложившиеся стереотипы в изображении российской столицы и в этом смысле также не лишена некоторой двусмысленности. Рассуждения швейцарского медика на первый взгляд лестно звучат для русского читателя и, судя по переводу и изданию его книги в России, казались благонадежными в цензурном прочтении[349]349
Внешний облик русских «по его чистоте и единству справедливо можно назвать прекрасным», «простой русский мужик <…> понятен и ко всему способен», россиянин «всегда весел и бодр, с песнями и смехом встречает <…> злополучен наш жребий и проходит самые трудные обстоятельства», «равнодушный ко всякой беде и вверяясь совершенно Всемогущему Промыслу, неустрашимо взирает он на смерть», «он тверд в жесточайших мучениях души и тела и являет примерное терпение с начала жизни», «крепок состав его тела, неслабы душевные силы» и т. д.
[Закрыть], но так или иначе предполагают сравнение разных точек зрения. Излюбленный прием автора – позитивная парадоксализация очевидного. Иллюстрацией соответствующей риторики может служить описание жизни тех же бедняков. Аттенгофер не замалчивал плачевного положения их быта, но тут же подчеркивал: «Непонятнее всего, что люди сии при всем том несколько лет сряду бывают здоровы», более того: «непостижимо <…> каким образом люди сии <…> нередко достигают необыкновенной (для) Южной Германии старости, и притом многие из них никогда не бывают больны».
Восставая против наивреднейшего, по мнению Аттенгофера, обычая русских пользоваться при рождении ребенка услугами невежественных повивальных бабок, отмечается, что «однако же редко услышишь, чтобы россиянка умерла от родов». Высказывая убеждение в недостатке надлежащего присмотра за детьми, швейцарский врач тут же оговаривается, что, «невзирая на то, дети у русских несравненно реже бывают больны, нежели у жителей иностранного происхождения». При всех недостатках быта и надлежащего родовспоможения у тысячи россиянок почему-то родится только 8 мертвых детей, а у иностранок – 25. Даже рассуждение об однозначном, казалось бы, вреде печного угара (вызывающего головную боль, тошноту, рвоту, обморок, паралич и скоропостижную смерть), весьма обычного в петербургских домах, завершается замечанием, что тот же угар безвреден для природного россиянина.
В описании простонародных увеселений петербуржцев Аттенгофер пишет о повальном пьянстве и столпотворении в кабаках тех, кто «отягощен бедностью» или «удручен жестокостью господина», но здесь же находит аргументы в защиту пресловутой склонности русских к пьянству: «климат, а равно образ жизни делают ее извинительною», причем отмечается, что – несмотря на общепризнанный вред горячительных напитков – сам автор знал природных русских, «достигших уже глубокой старости, кои с молодых лет выпивают каждый день от 6 до 8 рюмок водки, не делаясь пьяными и даже хмельными, и отправляют притом дела свои с надлежащей исправностью и расторопностью». Да и вообще, восклицает Аттенгофер, поминая неких «малоизвестных» писателей, осуждающих русских за пьянство: «Как можно запретить народу употребление любимого его напитка, полученного в наследство от отцов своих и по привычке сделавшегося для него необходимым и совершенно свойственного нравам его и климату, не лишив его физической силы?» Впрочем, и сами эти писатели, уверен Аттенгофер, «верно, не отказались бы от рюмки водки».
Петербург, куда «из всех частей света стекаются изгнанники, злополучные у себя на родине, предприимчивые сребролюбцы, сметливые искатели и рыцари счастья», представляет собой в описании Аттенгофера город-гибрид, где на каждом шагу «встречаешься с легким сангвиником галлом и задумчивым меланхоликом британцем; тут видишь чувствительного холерика итальянца, а там холодного флегматика немца». Суммарный образ Петербурга и собственно петербургского жителя оказывается при этом трудноуловим, но в этой неуловимости тоже есть своя логика, апеллирующая к парадоксам «русской натуры» и «русской психологии». Как любая европейская столица, Петербург не чужд пороков больших городов – дороговизны, неумеренности в питье и пище, коварства, зависти, растущей нищеты, тесноты и т. д. Но в каком большом городе, тут же оговаривается Аттенгофер, бедный не ограничивает себя тесным жилищем? При этом, несмотря на все тяготы столичной жизни, в Петербурге, как выясняется, редки самоубийства и детоубийства. Как и в любом большом городе, в российской столице отмечается уменьшение браков, обязанных «своевольному холостому житью», легкости средств «к удовлетворению чувственных побуждений», женской расточительности, а также немалому числу «злополучных, кои от тайных грехов юности или от <…> неумеренного вкушения из ядоносной чаши Цитеры, чувствуют себя истощенными и уклоняются от жертвенника Гименеева». Нет в Петербурге и «недостатка в жрицах, посвященных службе Пафосской», но, как выясняется, и здесь российская столица на высоте: местные проститутки, по наблюдению Аттенгофера, «менее наглы и своевольны, нежели в других больших городах», так что «тот всегда останется от них безопасным, кто только желает быть таковым», – чего, надо думать, не происходит в европейских столицах.
Примеры такого рода можно множить, но вывод при этом существенно не изменится: на всякий тезис у Аттенгофера есть свой антитезис, причем аксиология стоящих за ними наблюдений варьирует от медицины до социальных порядков. Известно, пишет Аттенгофер, что Петербург «давно <…> почитается обителью всякого рода болезней», и здесь же настаивает, что «пребывание в Петербурге не только не расстраивает здоровье, но даже оному благоприятствует». Петербург не отличается чистотою, городские пустыри весною превращаются в озера, а после – в непроходимые болота, оправдывая «мнение о нездоровом местоположении» столицы. Но тут же замечается, что «если принять в рассуждение дурную мостовую, рыхлый глинистый грунт земли, многочисленную езду и нередко случающееся растаяние в самое короткое время огромной снежной массы, то всякое распространение насчет грязных улиц в Петербурге довольно будет не у места, тем более что со стороны правительства к отвращению сего неудобства употреблены возможные меры». Верно, что «некоторые господа <…> держат при себе в городе множество слуг, но кормят их весьма одно», т. е. скудно и однообразно, но верно и то, что «в новейшие времена рабство в России весьма смягчено и ограничено» благодаря «человеколюбию мудрых Государей и просвещению вельмож. Узы оного не столь теперь тягостны, как в прежние времена и как теперь еще судят о том в других землях, бывших некогда в таком же положении».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































