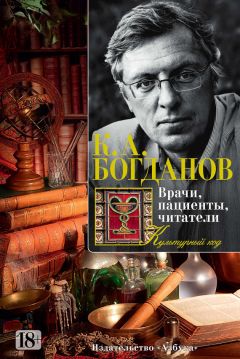
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В 1829 г. князь А. Н. Голицын, интересовавшийся некогда у Баадера об открытиях в области магнетизма, теперь, по свидетельству того же Вигеля, с уверенностью писал княгине А. С. Голицыной о Турчаниновой: «Излечивает она взглядом и начала с горбатых, а теперь лечит и паралитиков, расстроенные нервы, глазные болезни и даже глухонемых; множество девиц из общества приезжают к Турчаниновой для лечения кривобокости. Я спрашивал у Турчаниновой о силе, действующей на этих детей, и она отвечала мне, что ее можно сравнить с насосом, извлекающим жизненную силу в природе, чтоб передать ее посредством взгляда больным» [Вигель 1928: 68, примеч.]. Одной из пациенток Турчаниновой была горбатая сестра мужа А. О. Россет, лечившаяся у нее зимой 1831/32 г. В это время, по воспоминаниям Россет, у Турчаниновой «перебывал весь город». Граф Ф. П. Толстой, художник и вице-президент Академии художеств, лечивший у Турчаниновой своих дочерей, вспоминал, как происходило такое лечение:
«Она, осмотрев недуг ее (старшей дочери Толстого, Лизы, отличавшейся в детстве „не совсем нормальным положением ребер, книзу очень расширяющихся, что сильно искажало ее фигуру“. – К. Б.), сев на стул, поставила Лизу прямо против себя и стала пристально смотреть ей своими удивительно выразительными глазами прямо в лицо. Вначале Лиза побледнела, а минут через 8 или 10, подняв руки кверху, стала сильно тянуться и, не говоря ни слова, подойдя к печке и схватясь за выступ ее <…> стала еще сильнее тянуться. Потом велела принести длинное толстое полотенце и, обернув серединою его кругом себя, где расширялись ребра, велела взять концы его двум сильным служителям и стягивать себя». Лечение продолжалось несколько дней, и «через несколько месяцев ясно стало, что после лечения Турчаниновой ребра стали приходить в более нормальное положение и наконец фигура ее приняла совсем нормальное положение» [Толстой Ф. П. 2001: 211–212]. Младшая дочь Толстого, Маша, также лечившаяся у Турчаниновой, позже описывала это лечение не без юмора [Каменская 1991: 191–195], но, как и в случае с Месмером, у нас нет никаких оснований не доверять многочисленным свидетельствам о том, что магнетическое лечение Турчаниновой обладало терапевтическим эффектом. Основное большинство пациентов Турчаниновой составляли, судя по всему, больные, чьи недуги могли быть вызваны конверсионными процессами истерического характера. Это – контрактуры, расстройства речи и слуха, истерические припадки и т. п. нарушения, которые иногда представляют собою специфический вид психологической «защиты», следствием перевода психотравматического состояния в подсознание. В современной психотерапии такие нарушения нередко устраняются путем суггестивного воздействия на больного, гипнотического внушения, – нечто подобное происходило, судя по всему, и на магнетических сеансах Турчаниновой [Бехтерев 1911: 43–47 (Бехтерев упоминает в этой связи о Месмере])[311]311
Об описанном Фрейдом феномене истерической конверсии в приложении к антропологическому анализу магического врачевания (ритуалов призыва святого) см.: [Арнаутова 2000: 292].
[Закрыть].
В магнетических способностях Турчаниновой наряду со многими современниками был убежден и А. С. Пушкин [Громбах 1989: 140 и след.]. По мемуарному свидетельству А. А. Кононова, Пушкин при встрече с ним «много говорил о Турчаниновой, которая тогда удивляла всех своим глазным магнетизмом; он сказывал, что готовит о том сочинение»[312]312
Библиографические записки. 1859. № 10. Стб. 308.
[Закрыть]. Вполне вероятно, что Пушкин и в самом деле собирался что-то писать на тему магнетизма. В сентябре 1833 г., будучи проездом в Казани, поэт провел вечер в доме университетского профессора медика К. Ф. Фукса и его жены Александры Александровны, вспоминавшей позже, что «в продолжение ужина разговор был о магнетизме. <…> Пушкин старался всевозможными доказательствами уверить нас в истине магнетизма» [Фукс 1899: 261][313]313
О суевериях и мистицизме Пушкина см.: [Штейн 1927: 109–111].
[Закрыть]. Доказательства, приводимые поэтом насчет истины магнетизма, нам неизвестны, но известно, что в том же разговоре он касался явления духов, прорицаний и «многого, касающегося суеверия» и признавался, что «верит многому невероятному и непостижимому» [Фукс 1899: 262].
Общественный интерес к магнетизму в целом, вероятно, объясняется схожим умонастроением. В 1833 г. Гоголь в черновой рукописи «Носа» напоминает о времени, когда «умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма» [Гоголь 1938: 398]. Появляющиеся с середины 1830-х гг. литературные произведения, так или иначе касающиеся темы магнетизма, – первые главы романа А. Погорельского «Магнетизер», роман Н. Греча «Черная женщина» (1834), повесть В. Ф. Одоевского «Косморама» (1840) – диктуются интересом к чрезвычайному и далеки от собственно научной рефлексии на предмет медицинских возможностей месмеризма. Характерно, что Одоевский, сделавший главного героя «Косморамы» поборником животного магнетизма, ни словом не упоминает о самом Месмере, но перечисляет его учеников и реинтерпретаторов, акцентировавших таинственные силы гипнотического внушения и интуитивного прозрения, – Пюисигюра, Делеза, Вольфарта, Кизера [Одоевский В. Ф. 1991: 344][314]314
Занятно, впрочем, что даже у Одоевского, наиболее склонного к спиритуальной интерпретации животного магнетизма, не идет речь об оккультной практике «магнетического» общения с мертвецами и потусторонним миром. Между тем в Европе и особенно в США уже в 1840-е гг. месмеризм фактически предвосхищает спиритизм конца XIX в. [Finucane 1996: 179–180].
[Закрыть].
Помимо магнетизма, еще одной областью научных притязаний натурфилософов в 1830-е гг. становится изучение характера человека по внешнему виду его черепа – учение, нашедшее свое теоретическое обоснование в трудах швейцарского врача Франца Иосифа Галля (1758–1828) и его ученика и соавтора анатома Иоганна Шпурцхайма (1775–1829). В России краниология (как называл свое учение Галль), или френология (название, предложенное Шпурцхаймом) [Groß 1977: 35–52], становится известна уже в начале XIX в.: о «черепословии» швейцарского ученого регулярно сообщается как в специальных, так и общественно-литературных журналах, в частности в «Вестнике Европы»[315]315
См., напр.: Вестник Европы. 1802. № 11. С. 236–241; Снядецкий А. Система д-ра Галля и некоторые примечания об его науке // 1805. № 12. С. 26–56; Там же. 1805. № 12. С. 26–56; 1805. № 16. С. 314; 1808. № 1. С. 55–65; О лекциях доктора Галля по черепословию // Там же. 1811. № 11. С. 230–235; Критическое обозрение системы доктора Галля // Там же. 1814. № 17. С. 33–57. Автор последней статьи, Моро де ля Сарт, опровергает всю систему д-ра Галля, у которого «поверхность головы есть географическая карта, на которой можно определить страны, места и пункты различных склонностей и способностей».
[Закрыть]. В 1816 г. появляется отдельное издание «Исследований о нервной системе вообще и о мозговой в особенности» [Галль 1816]. Наивысшего пика интерес к учению Галля и Шпурцхайма на русской почве достигает в конце 1820-х гг.; он также в значительной степени был связан с популяризацией шеллингианства. Неутомимый Велланский уже в 1819 г. опубликовал составленную им «Физиологическую программу о внешних чувствах, внутренних действиях мозга и наружных очертаниях головы для руководства в приватных лекциях из органической физики» (СПб., 1819). В 1824 г. он намеревается читать публичные лекции по «Галловой краниоскопии», однако уже объявленные лекции были запрещены цензурой как несогласные с христианской религией[316]316
Русский архив. 1864. Стб. 321.
[Закрыть]. С анатомической точки зрения учение Галля служило ученым-натурфилософам дополнительным свидетельством телесного метаморфизма. Сама идея зависимости свойств человеческого характера от специфики анатомического строения человеческого мозга должна быть оценена как революционная для своего времени, поскольку подразумевала не статическую (как это может показаться сегодня), но именно динамическую картину антропогенеза [Hagner 1992: 1–33]. Объявляясь ответственным за все психические функции человека, мозг описывался в терминах френологии как ряд отдельных механизмов, заведовавших интеллектуальными и характерологическими свойствами индивида. В противовес картезианскому постулату о структурной «нерасчлененности» мышления и убеждению сенсуалистов в «неврожденности» интеллектуальных и моральных качеств Галль, с одной стороны, «деструктурировал» человеческое мышление («рассредоточив» его по отдельным участкам мозга), а с другой – придал интеллектуальным способностям физиологический и отприродный статус. И тот и другой тезис станут, как покажет будущее, важнейшими предпосылками исследований в области высшей нервной деятельности [Lesch 1984: 169–170]. Личностные качества выражаются в особенностях внешнего развития мозга, а значит, как полагал Галль, и в особенностях внешнего развития черепа – в наличии соответствующих «шишек», бугров, впадин, картографирование которых позволяет судить об умственных способностях и душевных склонностях их владельца. Строение человеческого мозга выражает, таким образом, потенциальное многообразие свойств и качеств, соприродных человеку и, соответственно, свидетельствует о том, что человек как «анатомическое целое» представляет собою в некотором смысле «незавершенный», «потенциализируемый» объект[317]317
Ошибочность принципиального для Галля и его последователей тезиса о строгом соответствии формы мозга и формы черепа, скомпрометировав френологию как науку, не отменяет плодотворности самого тезиса о локализации мозговых функций в различных частях мозговых полушарий. В историко-научной ретроспективе преемственность френологических и нейрологических идей стала очевидной в 1870-е гг., когда Фритч и Гитциг доказали наличие в различных извилинах мозговых полушарий психомоторных центров, ответственных за различные части тела [Энциклопедический словарь 1902: 731]. О значении френологии в истории европейской медицины и общественной мысли см.: [Cooter 1984].
[Закрыть]. Анатомическая локализация свойств человеческого характера противоречила телесной статуарности прежней анатомии, заставляя видеть в каждом человеке нечто, что отличает его от других людей, а тем самым проблематизируя и то, что вообще может быть названо человеком.
В идеологическом контексте эпохи интерес к френологии, как и ранее к животному магнетизму, выразил, конечно, не только научные, и именно натурфилософские, но и более общие интеллектуальные и психологические тенденции в общественном сознании начала XIX в. В воспоминаниях графа де Лас Каза, бывшего собеседником Наполеона в последние годы его жизни на острове Святой Елены, приводится длинный монолог опального императора в объяснение поразительной моды на магнетизм и френологию: «Человек любит чудесное. <…> Оно имеет для него непреодолимое очарование. Он всегда готов откинуть то, что его окружает, чтобы бежать за вымыслом, и сам отдается тому, что его обманывает. Правда состоит в том, что вокруг нас всё – чудо <…>». Единственный аргумент, который может быть предъявлен с этой точки зрения шарлатанам вроде Месмера и Галля (в их число Наполеон включал также Калиостро и Лафатера), состоит в том, что «всё это возможно, но чего нет, того – нет» («Tout cela peut être, mais cela n’est pas») [Cases de Las 1956: 917–918]. Объяснение Наполеона кажется достаточно простым и, как всякое слишком простое объяснение, недостаточным, но заслуживает своего внимания в терминологическом отношении. Для рационального здравомыслия просветительской традиции, на которую ориентируется Наполеон, месмеризм и френология – понятия, предполагающие религиозную или, что в данном случае одно и то же, квазирелигиозную контекстуализацию. Месмер, Галль, Лафатер и Калиостро искушают тем, чего нет, но что могло бы быть.
Опыту эмпирического факта месмеризм и френология противопоставляют опыт желания, воображения и фантазии [Barkhoff 1995; Lachmann 2002: 166–170; Hall 1977: 305–317; Oehler-Klein 1990]. Неудивительно, что, как и в случае с месмеризмом, учение Лафатера, а затем новизну френологических характеристик оценят интеллектуалы, предрасположенные к радикальному обновлению объяснительных и изобразительных парадигм в науке, литературе и искусстве. Ценные наблюдения Эдмунда Хайера, связавшего дискурсивные приемы психологизации в русской литературе XIX в. с популяризацией «Физиогномических фрагментов» Лафатера [Heier 1993][318]318
Об инерции авторизованного Лафатером физиогномического портретирования в европейском романе XIX в. см.: [Tytler 1982].
[Закрыть], представляются в данном случае тем оправданнее, что в интеллектуальном контексте второй четверти XIX в. имена Лафатера и Галля оцениваются применительно к взаимосвязанным идеям[319]319
См., напр.: [Куторга 1845, 1–32].
[Закрыть]. Очевидное усложнение типологизирующего портретирования явилось при этом не только результатом адаптации, но и процессом ревизии теорий физиогномики и френологии. В области медицины пересмотр концепций Галля и Шпурцхайма происходит начиная с 1840-х годов: известный в это время профессор анатомии Казанского университета Е. Ф. Аристов настаивал, к примеру, что характер человека проявляется не только в форме его черепа, но и в телосложении – динамической комбинации анатомических характеристик, исключающей готовую характерологическую классификацию [Аристов 1848: 3–10; Аристов 1853: 3–45]. В области литературы определенность физиогномических и френологических характеристик, столь характерная еще для литературы конца XVIII в., также сменяется описаниями, акцентирующими не простоту, но сложность, – таково, например, хрестоматийное портретирование загадочного доктора Вернера в «Княжне Мэри» М. Ю. Лермонтова (1840): «Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей» [Лермонтов 1957: 269][320]320
Традиция таких, оппонирующих к «френологическим» правилам, характеристик оставалась популярной и позже; см., напр., описание главного героя у Н. С. Лескова в рассказе «Овцебык» (1862): «Всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему» [Лесков 1956: 31].
[Закрыть].
Патологоанатомия и революция
Vive la mort! vive la mort! vive la mort!
В. С. Печерин. Торжество смерти, 1837
В 1817 г. ученым комитетом, созданным при реорганизованном министерстве духовных дел и народного просвещения и ведавшим утверждением книг и учебных пособий, была принята инструкция, предписывавшая «наблюдать, чтобы в руководства по физиологии, патологии и сравнительной анатомии не вкрадывалось учение, низвергающее духовный сан человека, внутреннюю его свободу и высшее предопределение к будущей жизни» (цит. по: [Сухомлинов 1889: 197]). Практическое приложение анатомических и физиологических знаний и, в частности, патолого-анатомическое вскрытие умерших оказывалось в этом контексте, естественно, не только – и даже не столько – научной, сколько идеологической проблемой. Н. И. Пирогов вспоминал в старости 1820-е гг., «когда хоронились на кладбищах с отпеванием анатомические музеи (в Казани, во времена Магницкого) и когда был поднят в министерстве народного просвещения или в министерстве внутренних дел вопрос: нельзя ли обходиться при чтении анатомических лекций без трупов» [Пирогов 1916: Стб. 409][321]321
См. также: [Grmek 1970: 312]. Директор Казанского университета Владимирский, настаивая на погребении тел, хранившихся при анатомическом театре, взывал к христианским добродетелям и народным традициям: «Здесь торжественно издеваются над прахом усопших, чего и язычники не делали. Нет пощады народным уважениям, трепещет христианское сострадание: какое же впечатление воспитанникам и какое зрелище для тех, кои и без того почитают медицину варварской наукою?» [Сухомлинов 1889: 229].
[Закрыть]. Упомянутый Пироговым Михаил Леонтьевич Магницкий, бывший с 1819 по 1826 г. попечителем Казанского учебного округа, в составленной им «Инструкции ректору» Казанского университета (утвержденной 17 января 1820 г.) обязывал профессоров врачебных наук «принимать всевозможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм именно оттого, что наиболее премудрость Божию открывает; студенты должны быть предостережены насчет сего ужасного заблуждения» (цит. по: [Загоскин 1894: 7–8]). По проекту цензурного устава 1823 г., написанному тем же Магницким, цензура Медико-хирургической академии объединялась с комитетом общей цензуры, обязанным отныне рассматривать медицинские сочинения «в отношении нравственном» – ибо «могут ли не подлежать строжайшему надзору творения медицинские, в коих рассуждения о действиях души на органы телесные и о возбуждении в теле различных страстей подают обильные способы к утверждению материализма самым косвенным и тонким образом?» (Проект мнения о цензуре вообще и началах, на которых предполагает цензурный комитет составить оный устав; цит. по: [Сухомлинов 1889: 468]). В 1826 г. составленный Главным управлением училищ под руководством министра народного просвещения адмирала Шишкова и высочайше утвержденный цензурный устав выделил медицинские науки в особый параграф (§ 193), предписывая следить, «чтобы вольнодумство и неверие не употребило некоторые из них орудиями к поколебанию или по крайней мере к ослаблению в умах людей неопытных достоверности священнейших для человека истин» [Скабичевский 1892: 215].
Пусть и запоздалые для своего времени страхи Магницкого не были случайными. В 1818 г. Александр Стурдза составил «Записку о нынешнем положении Германии» (Mе́moire sur l’е́tat actuel de l’Allemagne) – сочинение, которому суждено было стать своеобразным манифестом правительственного консерватизма в сфере образования, – специально останавливаясь на причинах, способствовавших распространению в немецких университетах пагубы либерализма и революционной анархии. Одна из таких причин – преподавание медицины в качестве науки, претендующей проникнуть в сокровенные тайны человеческой природы и игнорирующей в этой претензии опыт Церкви [Петухов 1902: 339]. Схожие опасения высказывались и позже, причем не только в России[322]322
Так, например, Фридрих Шлейермахер, один из крупнейших деятелей в истории протестантизма, писал в 1829 г. к Люкке: «Если вы посмотрите на современное состояние естествознания, как оно все больше и больше охватывает своими проницательными исследованиями весь мир, – что тогда можете вы предчувствовать насчет будущей участи – не хочу сказать богословия, а нашего евангельского христианства? Мне сдается, что нам приведется отказаться от многого, что многие привыкли мыслить как нечто неразрывное с сущностью христианства» (цит. по: [Немецкая интеллигенция 1875: 111]).
[Закрыть]. Идеологизация медицинского знания определяется при этом, однако, не только научными идеями, но и теми символическими ассоциациями, которые заставляют видеть в ней область знания, репрезентирующего политическую мысль и социальную практику европейского Просвещения, революции и всеразрушающего либерализма. О неравнодушии власти к метафорическим аналогиям между революцией и медициной наглядное представление дает уже высочайшее повеление Павла I (1797) «об изъятии некоторых слов и замене их другими». Среди не устраивавших императора слов, имевших несомненно инновативные общественно-политические коннотации («общество», «гражданин», «отечество» и др.), в указе называлось и слово «врач» – слово исконно русское, но также ассоциировавшееся с европейской политической мыслью и революционной фрондой [Высочайшее повеление 1797 года 1871: 531–532; Скабичевский 1892: 84][323]323
А. С. Пушкин вспомнит этот указ в «Послании цензору» (1822): «Старинной глупости мы праведно стыдимся, / Ужели к тем годам мы снова обратимся, / Когда никто не смел отечество назвать, / И в рабстве ползали и люди и печать?» [Пушкин 1937–1949: Т. 2, 270]. См.: [Виноградов 1938: 193]. В те же годы «Словарь Академии Российской» предлагал в качестве синонимической замены к иностранному слову «анатомик» (анатомист) неологизм «трупоразъятель» [Словарь Академии Российской 1794: 301].
[Закрыть]. Интерес просветителей к анатомическим (и вообще медицинским) исследованиям служил одним из очевидных примеров процесса секуляризации[324]324
См. исследование, специально посвященное изменениям в отношении к смерти в эпоху Просвещения: [McManners 1981]. Макманнерс между прочим справедливо критикует предложенный Вовелем термин «дехристианизация», как нерелевантный характеру идеологических изменений в представлениях о смерти в описываемую эпоху [McManners 1981: 440–444].
[Закрыть]. Кроме того, метафоры анатомии оказывались вписанными в контекст революционной риторики об обществе и власти. Общество представляется механизмом, чье функционирование аналогично функционированию тела: его работа зависит от согласованности составляющих его деталей – внешних и внутренних органов (ср. выражение «член общества»), и оно, так же как и тело, подлежит «анатомическому» объяснению, медицинской заботе и, в экстренных случаях, хирургическому вмешательству.
Эвристическое сравнение человеческого тела и общественного мироустройства стало началом медикализации социального – и в то же время социологизации медицинского – дискурса [Guildin 2000]. Для общественной мысли Европы подобное сравнение было идеологически декларативным уже ко второй трети XVIII в. – медицинские статьи «Энциклопедии» прочитываются как общественно-политические манифесты их авторов (например, у Дидро), а моральные и философские размышления обставляются медицинскими метафорами (например, у Вольтера) [Bailey 1917: 54–74; Barraud 1950: 49–53; Enchorn 1983: 95–115; Lebrun 1983]. Просветители реабилитировали в общественном мнении человека-машину, физическую механику социальной жизни [Duschesneau 1952: 185–193], события Французской революции придали этой реабилитации политический контекст, заставляющий воспринимать индивидуальное тело как элемент гораздо более общей «телесной» структуры. Такой структурой, по отношению к которой индивидуальное тело теряет свою автономию, является прежде всего общество и, соответственно, своего рода коллективная телесность. Частное тело подчиняется телу коллектива, но тем самым и «теряется» ввиду своей социативности – растворяется во множестве других тел, заслоняется «общим телом» коллектива. В России адаптация той же риторики происходит позже, но также на волне просветительской литературы. Николай Новиков («первый бесспорный интеллигент» в России, как назовет его Ричард Пайпс [Пайпс 1980: 341]), высмеивает пороки невежества и обскурантизма на страницах «Живописца» и прибегает к медицинской терминологии, предлагая рецепты сатирического «Лечебника» (1772) для тех, кто «болен» несправедливостью, недоумием, бессердечием, лестью и другими моральными и идеологическими недугами. В «Уединенном пошехонце» (1786) поочередно публикуются наставления по изготовлению «симпатического бальзама» («останавляет тошноту, возбуждает аппетит, излечивает чирьи в легком, боль кишечную, понос; укрепляет грудь, спомоществует варению желудка, убивает глисты»)[325]325
Бальзам симпатический // Уединенный пошехонец 1786. С. 201.
[Закрыть], терапевтические рассуждения о вреде страстей для телесного здоровья и морализующая фантазия о «нравственной аптеке», содержащей «эликсир против самолюбия», пилюли от бранчливости, капли против скупости, «крепительный порошок на излишное позывание к пустословию», «едучий пластырь для восчувствование стыда», «состав из благорассуждения на вредное подстрекание к модам», «питательный декохт из трав полезного упражнения к добродетели для одержимых праздностью и легкомыслием» и т. п.[326]326
Уединенный пошехонец 1786. С. 677–694.
[Закрыть] Екатерина II вспоминает о медицине в журнальной полемике с Новиковым. Умонастроение своего оппонента императрица приравнивает к поведению одержимого болезнетворной горячкой:
Человек сначала зачинает чувствовать скуку и грусть, иногда от праздности, а иногда и от читания книг: зачнет жаловаться на все, что его окружает, а наконец и на всю вселенную. Как дойдет до сей степени, то уже болезнь возьмет всю свою силу и верх над рассудком. Больной вздумает строить замки на воздухе, все люди не так делают, а само правительство, как бы радетельно ни старалось, ничем не угождает. Они одни, по их мыслям, в состоянии подавать совет и все учреждать к лучшему[327]327
Цит. по: [Новиков 1951: 59].
[Закрыть].
Замечательно, что «диагноз», поставленный Екатериной Новикову, в конце XVIII в. допускал не только метафорическое истолкование. Убеждение в том, что безделье и чрезмерное увлечение чтением (что, конечно, тоже своего рода безделье) является если не причиной, то во всяком случае достаточным поводом, чтобы лишиться и физического, и умственного здоровья, разделялось и современными ей учеными-медиками. Особенную роль в популяризации этого убеждения сыграет уже многократно упоминавшийся выше швейцарский врач Самюэль Тиссо (1728–1797), автор влиятельных в конце XVIII в. исследований, посвященных вопросам гигиены и правильного питания. В 1787 г. в Петербурге будет издан перевод трактата Тиссо «О здравии ученых людей» (1766), предваряющийся характерным эпиграфом из Плиния «Болезнию и то почитается, чтоб умереть от наук». В содержательном плане сочинение Тиссо читается как подтверждение правоты эпиграфа. «Болезни ученых», по мнению Тиссо, «имеют два главные источника: неусыпные ума томления и всегдашняя тела недвижимость». Пагубные последствия этих источников весьма многообразны, а их свидетельства очевидны – от жестоких колик (приключившихся, между прочим, с одной женщиной, которая «хотела умом что-нибудь сделать») до обмороков (в которые впадал «один заслугами славный муж», «как скоро было станет со вниманием слушать какую-либо историю или хотя маловажную повесть») [Тиссот 1787: 18, 23, 24][328]328
Переводчиком трактата Тиссо был Александр Шумлянский. Первое издание книги Тиссо (на латинском языке) появилось в 1766 г.; после ее перевода на французский в 1768 г. (De la santé des gens de lettres) последовали ее многочисленные переиздания, сделавшие ее настоящим бестселлером читающей Европы [Vila 1998: 94–107]. Анонимный стихотворец масонского журнала «Вечерняя заря» (1782) иронизирует насчет опасностей, подстерегающих «ученых людей», в «рондо», посвященном бесполезности наук: «Какая прибыль в том? Какая тут находка, / Что с разумом придет горячка иль чахотка, / Иль будет в голове иметь жестокий лом? / Вот то-то хорошо! Какая прибыль в том?» (Вечерняя заря. 1782. Ч. I, апрель. С. 344). Н. Карамзин в повести «Рыцарь нашего времени» (1802) выведет двух персонажей, один из которых – юноша Леон, страстный любитель чтения, а второй – некий «важный доктор», принципиальный противник чтения. Пока «душа Леонова плавала в книжном свете, как Христофор Коломб на Атлантическом море, для открытия… сокрытого», доктор призывает читателей оградить от чтения хотя бы своих детей: «Губите себя вашими книгами и романами! <…> Но оставьте в покое недовершенное произведение натуры; не воспаляйте воображение детей; дайте укрепиться молодым нервам и не приводите их в напряжение, если не хотите, чтобы равновесие жизни расстроилось с самого начала». Карамзин, однако, солидарен не с врачом, а со своим (автобиографическим) героем: «Сие чтение не только не повредило его (Леона. – К. Б.) юной душе, но было еще весьма полезно для образования в нем нравственного чувства» [Карамзин 1964: Т. 2. 765, 772.].
[Закрыть]. В дальнейшей истории России власть будет привычно объявлять больными (и в частности – сумасшедшими) тех «читателей», кто ей так или иначе противостоит, – диссидентов и революционеров, маргиналов и чудаков, а те – считая себя «здоровыми» – будут диагностировать болезни власти и общества. Благодаря вымышленному Чацкому и невымышленному Чаадаеву образ «читателя-себе-во-вред», умника, объявляемого окружающими его староверами умственно больным, сделается для русской литературы нарицательным: если ограничиться только прямыми подражаниями комедии Грибоедова, к началу XX в. ее сюжет послужил основой по меньшей мере пятнадцати произведений. По хронологическому перечню С. Фомичева это – «Горе от безумия» Н. Сандунова (1830), «Ум не помога» П. Волкова (1831), «Недовольные» М. Загоскина (1831), «Расстроенное сватовство, или Горе от ума и горе без ума» А. Федосеева (1839), «Утро после бала Фамусова, или Все старые знакомцы» М. Воскресенского (1844), «Сумасшедший» А. Жемчужникова (1852), «Заговорило ретивое» П. Григорьева (1851), «Женатый жених» М. Загоскина (1851), «Людские толки» Н. Ермолова (1853), «Силуэты» В. Попова (1856), «Возврат Чацкого в Москву» Е. Ростопчиной (1865), «Прокаженные и чистые» П. Боборыкина (1871), «Горе от ума» М. Ярона (1881); «Горе от ума через 50 лет после Грибоедова» В. Куницкого (1883), «Миллион терзаний» П. Вейнберга (1895) [Фомичев 1983: 200, примеч. 1]. В общем же виде сюжетные коллизии «Горя от ума» нашли свое выражение в многочисленных произведениях классической русской литературы XIX в., настойчиво адаптировавшей медицинскую, и в частности психиатрическую, проблематику к языку литературы.
Риторико-эпистемологическое соотнесение тела и общества, с одной стороны, и болезни/здоровья и политического порядка/беспорядка – с другой, было бы, конечно, неверно возводить исключительно к Просвещению. «Медико-политические» аналогии, как и истоки самой политической теории, с несомненностью восходят к Античности: так, уже Платон называет человека полисом, в котором сталкиваются противоборствующие силы; Алкмеон из Кротона сопоставляет телесное здоровье с равноправием, а болезнь – с монархией, тиранией одного элемента над другим [Видаль-Наке 2001: 278, 280]. Плутарх, анализируя причины прихода к власти Юлия Цезаря, напоминает о мнении «многих», осмеливавшихся публично говорить, что «передача власти в руки одного лица была единственным средством излечить болезни республики» («Цезарь», XXXI). Просветители, однако, не только возрождают соответствующие аналогии, но придают им амбивалентный смысл. В произведениях Руссо (почти все они, стоит заметить, были переведены в XVIII в. на русский язык) здоровое общество подобно здоровому человеку, но именно поэтому индивид, входящий в это общество, не является самостоятельным субъектом: он – член политического тела (membre de corps politique). Естественные права, которые дарованы человеку от природы, объединяя его с другими людьми – членами коллектива, являются поэтому также не индивидуальными, но общественными и потому оправдывающими общественную диктатуру [Лотман 1967: 214 и след.][329]329
Об отношении Руссо к медицине и ее роли в дискурсе руссоизма: [Rudolf 1969: 30–67]. В России «медико-политическая» терминология Руссо находит своего популяризатора, в частности, в Фонвизине. В «Рассуждении о непременных государственных законах» Фонвизин, вослед «Общественному договору» Руссо, пишет о дворянстве, которое должно «корпусом своим представлять нацию» [Фонвизин 1959: 265]. См. также: [Лотман 1967: 250–253].
[Закрыть]. В риторике Французской революции, творцами которой в конечном счете становятся именно читатели «Энциклопедии» и Руссо (один из таких «читателей» – Жан-Поль Марат – был не только врачом по образованию, но и автором специальных медицинских исследований [Riguez 1908]), соотнесение медицинских и социологических понятий предстает уже дискурсивно оформленным и в определенном смысле – реализованным на практике. В глазах современников одним из символов такой практики служит новшество, обязанное своим изобретением профессору анатомии и названное его именем, – гильотина (1789). Теперь выясняется, что для оздоровления общества власть может просто ампутировать его больные органы – головы тех, кто представляет угрозу обществу и революции[330]330
Замечательно, что Жозеф Гийотен специально подчеркивал простоту и медицинскую эффективность своего изобретения (un simple mécanisme), избавлявшего жертву от излишних страданий. По злой иронии судьбы Гийотену доведется на собственном опыте испытать эффективность изобретенной им машины. Вопрос о том, насколько безболезненен и, соответственно, анатомически «гуманен» процесс гильотинирования, будет занимать французских врачей и впоследствии [Janes 1993: 252].
[Закрыть]. Представление о человеческом теле как о сумме работающих деталей распространяется на представление о человеческом общежитии, но представление о «кризисе» (resp. «революции») оказывается при этом открыто не только негативной оценке. Если для больного тела кризис может стать условием, предопределяющим выздоровление, то и для больного общества революция может стать переломом, сулящим избавление от былых недугов.
Помимо анатомических и «психиатрических» метафор, призванных прояснить социальную структуру и политическую жизнь общества, русская публицистика и общественная мысль конца XVIII в. активно риторизует фигуру «заразы», «эпидемии», распространяемой болезнетворной Европой. Истоки соответствующего сравнения обнаруживаются задолго до XVIII в. – в истории отечественной общественно-политической мысли к нему обращался уже Юрий Крижанич в трактате «Политика», один из разделов которого (21-й) озаглавлен: «О трех основных болезнях, коими немцы (под „немцами“ при этом подразумевались не только немцы, но и вообще европейцы – лютеране и католики. – К. Б.) заражают другие народы». «Следует назвать три главных заразы, – писал в нем Крижанич, – коими немцы (словно тремя болезнями или моровыми поветриями) более всего заражают и нас, и иные соседние с ними народы. Болезни эти суть: первая – ересь, вторая – расточительство, третья – разрушение самовладства» [Крижанич 1965: 543][331]331
Текст оригинала: [Крижанич 1965: 196]. О значении и роли трактата Крижанича см. предисловие к английскому изданию: [Letiche, Dmytryshin 1985].
[Закрыть]. Рассадник новой «заразы» – революционная Франция. В 1789 г. граф М. И. Воронцов зловеще предупреждает своего адресата, что «зараза (революции. – К. Б.) будет повсеместной. Наша отдаленность нас предохранит на некоторое время; мы будем последними, но и мы будем жертвами эпидемии»[332]332
Архив князя Воронцова. Т. IX. С. 267. – Цит. по: [Штранге 1956: 72].
[Закрыть]. Столь же «медицинским» пониманием революции пользуется князь А. Белосельский: «Вероятно, эта бунтарская болезнь является действительно заразной» [Штранге 1956: 72]. Отношения между государствами аналогичны контакту тел и распространению болезней: «Вихрь антихристанского и якобинского клуба вскружил некоторым головы и [влил] яд в тучные жилы нашего тела» [Штранге 1956: 170]. Риторика, объединяющая медицину и политику, останется продуктивной и после событий революции, а ее употребление будет предполагать контекст, напоминающий о самой возможности социального и политического радикализма. В 1803 г. автор напечатанного в «Вестнике Европы» критического обзора политических событий (скорее всего, что этим автором был сам редактор журнала – Н. М. Карамзин) восторженно оценивает деятельность Наполеона именно как усмирителя революции, гениального контрреволюционера, чья контрреволюционная деятельность оценивается, однако, в уже знакомых медицинских терминах. Наполеон здесь сравнивается с врачом, а общество – с пациентом: «Он, умертвив чудовище революции, заслужил вечную благодарность Франции и даже Европы. В сем отношении будем всегда хвалить его как великого Медика, излечившего головы от опасного кружения»[333]333
Взор на прошедший год // Вестник Европы. 1803. № 1. С. 79.
[Закрыть]. Пятнадцатью годами позже П. А. Вяземский в письме к Александру Тургеневу будет писать, обсуждая возможности заимствования Россией европейских политических теорий: «В Англии учиться труднее, чем во Франции; там задачи уже разрешены, а там их еще решают. <…> Англии один остается случай: служить практическим примером в час ее разрушения; тогда придем ее анатомить и открывать сокрытые болячки и раны. Наблюдения над человеческим телом делаются, когда это тело еще зародышем или уже трупом» [Остафьевский архив 1899: 162]. Не увеличивая число подобных примеров, стоит подчеркнуть, что общность медицинских и политических метафор выражает собою в этих случаях не просто и не только риторическое, но также содержательное сравнение медицины и политики в границах единого дискурсивного пространства.
Риторическое «взаимоналожение» медицинской и социологической терминологии следует считать при этом продуктивным как в политическом, так и собственно научном плане. Политическая метафорика медицинского знания получает свое развитие, в частности, в кружке Новалиса, считавшего возможным описывать любую болезнь в терминах революции [Anz 1990: 137–138]. Схожий образ находим у Ксавьера Биша: здоровье – это «тишина органов», болезнь – их мятеж [Sontag 1990: 44]. В России те же сравнения станут привычными к 1820-м гг., выразившись в популярности определения заимствованным из европейских языков медицинским понятием «организм» явлений государственного и общественно-политического порядка и, в частности, в переосмыслении термина «кризис», употреблявшегося первоначально только в сфере медицины, но к 1830-м гг. получающим общественно-политическое значение [Веселитский 1964: 93][334]334
См. приводимый автором пример из газеты «Московский вестник» (1827. № 3): «Вещественное благосостояние человека составляет только часть того сложного организма, который мы называем порядком общественным, и вопросы, к нему относящиеся, должны быть в связи, во всех отношениях, с прочими частями системы сего организма» (Там же).
[Закрыть]. История государства отныне будет привычно изображаться историей государственного организма. Но где есть организм, там есть и история его болезней – процесс взросления, старения и, как можно предположить, процесс умирания и смерть. Замечательно, однако, что в этом – последнем – звене литература корректирует физиологию. Предполагается, что общество, как и мир вообще, способно к регенерации, к возрождению, а залогом такого возрождения может стать именно «кризис» (resp. «революция»). В. С. Печерин в поэме «Торжество смерти» (1837) будет воспевать смерть как грандиозное обновление мира. «Смерть – прекрасный юноша на белом коне. На плечах его развевается легкая белая мантия, на темно-русых кудрях венок из подснежников». Народы встречают появление смерти ликованием («Vive la mort! vive la mort! vive la mort!») и гимном ей как «новому богу младой вселенной» – «богу свободы, богу движенья, вечного преображенья»[335]335
Публикация текста: [Бобров 1902: 30–54]. См. также: [Гершензон 1910; Сакулин 1924: 93–100]. Ф. М. Достоевский в «Бесах» сделает автором поэмы схожего содержания либерала-краснобая Степана Верховенского. Бобров и Сакулин не сомневались, что примером для Достоевского в данном случае послужила именно поэма Печерина (хотя у Верховенского поэма заканчивается не торжеством смерти, но следующим за ней «праздником жизни», П. Сакулин не исключал, что таким же могло быть развитие действия и в поэме Печерина) [Сакулин 1929: 101].
[Закрыть]. Помимо вполне очевидных претекстов печеринской поэмы (вторая часть «Фауста» Гёте и, возможно, мистерия А. В. Тимофеева «Последний день», 1834), в конце 1830-х гг. ее читатели могли ориентироваться не только на литературные, но также на изобразительные прецеденты апокалиптических видений. Примером такого рода для самого Печерина мог служить «Последний день Помпеи» Брюллова (1833) – грандиозный образ гибели отжившего языческого мира и прозреваемого за ним торжества христианства.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































