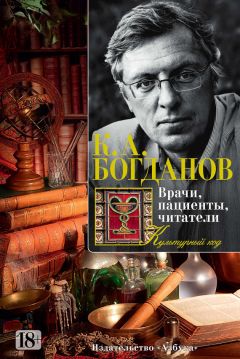
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В ретроспективе традиций предшествующей эпохи натурфилософский интерес к анатомическим исследованиям предстает закономерным выражением тех идеологических трансформаций, которые наблюдаются в отношении к теме смерти начиная с эпохи Просвещения. Просветительский пафос аналитического (собственно анатомического) исследования природы уступает романтическому пафосу металогического синтеза. В 1825 г. Михаил Павлов публикует в журнале «Мнемозина» статью «О способах объяснения природы». Вослед Окену (чей портрет открывал номер журнала) Павлов излагает принципы натурфилософской редукции и в качестве примера приводит силлогизм, призванный объяснить логическое соотношение общего, частного и особого: «Разум, рассматривая людей как особых, находит во всех нечто общее и это общее есть человек, как понятие, или как вид (specie); рассматривая человека вообще, находит, например, что он смертен. Смертность в сем случае будет высшее понятие, следовательно общее; человек будет в отношении к нему частное; сказать: человек смертен будет суждение; но в понятии: человек не видно особых. Человек как вид (specie) не умирает; умирают люди, как особые (individua), потому разум общее старается свести на особое посредством частного, или особое подчиняет общему посредством частного» [Мнемозина 1825: 26–27]. Ввиду (психо)логической стратегии, подчиняющей особое «общему посредством частного», «человек как вид» равно представлялся сферой физиологической или даже попросту телесной комбинаторики (буквализованным гротеском такой комбинаторики как раз-таки и служит созданный Франкенштейном «человеко-труп»), но также – сферой таинственной экзистенциальной медиации, связывающей тело и труп, жизнь и смерть. Анатомия корректирует философские прозрения о единстве органической и неорганической природы и служит практическим способом к познанию первоэлементов и законов этого единства. Исследовательским объектом анатомии по-прежнему остаются трупы («базовая форма тела для медицины», говоря словами Бодрийяра [Бодрийяр 2000: 216]), но налицо и новое. Анатом-натурфилософ ориентируется на изучение мертвых тел, но пафосом этого изучения отныне выступает интерес к функционированию тела вообще, интерес к механике тела, сопротивляющегося смерти. Традиционное внимание анатомии к мертвому телу приобретает в контексте шеллингианства инновативную гносеологическую перспективу. Патолого-анатомические манипуляции «медикализуют» смерть, но также мистифицируют и «виртуализуют» ее, наделяя мертвое тело неведомой ранее информативностью. Для натурфилософа мертвое тело и, соответственно, смерть интересны не сами по себе, но «подытоживаемой» ими жизнью. «Труп молчит, или дает обеты, которые лишь приводят в сомнение о действиях жизни», – пишет Одоевский [Одоевский В. Ф. 1913: 54]. Больной и мертвый организм интересен как проявление всеобщей метаморфичности, органической эволюции, «с точки зрения» которой и болезни, и сама смерть – фаза единого жизненного процесса, аксиоматически удостоверяющего свою недискретность и континуальность в феноменальном многообразии природного мира. Одоевский, при всей своей индивидуальной незаурядности, демонстрирует поэтому вполне характерное умонастроение своего поколения, видящего в анатомии не только стратегию «рассечения», но и стратегию «вос-соединения» – установление «общих» законов, призванных обнаружить априоризм природного единства[288]288
Заметим, что общефилософская позиция Одоевского схожа с позицией Гёте, также отдавшего дань анатомическим исследованиям; см.: [Bardeleben 1892: 163–180].
[Закрыть].
В «Русских ночах» Одоевский ссылается на сравнительную анатомию Каруса – сочинение, совершившее, по его словам, перелом в его понятиях об организме, – выделяя поразившую его мысль, что настоящий элемент живой природы есть жидкость. Но если это так, рассуждает Одоевский, то неорганическая природа, содержащая этот элемент, есть сама произведение органической природы [Сакулин 1913: 485–486]. Вослед Антуану Лавуазье, открывшему, что дыхание есть результат сжигания кислорода, и Луиджи Гальвани, постулировавшему жизненесущую электрическую силу мертвых тел, тезис о единстве органического и неорганического мира перестанет казаться фантастическим, когда Ф. Веллер продемонстрирует в 1828 г. возможность синтезирования мочевины в лаборатории. Пройдет еще несколько лет, и открытие клетки Матиасом Шлейденом и Теодором Шванном в 1838–1839 гг. подтвердит правоту натурфилософских прозрений об изоморфизме живой и неживой природы [Jacina 1990: 164–167]. Философ, не желающий считаться с единством мира, подобен врачу, который интересуется лишь проявлениями, но не источником болезней [Одоевский В. Ф. 1913: 53–54]. Павлов полагал, между прочим, что в этом-то и состоит основа расхождений между «врачами-эмпириками» и «врачами-философами»: врачи-эмпирики, по Павлову, совершают ту ошибку, что, «рассматривая тело животное как машину своего рода, отдельно от природы, теряются в нем как в лабиринте; для них всякое явление в теле есть явление отдельное. <…> Для врачей-философов тело животное есть сокращенный физический мир, микрокосм, действующий по одним законам с миром общим, макрокосмом» [Павлов М. 1831: 10–11][289]289
Отождествляя философию с медициной, а телесный «микрокосм» с природным «макрокосмом», Павлов бессознательно повторяет излюбленную уже масонами идею о соответствии человеческих «стихий» стихиям «внешней натуры». Риторика масонских трактатов конца XVIII в. буквально предвосхищает язык натурфилософии: «Никто не может быть истинным медиком, не сделавшись прежде истинным философом. Ибо из истинной философии почерпаются познания макрокосма, без основательного познания коих нельзя быть врачом. <…> Что происходит в микрокосме, то же самое творится в макрокосме» (Amor proximi. Л. 11, 16. – цит. по: [Вернадский 1917: 149, 212]. Среди подразумеваемых Павловым «врачей-эмпириков» следует, вероятно, видеть профессора Московского университета М. Я. Мудрова (слушавшего вместе с Велланским Шеллинга в Вюрцбурге в 1803 г.), профессора Московского университета и московского отделения Медико-хирургической академии И. Дядьковского и профессора Петербургской медико-хирургической академии К. Удена. Все названные медики (современники Павлова) были убежденными защитниками эмпирических методов в медицине и критиками шеллингианства и натурфилософии [Философия Шеллинга в России 1998: 346–350].
[Закрыть].
Магнетизм и черепословие
В объяснение связи между органической и неорганической природой, сознанием и телом, микрокосмом и макрокосмом Велланский и его последователи с готовностью обращаются к новейшим универсалистским теориям и особенно неравнодушны к учению о «животном магнетизме» Франца Антона Месмера (1734–1815). Учение о животном магнетизме, в том виде, как его изложил сам Месмер, не представляло законченной теории. В изданном в 1766 г. 48-страничном трактате о влиянии планет на человеческое тело (Dissertatio Physico-Medica de Planetarum Influxu), цитировавшем и лишь незначительно перефразировавшем работу английского врача Ричарда Мида (De Imperio Solis ас Lunae in Corpora Humana et Morbis Oriundis, 1704)[290]290
Месмер пользовался вторым дополненным изданием книги Мида 1746 г. [Pattie 1956: 275–287].
[Закрыть], Месмер заявил о зависимости человеческого самочувствия от взаимопритяжения Земли и Луны. Подобно тому как временны́е циклы в притяжении Луны и Земли сказываются в приливах и отливах океана, человек, по мысли Месмера (а точнее – Мида), должен испытывать то же влияние на уровне физиологических и нервных процессов организма, испытывая «животную гравитацию» – «приливы» и «отливы» объединяющей мир субстанции. Наблюдение за этой субстанцией (аналогию которой Месмер первоначально видел в электричестве, привычно объяснявшемся в его время в терминах жидкостного процесса: см. этимологию самих слов фр. courrant, англ. currency, нем. Strom, рус. «ток» – во всех случаях от глагола «течь») позволяет контролировать состояние человеческого организма. Возможность такого контроля Месмер вверял тем (и в первую очередь – себе самому), кто в состоянии самопроизвольно «накапливать» и «перераспределять» количество «межпланетного» флюида. Спустя несколько лет Месмер найдет новую аналогию для его определения. В двадцати семи тезисах опубликованной в 1779 г. «Записки об открытии животного магнетизма» (Mе́moire sur la decouverte du magnetisme animal) притяжение, связывающее планеты и людей незримой силой, получило свое объяснение в терминах «магнетизма»: будучи частью природы, человек включен в процесс органической взаимосвязи с внешним миром посредством всепронизывающего и взаимопритягивающего (по аналогии с магнитным притяжением) «основного агента», производящего в человеке явления, сходные с явлениями природного магнетизма, – напряжение, отталкивание, уклонение. Нарушение процессов жизнедеятельности человека указывает на особенности силы воздействия «основного агента» на человека и требует корректировки ее перераспределения – восстановления разбалансированной «полярности», соответствующего «уклонения» и т. д. Способ необходимого лечения, практикуемого Месмером, заключался при этом в направленном воздействии на больной организм тактильного, визуального или даже просто мысленного источника «магнетизма»[291]291
О Месмере и его учении подробнее см.: [Pattie 1994: Darnton 1964]. Собрание переводов сочинений Месмера на английский язык см.: [Mesmerism 1980].
[Закрыть].

Рис. 9. Ф. А. Месмер. 1784 г.
В Париже, куда Месмер переезжает из Вены в 1777 г., учение о животном магнетизме было воспринято всерьез и стало устойчивым предметом общественных пересудов. Предпочитая практику коллективных сеансов и весьма склонный к театральности, Месмер обставлял свою деятельность поражавшими современников атрибутами. Главным из них был изобретенный Месмером столообразный чан («baquet») с торчащими сквозь его крышку металлическими стержнями. Внутри чана стержни крепились в бутылках, заполненных «намагнитизированной» водой[292]292
Сохранившийся baquet Месмера экспонируется в Музее истории медицины университета Клода-Бернара (ил. см.: L’ame au corps. Arts et sciences. 1793–1993 / Catalogue réalisé sous la direction de J. Clair. Callimar, 1994. P. 156–157).
[Закрыть]. Пациентам предлагалось прикасаться к стержням «баке» (особенно теми частями тела, которые нуждались в непосредственном лечении), а также друг к другу, чтобы сила магнетизма, содержащаяся в чудотворном чане, равномерно распределилась по всем участникам сеанса. В то время как пациенты держались за стержни «баке», Месмер торжественно прикасался «магнитизированным» жезлом к чану и «передавал» ему и держащимся за него пациентам силу магнетизма. Иногда не требовалось и этого: больному было достаточно смотреть на магнетизера или на намагниченный им предмет.

Рис. 10. Магнетический «баке» Месмера. Гравюра конца XVIII в.
Сеансы Месмера вызывали в отдельных случаях впечатляющие гипнотические явления (само понятие «гипноз» будет введено позднее английским врачом Джеймсом Брэдом) – состояние внезапного сна, обморока, сомнамбулического транса. Некоторые из пациентов Месмера лишались сознания, беспричинно плакали или смеялись, начинали безоглядно бежать, натыкаясь на мебель и стены, катались по земле, издавали бессвязные восклицания и загадочные монологи. В терминологии самого Месмера такое состояние называлось «кризисом», позволявшим судить о характере испытываемых его пациентами недомоганиях и скрытых недугах, причем предполагалось, что за наступлением кризиса должно было последовать (и иногда действительно следовало) улучшение самочувствия и восстановление здоровья. Не все опыты с использованием магнетизма были удачными. Иногда больные, пережившие кризис, чувствовали ухудшение болезни. Один из ревностных адептов Месмера, филолог-эрудит и оккультист Кур де Жеблен (Court de Gebelin), страдавший болезнью почек, умер после проведенного над ним магнетического сеанса.
Официальные медицинские институции Парижа пытались противодействовать деятельности Месмера и его многочисленных неофитов. Созданная в 1784 г. для исследования животного магнетизма комиссия Академии наук и Королевского врачебного общества (в состав этой комиссии вошли выдающиеся ученые того времени – астроном Жан Сильвен Байи, естествоиспытатель и физик Бенджамин Франклин, химик Антуан Лоран Лавуазье и четыре профессора медицинского факультета, в том числе анатом Жозеф Гийотен, будущий изобретатель названной его именем машины для казни) оценила практику магнетизеров резко отрицательно. Не отрицая возможного лечебного эффекта магнетических сеансов, комиссия сочла его исключительно результатом воображения самих пациентов. Существование магнитного флюида комиссия категорически отвергла. В секретной записке, приложенной комиссией к докладу (опубликованной в 1799 г., но сделавшейся известной в общественных кругах уже раньше), помимо научной несостоятельности магнетизма, подчеркивалось, что сама практика магнетизеров представляет определенную угрозу также для общественной нравственности. В отличие от мужчин, как подчеркивалось в записке, женщины обладают более «подвижными нервами», а их воображение исключительно живо и восприимчиво к подражанию. Женщины «подобны струнам музыкального инструмента, настроенного в унисон», поэтому они в большей степени предрасположены к коллективному «кризису» на сеансах Месмера, нежели мужчины. Оказываясь во власти магнетизеров, которыми являются исключительно мужчины, женщины к тому же подвергаются риску телесных контактов, при которых «взаимное притяжение полов может проявиться с полной силой»[293]293
Цит. по: [Pattie 1994: 154–155].
[Закрыть].
Несмотря на атмосферу скандала, неудачи собственно терапевтического применения магнетизма и критики со стороны врачей, общественный интерес к учению Месмера в предреволюционной Франции остается исключительно высоким. Современные исследователи деятельности Месмера привычно указывают на несомненные гипнотические способности проповедника животного магнетизма, предвосхитившего своими сеансами практику гипноза, традицию групповой психотерапии и даже процедуры психоанализа[294]294
См., напр.: [Chertok 1973].
[Закрыть]. По-видимому, на практике так оно и есть, но в теории животного магнетизма, сколь бы бегло она ни была изложена самим Месмером, гораздо больше оснований видеть предвосхищение современных теорий энергетического врачевания, восстанавливающего необходимый баланс в динамической природе человека[295]295
Дилан Морган справедливо замечает, что «те, кто верят в энергетическую систему чакр и тому подобные манипуляции над телом, фактически гораздо ближе к идеям и практике Месмера, чем современные гипнотизеры» [Morgan 1994].
[Закрыть]. Научные основания месмеровского учения коренились, с одной стороны, в гуморальной теории с ее принципиальным упором на главенствующую роль органических жидкостей, а с другой – в доминирующей в европейской науке со времен Ньютона идее об общегармоническом единстве живой и неживой природы. Проявление такого единства современники Месмера видели, между прочим, в явлении электричества, активно изучаемого одновременно с популяризацией животного магнетизма и также допускавшего его жидкостную (а с открытием гальванизма – и нервно-жидкостную) интерпретацию. В общественном мнении и неспециализированном употреблении представления об электричестве и магнетизме поэтому зачастую вообще смешивались, равно имея в виду нечто, что воздействует на человека, но при этом каким-то образом соприродно самому человеку.
Постулат Месмера о загадочном и незримом флюиде, связывающем человека и мир, оказался востребованным в этом контексте прежде всеми теми, кто так же, как и Месмер, настаивал на принципиальном «сочувствии» физического и духовного, гармонии микрокосма и макрокосма. В то время как ученые видят в Месмере меркантильного шарлатана, в глазах своих поклонников он все чаще рисуется в ауре не столько научной, сколько оккультной традиции, идейным наследником Пифагора, Парацельса, Вирдига, Нострадамуса, Роберта Фладда, Афанасия Кирхера, воскресившим полузабытые учения астрологов, алхимиков, ясновидцев и магическую практику врачевания. К концу 1780-х гг. учение Месмера находит приверженцев среди масонов, в частности сторонников графа Сен-Мартена (1743–1803), порицавшего Месмера за материалистическое объяснение животного магнетизма, но разделявшего постулат о взаимосвязи животного, космического и духовного мира [Viatte 1965: 223–231].
В России популяризация теории Месмера происходит с оглядкой на ее европейскую репутацию. С. М. Громбах полагал, что в России первой ласточкой в лечении животным магнетизмом стали попытки А. Г. Бахерахта в 1765 г. лечить магнитом зубную боль [Громбах 1989: 135, со ссылкой на «Санкт-Петербургские ведомости» (1765, № 42)]. Это, конечно, не так: идея Бахерахта использовать для лечения зубной боли магнит может быть только весьма ассоциативно связана с (еще не опубликованным в это время) учением Месмера о магнитном флюиде (занятно, впрочем, что в том же 1765 г. медицинская коллегия сделала Бахерахту выговор за то, что он «оными магнитами торговал, продавая их чрезвычайною ценою») [Энциклопедический словарь 1891: 210]. Как бы то ни было, модная новинка достигает российской столицы к середине 1780-х гг. В 1785 г. английский физик, член Лондонского королевского общества Жан-Гиацинт Магеллан в письме к конференц-секретарю Петербургской академии наук астроному Иоганну Эйлеру, сообщая о научных новостях, спрашивал, известна ли уже русским академикам теория животного магнетизма (абсурдная, по мнению Магеллана) [Ученая корреспонденция 1987: 40]. Можно ответить за Эйлера: известна – и не только академикам. В авторском пояснении к оде «На счастье» (1789) Г. Р. Державин прокомментирует строки, упоминавшие о магнетизме («Как ты лишь всем чудотворишь, / Девиц и дам магнизируешь»), воспоминанием о том, что уже «в 1786 году в Петербурге магнетизм был в великом употреблении. Одна г-жа К. занималась новым сим открытием, пред всеми в таинственном сне делала разные прорицания» [Львов 1834: 20]. А. Т. Болотов в «Памятнике протекших времен» (1796) рассказывает упоминаемую Державиным историю подробнее. Появление в Москве, «а более в Петербурге» магнетизирования Болотов связывает с деятельностью некоего майора по имени Бланкеннагель, производившего «оное над несколькими особами. <…> В особливости славен был <…> пример, сделанный с одною бригадиршею, госпожою Ковалинскою. <…> У ней был чем-то болен сын; и как лекаря его лечили и не могли вылечить, то решилась она <…> дать онаго в волю г. Бланкеннагеля. Он магнетизировал его несколько раз; старался довести до сомнамбулизма, дабы чрез то от самого ребенка сего узнать, какая у него болезнь и чем его лечить. Говорят, что ребенок сей и доводим был несколько раз до сомнамбулизма, и <…> сказывал что-то; но г. Бланкеннагель был тем недоволен и объявил, что он слишком еще молод и не может совершенно быть намагнетизирован, и потом уговорил наконец самую его мать <…> дать себя магнетизированием довесть до сомнамбулизма, дабы она могла во сне пересказать все желаемое и чем и как лечить ребенка. И сей-то пример был наигромчайшим из всех. Она не только сонная будто говорила и многим, не только присутственным, но <…> и <…> находившимся за несколько сот верст, больны ли они или здоровы, и чем больны, надобно ли им или нет лечиться, и чем именно; но не только сие, но сонная будто написала даже удивительные стихи». Предсказания бригадирши не сбылись, а ее ребенок умер, но сама история послужила предметом общественных пересудов и была сообщена императрице, повелевшей «господину магнетизатору сказать, чтоб он ремесло свое покинул или готовился бы ехать в такое место, где позабудет свое магнетизирование и сомнамбулизм» [Болотов 1875: Гл. 319]. Реакция императрицы на деятельность Бланкеннагеля вполне объясняется ее неприязнью к любым видам экстатического и магического врачевания, напоминавшего ей, быть может, о «шаманизме» ненавистных масонов (см. сатирическое изображение «шамана» в антимасонской комедии Екатерины «Шаман Сибирский», написанной в том же 1786 г., когда разражается скандал с новоявленными магнетизерами). Но просветительские декларации со стороны власти плохо согласуются с интересом образованного общества (в частности, тех же масонов) к тому, что активно обсуждается в Европе. В 1789 г. Н. М. Карамзин, собираясь в путешествие по Европе, обращается в письме к И. К. Лафатеру за советом: «Что должно думать о магнетизме? <…> Это во всяком случае слишком важное явление, чтобы я оставил его незамеченным во время моего странствия по свету» [Карамзин – Лафатер 1893: 48][296]296
Лафатер верил в существование магнетизма: [Luginbuhl-Weber 1995: 205–212].
[Закрыть].
Научная критика месмеризма привела к тому, что на какое-то время интерес к нему был утрачен, но уже в начале века он проявился с новой силой. Сам Месмер к этому времени уже оставил медицинскую практику и вернулся в родные места, на берега Боденского озера, чтобы провести здесь последние годы жизни, и, видимо, не ожидал, что провозглашенное им учение обретет новую жизнь и новую, непредусмотренную его автором интерпретацию. В целом «возрождение» магнетизма было парадоксальным возвращением к аргументации комиссий, осудивших Месмера, но прочитанных теперь не в инвективном, а в апологетическом контексте. Авторизованная академическим отчетом комиссии за подписью Байе роль воображения и внушения в воздействии животного магнетизма подразумевается отныне свидетельствующей не против, но в подтверждение терапевтических прозрений Месмера. На роли воображения и особенно на роли искусственно вызванного сна (магнетического сомнамбулизма) настаивал уже наиболее известный из последователей Месмера, маркиз де Пюисегюр (1751–1825). Пюисегюр не пользовался в своих сеансах месмеровским «баке» и считал, что медиумом магнетического воздействия может быть что угодно, в частности дерево (однажды в своем имении он собрал вокруг «намагнитизированного» им дерева 130 человек), но еще более важным способом магнетической терапии полагал обнаруженное им явление так называемой послемагнетической амнезии – состояния кажущейся дремоты у пациентов, испытывающих состояние «магнетического» кризиса. Пациенты казались спящими, но при этом бодрствовали и произносили монологи, которые впоследствии сами не могли вспомнить. Открытием Пюисегюра в данном случае было то, что внушение магнетизера, направленное на пациента, находящегося в состоянии «кризиса», может служить специфической установкой на его самодиагностику и выздоровление – принцип, который позднее станет отправным для психоаналитических концепций «переноса» и «контрпереноса» [Crabtree 1988: 65]. В теорию материального флюида сам Пюисегюр, как кажется, не верил и настаивал на психологических условиях терапевтического внушения («воля к добру», уверенность в своей силе и т. п.)[297]297
«Croyez et veuillez», «Volonté active vers le bien», «Croyance ferme en sa puissance», «Confiance entiere en l’employant» [Puységur 1809: 259].
[Закрыть]. В более широком контексте исследование гипнотического и сомнамбулического воздействия магнетизма вписывалось в ряд достаточно многочисленных к этому времени работ, посвященных теории сна, и в свою очередь стимулировало соответствующие исследования. Автором одной из таких работ, удостоившихся европейской известности, стал работавший в Санкт-Петербурге профессором Калинкинского медико-хирургического института врач и поэт Генрих Нудов (1752–1798). Опубликованное в Кёнигсберге в 1791 г. сочинение Нудова «Опыт теории сна» («Versuch einer Theorie des Schlafs») прославило ученого и положило начало экспериментальной традиции, лежащей в основе современных теорий в изучении сна и гипнотических состояний[298]298
Хрестоматийным примером экспериментального «конструирования» сна явилось наблюдение Нудова, послужившее впоследствии отправным пунктом для исследований в том же направлении: одному спящему, лежавшему на спине с открытым ртом, влили в рот несколько капель воды; спящий перевернулся на живот и стал производить руками и ногами плавательные движения: ему приснилось, что он упал в воду и был вынужден спасаться вплавь. До издания своего трактата о сновидении Нудов опубликовал ряд научных и литературных работ в Санкт-Петербурге: «Учение о душе с медицинской точки зрения. Первый опыт» (Nudow H. Medicinische Selenlehre, erster Versuch. St. Petersburg, 1787), «Мысли о счастье и блаженстве» (Nudow H. Ideen über Glück und Glückselichkeit: Eine Einladungsschrift. St. Petersburg, 1788) и книгу стихов «Поэтические досуги» (Nudow H. Dichterische Launen, von Heinrich Nudow, Doctor und Professor in St. Petersburg, 1789). Об издателе этих книг см.: [Фафурин 2002].
[Закрыть]. В медицинском дискурсе убеждение Пюисегюра в возможностях гипнотического внушения и вместе с тем давняя идея Месмера о влиянии планет на человека находят дополнительные иллюстрации в явлении лунатизма. В 1805 г. на русском языке издается одно из многочисленных сочинений на эту тему – обширная (свыше 550 страниц) монография немецкого врача Ю. X. Геннинга «О сновидениях и лунатиках» [Геннинг 1805]. Научному интересу к лунатизму сопутствует характерная фольклоризация: в 1820-е гг. в петербургском и, позже, провинциальном театральном репертуаре появляется опера-водевиль А. Шаховского «Женщина-лунатик» [Арапов 1861: 337, 342; Дынник 1933: 268–269; Гациский 1867: 36–37][299]299
Н. Губкина называет автором этой (или другой одноименной?) пьесы придворного капельмейстера Карла Блюма [Губкина 2003: 129].
[Закрыть], в 1830-е гг. о лунатизме напомнит одна из самых популярных опер европейского и русского театрального репертуара – «Сомнамбула» Беллини (1831). Тогда же внимание к лунатизму принимает правовую окраску: в случае непредумышленного посягательства лунатиков (или «сонноходцев») на смертоубийство или самоубийство постановление 1835 г. определяет поступать с ними «как с сумасшедшими» – освидетельствовать их во врачебных управах и «отсылать для содержания и лечения в дом умалишенных» [ПСЗРИ 1835].
Апологетическую – и вместе с тем ревизионистскую – интерпретацию животного магнетизма предложил также родоначальник гомеопатии Самуил Ганеман (1745–1843). В напечатанном в 1810 г. «Органоне рационального врачебного искусства» (Organon der rationallen Heilkunst) Ганеман рассуждал о животном магнетизме («…или, скорее, месмеризме, как его следовало бы назвать из уважения к Месмеру, первым обнаружившим его…»), видя в нем «чудесный, бесценный дар Бога человечеству, с помощью которого сильная воля человека, действующего из самых лучших побуждений на больного посредством контакта и даже без него, и даже на некотором расстоянии, может динамически передать жизненную энергию здорового магнетизера, наделенного такой силой, другому человеку. <…> Сила магнетизера воздействует частично путем восполнения недостаточно мощной жизненной силы больного в той или другой части организма, а частично – воздействуя на те части, где жизненных сил концентрируется слишком много, благодаря чему поддерживаются раздражающие нервные расстройства, она отклоняет жизненную силу, ослабляет и распределяет ее равномерно и вообще устраняет болезненное состояние жизненного принципа пациента и заменяет ее нормальной силой магнетизера, сильно действующей на него, например, при старых язвах, слепоте, параличе отдельных органов и так далее»[300]300
Ганеман С. Органон рационального врачебного искусства. § 288 / Перев. В. Сорокина, под ред. А. Высочанского.
[Закрыть]. Среди доказательств эффективности животного магнетизма Ганеман называет здесь же «неопровержимые примеры» «оживления людей, которые в течение некоторого времени по внешнему виду казались мертвыми, наиболее сильной, вызываемой состраданием волей человека, полного сил или жизненной энергией». Ключевыми словами в объяснении эффективности животного магнетизма в изложении Ганемана оказываются, таким образом, «воля», «жизненная энергия» и соответствующее умонастроение гипнотизера (заставляющее вспомнить о Пюисегюре). К 1830-м гг. в контексте возрастающего интереса к самому Ганеману и гомеопатии [Weltgeschichte der Homöopathie 1996][301]301
Об истории гомеопатии в России см.: [Kastner 2000: 83–86].
[Закрыть] «животный магнетизм» все чаще истолковывается в терминологии, предопределившей его позднейшие аналогии не только с гипнозом, но также с психотерапевтическим «эффектом плацебо».
Наиболее веской причиной научной реабилитации учения и имени Месмера явилось, однако, распространение шеллингианства и пропаганда натурфилософии. Месмер, упорно полагавший основой своего лечебного метода использование пусть и незримой, но все же вполне материальной субстанции и при этом привыкший к обвинению в «нематериальности» «основного агента» своей терапии – животного магнетизма, не видел необходимости искать компромисс, который удовлетворил бы его противников и едва ли бы согласился со своими многочисленными последователями, дававшими его учению все новые и новые объяснения. Показательно, что, получив в 1812 г. письмо от одного из своих последователей, Клюге, просившего исправить ошибки в написанной им книге о животном магнетизме, Месмер ничего ему не ответил [Pattie 1994: 250], вероятно понимая, что изложенное им некогда учение начало жить своей жизнью и уже не нуждается в поправках ее провозвестника. Характерно и то, что Д. М. Велланский воспринял идею животного магнетизма не из трактатов Месмера, а именно из книги Клюге, вышедшей двумя изданиями – в 1811 и 1815 гг. В 1818 г. Велланский издал ее перевод на русский язык, причем к двум частям оригинала добавил третью: «Теория животного магнетизма», призванную придать практическим рекомендациям натурфилософскую перспективу [Животный магнетизм 1818][302]302
Немецкий оригинал: Versuch einer Darstellung des animalishen Magnetismus als Heimittel von Alexander Fred. Kluge. Vienna, 1811 (2-е изд. – 1815 г.).
[Закрыть]. И в книге Клюге, и – еще в большей степени – в дополнительной главе Велланского учение о животном магнетизме изложено в весьма условном согласии с теми объяснениями, которые давал своему учению Месмер.
Верный натурфилософским декларациям о взаимосвязи материального и духовного, Велланский переносит акцент в интерпретации «магнетического» взаимодействия природы и человека на сферу мысли и психики. Работа мозга и чувств определяет собою напряжение, которое испытывает организм в его отношении с внешним миром. «При действии чувств ничто не входит в наше тело; а напротив того, нервная система напрягается и изливается из центра к окружности или от мозга к чувствующему органу, а оттуда к чувственному предмету». В пассивном состоянии мозга – и именно во сне – «преимуществует материальное бытие, представляемое брюшными нервами, которые тогда в полной независимости от мозга производят органическую материю совершеннейшим пищеварением, кроветворением и отделением». Работа мозга представляет собою, таким образом, положительное начало, а работа тела – отрицательное, составляя в своей взаимодополнительности как бы два магнитных (или, точнее, электрохимических[303]303
«Как в бдении мозг дезоксидируется, так во сне оксидируется» [Животный магнетизм 1818: 327].
[Закрыть]) полюса, определяющих «эфирное» напряжение, от которых зависит «животная» и «органическая» жизнь (в использовании этих понятий Велланский, конечно, вспоминает о Биша). Жизнедеятельность организма определяется работой всех телесных органов, но контроль в поддержании необходимого жизненного баланса вверяется мозгу: «изливаясь» вовне, мысль, производимая мозгом, способна вступать во взаимодействие с пассивным напряжением внешней среды и восстанавливать работу «дублирующих» мозг органов тела: «Мозг, действуя на кожу или какую-либо часть тела, ощущает оные, и, таким образом, происходит ощущение собственного тела, таким совершается и чувствование внешних предметов. <…> Мозг и нервы действуют таким же способом при чувствовании, каким желудок при варении пищи, а легкие при дыхании; ибо мозг не что иное есть, как желудок и легкое в высшем их преобразовании. Желудок оксидирует пищу, а легкое – кровь: равным образом мозг и нервы оксидируют чувствуемые ими предметы. Но оксидация есть горение, производимое кислотвором (oxigenium) как сожигательным началом. Посему и чувствование есть горение, причиняемое мозгом и нервами в ощущаемых предметах. Во время бдения, когда мы мыслим, чувствуем и движемся, исходит от нас беспрестанно огненная сфера, зримая явственно сомнамбулами, которые у своего магнетизера видят и ощущают голубой огонь, истекающий из пальцев приближенных к ним рук» [Животный магнетизм 1818: 323, 324].
Сочувствие кажущимся сегодня эзотерическими или даже «забавными» [Кондаков 2000] интерпретациям животного магнетизма в духе Велланского в 1810 г. было достаточно сильно. Дерптский профессор Георг Фридрих фон Паррот писал в 1816 г., что «животный магнетизм вновь поднимается после того смертельного удара, который был нанесен ему общественным мнением» [Громбах 1989: 136]. Определенную роль в этом возвращении сыграл всплеск мистических настроений, и в частности масонской деятельности, во второй половине 1810-х гг. (до официального запрещения масонских лож в 1822 г.). М. И. Муравьев-Апостол в старости вспоминал, что начиная с 1815 г. он, масон и будущий декабрист, «стал знакомиться с магнетизмом, читая все, что о нем писалось»[304]304
Русская старина. 1886. № 9. С. 550. М. И. Муравьев-Апостол состоял в масонской ложе Трех добродетелей; принят в нее он был тогда же, когда «стал знакомиться с магнетизмом», – в 1815 г., вышел из ложи в 1820 г. [Соколовская 1999: 162].
[Закрыть]. Давний почитатель Сен-Мартена, мистически настроенный князь А. Н. Голицын [Пыпин 1916: 216], обер-прокурор Святейшего синода и министр народного просвещения, узнав от Франца фон Баадера о новейших исследованиях в области магнетизма, в 1817 г. настоятельно просил сообщать ему в дальнейшем свои «наблюдения по этому предмету, коль скоро это будут какие-либо открытия»[305]305
Susini E. Lettres inédits de Franz von Baader. 4 partie. Paris, 1967. P. 136 (цит. по: [Азадовский 1999: 73]). В 1832 г. Баадер, убеждая Александра Тургенева о своих способностях в магнетизме, будет рассказывать, «как он разговаривал с чертями, выгоняя их из одной девушки: их было число 13, и она в сомнамбулизме сказала ему, что 13 часов будет possédée ими, что каждым будет она одержима час. <…> Разумеется, что Баадер исцелил девушку» [Азадовский 1999: 73].
[Закрыть]. В 1816 г., объясняя публикацию статьи «О магнетизме» в «Сыне Отечества», Н. И. Греч предполагал, что многие из читателей журнала видели «любопытные опыты над магнетизмом»[306]306
Сын Отечества. 1816. Ч. 28. № VII. С. 15.
[Закрыть], а через два года уже констатировал, что страсть «толковать о магнетизме» стала привычным уделом «гостиных комнат и чайных столиков»[307]307
Сын Отечества. 1818. Ч. 43. С. 227.
[Закрыть].
Возрождение интереса к магнетизму вызвало, впрочем, не одни восторги, но и определенное противодействие. В 1816 г. Комитет министров вынес решение, согласно которому магнетизированием позволялось заниматься только врачам, и при этом только с ведома полиции и под контролем Медицинского совета [Сборник Постановлений по МНП 1875: 879]. В том же 1818 г., когда из печати вышла апологетическая книга о магнетизме Клюге – Велланского, в Большом театре в Петербурге была поставлена комическая опера «Лекарь самоучка, или Животный магнетизм» (музыка Маурера), метящая в самозваных магнетизеров[308]308
Хотя в постановке были заняты лучшие артисты театра (Злов, Самойлов, Климовский, Сандуновский, младшая Семенова), опера успеха не имела [Арапов 1861: 269]. Автор рецензии на оперу, опубликованной в «Сыне Отечества» (1818. № 8. С. 41), иронизировал, что «животный магнетизм в полном смысле совершил над зрителями свое действие».
[Закрыть]. В 1824 г. в «Вестнике Европы» была напечатана статья «о возрождении магнетизма», определяемом здесь же «маскарадом медицины»[309]309
О четвертом возрождении магнетизма // Вестник Европы. 1824. № 5. С. 30–47.
[Закрыть]. Анекдотические пересуды о шарлатанстве и «аморальности» магнетизеров (среди наиболее волнующих общество – пикантный вопрос о том, может ли женщина под действием магнетизма лишиться вопреки своей воли добродетели), не отменяют, однако, достаточно распространенной в 1820-е гг. веры в саму возможность магнетического воздействия на человека. В 1828 г. профессор фармакологии и химии Московского университета доктор медицины А. А. Иовский писал: «Признаюсь откровенно, что я и партизан и вместе противник животного магнитизма; партизан его, поелику я наблюдал и, думаю, заметил настоящие действия сего таинственного искусства; противник, поелику твердо знаю все обезьянства магнетизеров, все ошибки, которые они примешали к своему искусству». Широкая публика была, конечно, менее разборчива, чем врач Иовский, и была готова верить в «настоящие действия» таинственного искусства, не замечая «обезьянств магнетизеров». Начало 1830-х гг. может быть названо пиком такой веры. В Петербурге этого времени шумным успехом пользуются магнетические сеансы престарелой девицы Анны Александровны Турчаниновой (1774–1848). Хорошо знавший Турчанинову Ф. Ф. Вигель вспоминает о ней в «Записках», что, «не имея еще двадцати лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими науками, знала латинский и греческий языки, сбиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у нас ее звали под именем философки. <…> Чистота ли ее души сквозь неопрятную оболочку сообщалась младенческой душе моей, или магнетическая сила ее глаз, коих действие испытали впоследствии изувеченные дети, действовала тогда и на меня: я находился под ее очарованием. Я не нашел в ней и тени педантства: всегда веселая, часто шутливая, она объяснялась с детской простотой. <…> Разговоры ее были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно рассказывала мне про свои связи с почтенными учеными мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой». Спустя тридцать лет Вигель «не нашел в ней почти никакой перемены: черные, прекрасные, мутные и блуждающие глаза ее все еще горели прежним жаром; черные длинные нечесаные космы, как и прежде, выбивались из-под черной скуфьи, и вся она, как черная трюфель в масле, совершенно сохранилась в своем сальном одеянии» [Вигель 1928: 67, 68]. Стихи Турчаниновой, отличающиеся мрачным кладбищенским колоритом и столь пренебрежительно упомянутые Вигелем, печатались начиная с 1798 г. в «Приятном и полезном препровождении времени», а позже в «Чтении в Беседе любителей русского слова»; в 1803 г., собранные и дополненные, они вышли отдельным изданием [Турчанинова 1803][310]310
В том же 1803 г. в переводе Турчаниновой была издана «Натуральная этика, или Законы нравственности, от созерцания природы непосредственно проистекающие» (Пер. с лат. СПб., 1803).
[Закрыть]. В 1817 г. в Париже был издан том философической переписки Турчаниновой [Lettres philosophiques 1817], а еще позже она прославилась обнаружившимся у нее даром к врачеванию органических и психических расстройств.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































