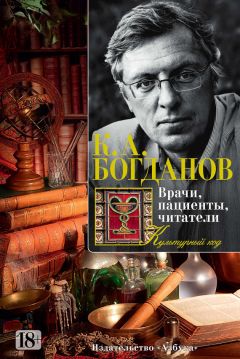
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
На фоне подобных споров использование электричества в экспериментах с мертвыми телами воспринималось не столько объяснением, сколько шокирующей демонстрацией таинственных сил природы. Попытки воздействия на трупы животных при помощи электричества предпринимались и до открытий Гальвани [Priestley 1772: 261ff]. Известно, что работавший в Петербурге академик Франц Эпинус, автор фундаментального труда по теории электричества и магнетизма («Tentamen theoriae electricitatis et magnitismi», 1759), отвечал однажды на вопрос Екатерины II о возможности оживления электричеством мертвых тел [Новик 1999][256]256
Автор ссылается на сохранившуюся записку с автографами Екатерины и Эпинуса и связывает ее появление со временем «балов, забав и карнавалов» и, конкретно, с игрою в фанты (?).
[Закрыть]. В 1780-е гг. итальянец Запотти добивается стрекотания мертвого кузнечика. Сам Гальвани электризует и заставляет дергаться конечности свежезабитых овец и кроликов; французский военный хирург и личный врач Наполеона Жан-Доминик Ларрей производил такие же опыты с ампутированными человеческими конечностями. В 1798 г. Ксавьер Биша экспериментирует над трупами казненных на гильотине, отметив в своей книге, что благодаря гальванизму ему удавалось вызвать движение мышц в обезглавленных телах. В Кёнигсберге доктор Кельх электризовал отрубленную голову преступника: голова открывает глаза, приоткрывает верхнюю губу, шевелит языком и делает движения, похожие на глотательные [Pfeiffer 1985: 37]. В 1802–1804 гг. племянник Гальвани доктор Джованни Альдини стал проводить подобные опыты в виде некоторого подобия театральных шоу. Альдини выступал в анатомических театрах Лондона и Оксфорда и демонстрировал зрителям поразительные эффекты гальванизации – например, такие, которые довелось наблюдать просвещенной публике в Королевском хирургическом колледже в 1803 г. в Лондоне. После того как по проводнику, соединившему ухо и рот мертвеца (некоего Джорджа Форстера, привезенного в анатомический театр с виселицы), был пропущен ток, его «челюсть начала сразу дрожать, расслабленные мышцы ужасно напряглись, а левый глаз открылся» [Trommsdorff 1803; Aldini 1803: 382]. Замыкая проводники на ухе и прямой кишке трупа, Альдини добивается еще более впечатляющего результата: тело покойника «стало неистово содрогаться и так напряглось, как будто собиралось подняться, руки встряхнулись и опали <…> кулаки сжались и неистово колотили по столу» [Mottelay 1922: 305]. Опыты Альдини и его последователей (например, доктора Дж. Карпью, пытавшегося в 1803 г. публично оживить труп казненного убийцы с помощью кислородного насоса и электрической стимуляции диафрагмального нерва [Mottelay 1922: 375][257]257
Диафрагмальный нерв (phrenic nerve) иннервирует мышцы диафрагмы, отходит с обеих сторон шеи от шейного сплетения спинномозговых нервов к диафрагме, проходя ниже между легким и сердцем.
[Закрыть]) были широко известны в Европе – отчеты о них публиковали как научные, так и популярные журналы [Fulton, Cushing 1936: 239–268][258]258
Надежды на «животворную» силу электричества выразятся также в поиске аналогии между электричеством и самой жизнью. В 1814 г. на этой аналогии будет публично настаивать, в частности, один из ведущих английских хирургов и анатомов – Джон Абернети (Abernethy), с чем будет спорить его ученик, другой прославленный английский медик, Уильям Лоуренс [Temkin 1977: 347]. См. также: [Sleigh 1998: 219–248; Morus 1998].
[Закрыть]. Сообщения о таких экспериментах печатались и в русских журналах: помимо вышеупомянутых статей в «Вестнике Европы», такого рода известия публиковались в «Друге просвещения» (№ 2 за 1803 г.): например, об опытах над утопшим, «произведенным Годэном, младшим профессором скотского лечения в Альфорте», и случае излечения сумасшествия с помощью гальванизма[259]259
Друг просвещения. 1803. № 2. С. 161–163. Статьи перепечатаны из «Journal du Galvanisme». См. также: Вестник Европы. 1806. № 15. С. 199.
[Закрыть].

Рис. 7. Гальванизация мертвых органов. Опыты Альдини
К 1820-м гг. собственно научный ажиотаж вокруг гальванического оживления покойников постепенно сходит на нет и даже становится предметом карикатур (см., например: [Holländer 1921]), хотя обсуждение возможностей по медицинскому применению электричества остается по-прежнему актуальным (в 1811 г. на русском языке выходит сочинение Бирча «О свойстве и действиях электрической силы во врачебной науке» [О свойстве и действиях электрической силы, 1811], а в 1818 г. – монография Ф. Л. Августина «О гальванизме и врачебном употреблении оного»). Однако в массовом сознании вера в чудотворные возможности электричества (ассоциирующегося теперь не только с Гальвани, но и с Вольта) сохраняется очень долго. Пятнадцать лет спустя после нашумевших экспериментов Альдини гальванизация трупов все еще остается востребованной темой театрализованных шоу. В том же 1818 г., когда появляется роман Мэри Шелли, ее соотечественник доктор Эндрю Уэ (Ure) собирает в Эдинбурге публику, чтобы продемонстрировать «оживление» казненного преступника Клайдсдэйла. Репортер «Медицинского сборника» («The medical repository»), бывший свидетелем этого «оживления», сообщал о нем, не скупясь на восклицательные знаки:
При замыкании проводника на бедре и пятке <…> ногу (трупа) подбросило с такой силой, что едва не сбило одного из ассистентов, тщетно пытавшегося ее удержать! При втором эксперименте, едва проводник был закреплен на диафрагмальном нерве в области шеи, появились признаки затрудненного дыхания: грудь начала вздыматься, брюшные мышцы напряглись и сократились, освобождая и расслабляя диафрагму, – можно было подумать, что, если бы [в трупе] полностью не отсутствовала кровь, началось бы биение пульса! Когда при третьем эксперименте был затронут надглазничный нерв (supraorbital nerve), мускулы лица убийцы исказились в жуткую гримасу. Происшедшее было кошмарным – несколько зрителей тут же покинули комнату, один джентльмен потерял сознание от ужаса и дурноты!! Во время четвертого эксперимента, когда электрический ток был пропущен от позвоночника к локтевому нерву, зашевелились пальцы руки, а движение самой руки было столь сильным, что казалось, будто труп указывает на кого-то из зрителей: некоторые из них подумали, что он ожил! Доктор Уэ убежден, что, не будь у трупа перерезаны вены на шее и сломан позвоночник, преступник был бы возвращен к жизни[260]260
Цит. по: Greenway J. «It’s Alive!»: The Revival of the Dead in Romantic Medicine.
[Закрыть].
Использование электричества в экспериментах, подобных опытам Уэ (очередным напоминанием о них стала изданная в 1834 г. в Париже обширная монография Альдини [Aldini 1834]), закрепляет за метафорами гальванизма специфически «кладбищенские» и вместе с тем «реанимационные» ассоциации. Тело, по которому пропущено электричество, кажется одновременно живым и мертвым. Действие гальванизма превращает его в нечто лиминальное – уже не мертвое, но еще и не ожившее, в труп, противящийся смерти и разложению[261]261
Заметим попутно, что вопреки распространенному убеждению гальванизация не препятствует, но, напротив, способствует разложению тканей – обстоятельство, заставившее в конечном счете отказаться от широкого использования гальванизма в практике врачевания (в начале XIX в. сфера терапевтического применения гальванизма простирается от расстройств слуха и мышечных болей до паралича и сумасшествия): [Pfeiffer 1985: 38–40].
[Закрыть]. Для русского читателя портретом, построенным на таких ассоциациях, может служить описание старухи в «Пиковой даме» А. С. Пушкина (1833) – описание, кажущееся тем более знаковым, что оно предшествует описанию конца ее затянувшегося умирания: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма» [Пушкин 1948: 240][262]262
См. интерпретацию этого эпизода М. П. Алексеевым в статье «Пушкин и наука его времени» [Алексеев 1972: 95–99]. По Алексееву, в пушкинском упоминании гальванизма и вообще в описании предсмертной сцены в спальне графини «нет никакой таинственности, никаких намеков на французскую „неистовую словесность“: Германн не мог быть в ней начитан» [Алексеев 1972: 99]. Ссылка на (не)читающего Германна здесь особенно замечательна, – важно, однако, не то, что читал Германн, а что читал Пушкин и его современники. Тема «таинственных» экспериментов с «гальванизацией» покойников была, однако, привычной именно для произведений «неистового романтизма» (см. ее, в частности, в «бестселлере» 1830-х гг. – романе Ж. Жанена «Мертвый осел и обезглавленная женщина»: русский перевод: [Жанен 1831: 80]), становящихся популярными как раз ко времени появления «Пиковой дамы» (см.: [Виноградов 1929: 162–205]).
[Закрыть]. Схожее с пушкинским упоминание о гальванизме находим у И. Лажечникова в эпилоге «Ледяного дома» (1835): здесь полумертвую и парализованную старуху-цыганку «будто гальванической силой приподняло» при взгляде на ребенка, в котором она узнает сына казненного князя Артемия Волынского [Лажечников 1979: 359][263]263
См. пример аналогичного сравнения у Гюго: «Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока» (Отверженные. Гл. 7).
[Закрыть].
«Мода на гальванизм» выразится и в области собственно литературной метафорики, а именно в «обновлении» образной аналогии между человеком и лягушкой. В европейской литературе история этого сравнения восходит к поэме неизвестного греческого автора первой четверти V в. до н. э. «Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия»), пародирующей «Илиаду» и приписывавшейся длительное время Гомеру. В фольклоре – к истокам мифологических нарративов о превращениях лягушки в человека, а человека – в лягушку (например, сказки о царевне-лягушке). Гальванические эксперименты сделали, однако, очевидным для современников не просто сравнение, но семантическое взаимоуподобление человека и животного[264]264
Показательно появление работ о гальванизме, даже по названию «телесно» уравнивавших человека и животного, – см., напр.: Galvanische und elektrische Versuche an Menschen– und Thierkorpern. Frankfurt a. Main, 1804. О (пред)истории анатомо-физиологических опытов на лягушках, подразумевающих их уподобление человеку, см.: [Lindeboom 1975: 279 ff].
[Закрыть]. Фольклорная репутация образа лягушки привычно ассоциирует ее с отвратительным и «античеловеческим» – хтоническим или сатанинским – миром, символизирующим нечто, что является для человека опасным и враждебным (см., в частности, привычные для традиционной русской культуры представления о том, что лягушки живут в бесноватых, в них превращаются колдуны и ведьмы и т. д. [Новичкова 1995: 355–357; Ryan 1999: 73])[265]265
Схожие представления известны и в европейском фольклоре: [Bächtold-Stäubli 1930/1931: 127–136].
[Закрыть]. «He повезло» лягушке и в медицинской терминологии, обозначившей словами «жаба» и «ангина» (транслитерации лат. слова с тем же значением) воспалительные болезни кожи и горла. Использование лягушек в гальванических экспериментах внесло в этот контекст ощутимый диссонанс. Теперь выяснилось, что как лягушки могут репрезентировать и в определенном (патолого-анатомическом) смысле «заменять» собою человека, так и человек оказывается «всего лишь» подменяющим собою лягушку. Идейный радикализм этой подмены будет осознан позднее – на пике научного, и в частности медицинского, позитивизма 1860-х гг. (см. об этом ниже), но его истоки намечаются уже в начале века – в текстах, риторизующих сравнение человека и лягушки не только как дань, но и как «ревизию» традиционной аналогии. Не случайно, быть может, упомянутая выше «Батрахомиомахия» становится предметом подражания именно на рубеже веков. В русской литературе первой половины XIX в. «Батрахомиомахия» удостаивается сразу трех разных переводов (не считая двух, появившихся еще в XVIII в.)[266]266
Первый русский перевод «Батрахомиомахии» был выполнен Ильей Копиевским и напечатан еще в 1700 г.: Притчи Эсоповы, на латинском и русском языке, их же Авиений стихами изобрази, совокупно же брань жаб и мышей Гомером древле описана со изрядными в обеих книгах лицами и с толкованием. В Амстердаме, лета 1700. Второй из известных переводов: Омирова Батрахомиомахия, то есть война мышей и лягушек, забавная поема. На российский язык переведена Васильем Рубаном. СПб., 1772 (2-е изд. – 1788 г.). Последующие переводы: Омирова брань лягушек и мышей. Перев. с греч. Алексея Огинского. СПб., 1812; Отрывок из Батрахомиомахии // Московский телеграф. 1826. Ч. IX, отд. 1. С. 108–111 (перевод Вилламова); Омирова Батрахомиомахия, или Война лягушек и мышей, переложенная в стихи. М., 1845 (переводчик – штабс-капитан Телегин. Перевод удостоился уничижительных рецензий «Отечественных записок» (1845. № 9. Отд. VI. С. 18) и «Современника» (1845. Т. 40. С. 106)). В 1880-е гг. вышло еще три перевода: переложение В. А. Воскресенского (Война мышей и лягушек. Забавная поэма Гомера. СПб., 1880); В. М. Краузе (Война мышей и лягушек. Омск, 1884) и И. Б. Христофорова (Батрахиомахия, или Война мышей и лягушек // Журнал министерства народного просвещения. 1886. № 8. С. 66–79).
[Закрыть]. В 1831 г. В. А. Жуковский создает свою «Войну мышей и лягушек» [Загарин 1883: 428 и след.][267]267
Загарин – псевдоним Л. И. Поливанова.
[Закрыть]. Современники Жуковского могли, впрочем, и непосредственно оценить «обновленческий» радикализм соответствующего сравнения в текстах если не отечественной, то европейской литературы – хотя бы на примере образной беспощадности Виктора Гюго: «При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток» («Собор Парижской Богоматери», 1831)[268]268
Об исключительной популярности романов Гюго, и в частности «Собора Парижской Богоматери», в России 1830-х гг. см.: [Achinger 1991: 356–361; 380–387].
[Закрыть]. Отсылки к гальванизму придают традиционному сравнению нетрадиционный смысл – отныне само это сравнение будет оправдываться не столько литературными, сколько научными предпочтениями, – не эстетикой, но этикой – «правдой» научного опыта и патолого-анатомического экспериментирования.
«Пляски смерти» и врачи-философы
Труп молчит или дает обеты, которые лишь приводят в сомнение о действиях жизни.
В. Ф. Одоевский. Русские ночи, 1830-е гг.
Литераторы эпохи романтизма шокируют читателя физиологическими и, в частности, патолого-анатомическими подробностями, дабы подчеркнуть разрыв с традицией «благодушного» и «малодушного» сентиментализма. Медицински детализованные картины болезни, смерти и посмертного разложения выражают радикализм «новой литературы» и «новой философии». Новизна формы гарантирует новизну содержания – пусть даже вполне банального. Таково, например, философическое рассуждение Франциска Рудольфа Вейса с традиционным призывом «помнить о смерти», опубликованное в 1820 г. все в том же «Вестнике Европы», содержащее подробное описание разложившегося тела молодой красавицы с копошащимися в нем червями. «Ты тоже будешь таким», – предрекает автор читателю[269]269
Гробница (Из «Principes philosophiques de Veiss») // Вестник Европы. 1820. № 6, март. С. 98–103. В начале XIX в. «Философские, политические и моральные принципы» Вейса, откуда был взят отрывок для «Вестника Европы», были исключительно популярны в Европе. На русском языке сочинение Вейса было издано дважды: в С.-Петербурге в 1807 г. под заглавием «Начала философии» (в переводе Струговщикова) и в Москве в 1837 г. (в переводе Реслера).
[Закрыть]. Элегически-сентиментальное изображение умирания и смерти «отменяется» контрастирующим к нему натурализмом физиологических и анатомических подробностей в изображении смерти. В этом изображении находится место гиперболизму и гротеску, возрождающему, в частности, традиционные для европейской культуры макабрические сцены средневековых и барочных аллегорий: открытые гробы, песочные часы, «пляски смерти», «говорящие» черепа, кишащие червями трупы и т. п.[270]270
Об иконографическом «культе смерти» в Европе XVI–XVIII вв.: [Bilder der Todes 1970; Llewellyn 1991: 1500–1800; Арьес 1992] (иллюстрированное приложение к этой работе: [Aries 1983]).
[Закрыть]
В ретроспективе европейской культуры традиция идеографической «визуализации» смерти вообще и особенно «танцующей смерти» (чаще всего в образе смерти-скелета с косой или мечом) связана с традицией прозаических и стихотворных текстов назидательного характера, суть которых состоит в напоминании о неизбежности кончины для любого из живущих, равенстве смертных перед смертью. Поучительные монологи, произносимые кружащимися в смертельном танце плясунами, известны в европейской литературе начиная уже с XIII в. [Seelmann 1892; Breede 1931; Kurtz 1934; Cosacchi 1965 (публикация многочисленных текстов); Tanz und Tod in Kunst und Literatur 1993][271]271
См. также каталог выставки: [Tanz der Toten-Todestanz 1998].
[Закрыть]. Столь же давним является еще один идеографический и литературный сюжет на ту же тему – диалог между человеком и олицетворенной смертью, заканчивающийся победой смерти над человеком. В качестве сюжета театрализованных (карнавальных и масленичных) представлений диалог человека и смерти восходит к средневековой культуре и остается популярным вплоть до конца XVII в. [Goedeke 1871: 263–264; Fastnachtsspiele 1853: 165–1074; Spoerri 1999]. Русское Средневековье также знает образы и сюжеты, «визуализующие» смерть и не скупящиеся в ее изображении на устрашающие детали телесного разложения. Вместе с тем в сравнении с европейской традицией в репрезентации смерти ее адаптация на русской почве не получила сколь-либо экстенсивного развития и ограничилась преимущественно церковно-учительной литературой, а не собственно зрелищной (скульптурной, живописной) идеографией. Возможно, это связано с общими процессами «христианизации» России, отличающейся большей степенью религиозно-магического синкретизма в отношении похоронной обрядности, чем европейские страны [Kaiser 1992: 245–247]. Как бы то ни было, наиболее популярными памятниками иконографической традиции в репрезентации смерти в России стали не «пляски смерти», но диалоги между смертью и человеком. Многочисленные списки «Прения живота со смертью» восходят, как показала Р. П. Дмитриева, в своих ранних редакциях («Двоесловие живота и смерти, сиречь стязание животу с смертью») к дословному переводу немецкого текста диалога конца XV в. [Повести 1964: 11 и след]. Описание олицетворенной смерти и тех, кто уже стал ее жертвами, риторизуется в этих текстах практически одинаково и равно беспощадно к чувствам читателя и слушателя:
«Кто ты еси, страшный зверю? <…> ты полн еси червей и змиев», «…и узре во гробе том человека мертва лежаща. И тело его почернело, и червей из него многим излазящим, и зол смрад исхожа из гроба того», «Ко всем равна едина смерть: днесь во славе, а утре в червях, днесь пия и веселяся, а утре во гробе лежит от всех уединен, и из гроба смрад зол исходит», «Тако же аз видах свое тело велми гнусно, яко кто ис себе выпусти кал да гнушается его, бежить прочь от него, тако же и человеческое тело мерьтво и не/на/видимо всими» [Повести 1964: 141, 147, 168][272]272
В европейской культуре дискурсивные истоки последнего сравнения авторизованы, кстати сказать, уже Гераклитом: «Трупы на выброс – хуже дерьма» (76DK). В русской литературе XIX в. афоризм Гераклита едва ли не буквально перефразирует А. Сухово-Кобылин устами героя в «Смерти Тарелкина» (1868): «А что тело? – Навоз – потроха одни» [Сухово-Кобылин 1869: 419].
[Закрыть] и т. д. и т. п.
В России XVIII в. образно-риторической типизации малопривлекательного вида умерших способствовала и собственно церковная традиция. В литургических текстах похоронного церемониала (восходящих к византийской церковной поэзии) привычно тиражируются отталкивающие образы посмертного разложения и трупной вони – образы, контрастно оттеняющие тщету земных богатств и повседневных забот:
«Зрю тя во гробе и ужасаюся твоего видения и сердечно каплющую слезу проливаю» (Канон Иоанна Дамаскина); «Изыдем и узрем во гробах, яко наги кости человек, червей снедь и смрад, и познаем, что богатство, доброта, крепость, благолепие (Из чина погребения по Требнику 1789 г.)[273]273
Другие примеры: [Повести 1964: 43–46].
[Закрыть].
Д. Ровинский, собравший и систематизировавший нравоучительные изображения смерти и умирания в издании «Русских народных картинок», выделяет несколько образов и сюжетов, пользовавшихся, как можно думать, достаточно устойчивым потребительским спросом на протяжении второй половины XVIII – первой трети XIX в. Особенно популярными в этом ряду являются «комментированные» изображения «ступеней» человеческого возраста и мытарства («сонные видения») в аду: «Восхождение вверх и снисхождение вниз по лествице и по степеням жития человеческого и по седмицам», «Возраст человеческий», «Зерцало грешного», «Четыре вещи последние», «Притча жития человеческого», «Казнь лихоимцам», «Хождение святой Федоры» и т. д. Тексты, сопровождающие лубочные картинки, шокирующе натуралистичны в описании смерти, но и однозначно дидактичны. Безымянные авторы лубочных изображений не устают напоминать зрителю (и читателю) о посмертной участи и необходимых приготовлениях к смертному часу. Замечательно, что некоторые из таких картинок не только содержательно, но даже стилистически предвосхищают сентиментально-романтические ламентации на кладбищенские темы. Так, например, в парафраз к вышеприведенному тексту Вейса из «Вестника Европы» прочитывается текст, сопровождающий картинку «Маловременная красота мира сего». На этой картинке (напечатанной в виде разворачивающегося складня) цветущая красавица и ее кавалер становятся (по мере разворачивания картинки) костяными остовами:
Ах как пропали уст ягоды красны
пошли в гнилого трупа и способы власны.
[Ровинский 1881: 111]
На другой картинке с аналогичным сюжетом («Зерцало грешного») печальная участь грешной дамы (ее пороки подчеркивает веер в руке и пояснительный комментарий: «Веер в руце имею» и «аще хощеши то сотворим ныне тайно со мною») иллюстрируется в прямом обращении к зрителю-читателю: «Се не веер в руке моей зриши. / Кости зрак / Смерти знак / зри все всяк / будешь так» [Ровинский 1881: 113, 115]. Можно думать, что дидактика подобных обращений кажется их авторам тем убедительнее, чем непригляднее рисуется посмертное состояние человеческого тела: «Черви плоть поядают, никтоже на ню взирают» [Ровинский 1881: 118, 120], или даже так, еще более натуралистично: «Приятели мои и слуги (жалуется о себе умерший. – К. Б.) далече от мене сташа и ноздри свои от смрада моего заткнуша / вси бо мною ся гнушают / смрадного и гнилого трупа мене вменяют» [Ровинский 1881: 96–97][274]274
Изображение и текст гравированы во второй половине XVIII в.
[Закрыть]. В «натурализме» последнего описания также можно было бы видеть предвосхищение будущих «ольфакторых» предпочтений уже собственно реалистической литературы в описании смерти (см. об этом ниже), но нельзя также не подчеркнуть их существенного отличия как от реалистической литературы, так и от важной для нас в данном случае литературы сентиментализма и романтизма. Изображение мертвых тел и описание смерти в лубочных текстах (как и в стоящей за ними традиции средневековых и барочных аллегорий) преследуют очевидную дидактическую цель – напоминание о жалкой участи человеческого тела подразумевает иную участь человеческой души. Помнить о смерти – это значит помнить о том, что ей противостоит и что гарантирует спасение души. Ламентации о неизбежном тлене, и в частности тлетворном запахе разлагающегося тела, призваны подчеркнуть необходимость заботы, в которой нуждается душа смертного, – заботы не только индивидуальной, но и коллективной:
Придите друзи мои и зрите красоту тленную
и познайте плоть мою оскверненную
преминула уже вся жития моего слава
и плоть моя уже червем пища стала <…>
придите друзи мои и припадите Христу любезно
и восплачьте о мне в молитвах к Господу слезно
дабы учинил мя в селениих своих вечно
в царствии своем со всеми святыми бесконечно.
[Ровинский 1881: 96–97]
В литературе романтизма тематизация смерти лишена, конечно, подобной дидактики или, во всяком случае, лишена дидактической однозначности. Традиционные для аллегорической традиции Средневековья и барокко образы, призванные поддерживать «память о смерти» (memento mori), находят свое применение в контекстах, которые требуют не только (и не столько) религиозно-дидактического, но и какого-то иного – эстетического, а шире – также идеологического отношения. В русской литературе 1820–1830-х гг. в ряду таких традиционных образных аллегорий новое распространение получает изображение «плясок смерти». В стихотворении А. И. Одоевского «Бал» (1825, первая публикация в 1830 г.) герой присутствует при фантасмагорическом превращении гостей в мертвецов:
Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица – свежей красотой.
Усталый, из толпы я скрылся
И, жаркую склоня главу,
К окну в раздумье прислонился
И загляделся на Неву.
<…>
Стоял я долго. Зал гремел…
Вдруг без размера полетел
За звуком звук. Я оглянулся,
Вперил глаза; весь содрогнулся;
Мороз по телу пробежал.
Свет меркнул… Весь огромный зал
Был полон остовов…Четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями,
Кружася, по полу стуча,
Они зал быстро облетали,
Лиц прелесть, станов красота —
С костей их – все покровы спали.
Одно осталось: их уста,
Как прежде, все еще смеялись.
[Одоевский А. И. 1958: 53]
Тот же мотив обыгрывается в рассказе его двоюродного брата В. Ф. Одоевского «Бал» (альманах «Новоселье», 1833). В популярных «Записках доктора» Гаррисона, переведенных на русский язык и изданных в С.-Петербурге (1835), находим рассказ «Сон»: героиня этого рассказа танцует с молодым человеком, который по ходу танца превращается в скелет[275]275
Названный мотив – как в европейской, так и русской литературе – будет продуктивен и позже, см. его, напр., у Г. Гейне («Атта Тролль». Гл. 21), И. С. Тургенева (стихотворение «Черепа», 1878).
[Закрыть]. «Танцы смерти» в литературе первой половины XIX в. при всем своем образном уподоблении средневековым примерам воспринимаются в контексте, который придает им совершенно иное – не религиозное, но эстетически-игровое, травестийное значение[276]276
Применительно к западноевропейской культуре: [Pörksen 1986: 245–260]. Литературные изображения «плясок смерти» дополняются художественными: см., напр.: карикатурный рисунок 1824 г. неизвестного художника, сохранившийся в имении Олениных Приютино: «Пляска со Смертью княгини Натальи Голицыной, прозванной la Princesse moustache, которая, проживши до 102 лет, в жестокой была претензии на Провидение за несправедливость, давши ей прожить так мало» (репродукция рисунка: [Оленина 1999]). Н. П. Голицына послужила А. С. Пушкину прототипом старой графини в «Пиковой даме».
[Закрыть]. В упомянутых описаниях смерть дискурсивно инкорпорируется в общество, «растворяется» в социальной жизни, напоминает о себе всегда и всюду, но это напоминание ничего не требует от того, кому оно адресовано. Достаточно того, чтобы помнить, что смерть рядом и что живое готово обратиться мертвым. Такая дидактика легко наполняется нравоучительными коннотациями, но коннотации эти остаются так или иначе вторичными, не меняя главного – риторической стратегии, постулирующей «всеприсутствие» смерти и вместе с тем ее релятивизм и в конечном счете обратимость. Литература обыгрывает возникающие в данном случае сюжетные находки всерьез или анекдотически: Д. П. Ознобишин изображает препирания лекаря и пришедшей за ним смерти («Лекарь и смерть», 1830), А. С. Пушкин – пир покойников в доме гробовщика («Гробовщик», 1830), В. Ф. Одоевский – хлопоты покойника о собственном теле («Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем», 1833), появление мертвеца на балу («Насмешка мертвеца», 1834). Н. В. Гоголь, озаглавливая в 1835 г. начатое им произведение «Мертвые души», следует, по сути, той же риторической стратегии. Живое в поэме рисуется как мертвое, а мертвое – как живое (достаточно вспомнить о рекламе Собакевича своим умершим крестьянам)[277]277
Оксюмороническую обратимость живого и мертвого в «Мертвых душах» замечательно описал Андрей Белый: [Белый 1934: 93, 191–192]. См. также: [Манн 1978: 28–74]. О возможном влиянии на Гоголя барочной эмблематики memento mori: [Shapiro 1984: 176–180]. У нас нет уверенности, что, давая своему роману название «Мертвые души», Гоголь не более чем вышучивал романтическое словоупотребление (например, строку «Мертва душа моя» из «Элегии» Баратынского). Обсессия Гоголя на теме смерти кажется слишком серьезной, чтобы увидеть в его «кладбищенской» терминологии только критику предшествующей традиции (см., впрочем: [Гончаров 1989: 25 и след.]). Если даже это и критика, то критика культуры, к которой принадлежал сам Гоголь [Смирнов 1994: 80].
[Закрыть].
Литературная травестия смерти в 1830–1840-е гг. не была, однако, исключительно эстетической реакцией к предшествующей сентиментальной традиции, но и подытоживала итоги утилитаристского механицизма эпохи Просвещения. Представление о теле как о некой целостной и в общем неизменной данности к началу XIX в. уступает представлению о трансформативности и «потенциализируемости» телесного строения. Весьма знаменательно, что начиная с середины XVIII в. анатомические исследования (и, в частности, анатомические опыты в области телесного протезирования) вызывают интерес не только как сфера научно-медицинской теории, но и как предмет антропологической практики, «виртуализующей» человеческие тела[278]278
Поэтому, на мой взгляд, в исторической ретроспективе эпоха Просвещения может рассматриваться как отправная для идеологических и научных стратегий современной медицины, равно способствующей «виртуализации» человеческого тела и его медикализованному «присвоению». Жак Аттали описал роль соответствующих стратегий в современной медицине как реализацию «каннибалического порядка» идеологии. Развиваясь в направлении все большей специализации, медицина все в меньшей степени имеет дело с телом человека и все в большей – с его частями и знаками. В этом процессе означающее подменяет означаемое, тело уступает место протезу, человек отчуждается от тела и, соответственно, «поглощается» в качестве жизни-как-объекта, означенного и комбинируемого идеологией товара [Attali 1979].
[Закрыть]. Мадам де Жанлис вспоминала в своих мемуарах о приятельнице Дидро мадемуазель Мари Маргерит Биерон (Biheron, 1719–1786), посвятившей бо́льшую часть своей жизни анатомии и демонстрировавшей своим знакомым изготовленную ею восковую модель женского тела – копию, отличавшуюся, по словам ученого наблюдателя, от препарированных ею трупов только одним – отсутствием запаха [Genlis 1825: 338–339; McCloy 1952: 163][279]279
Подробнее о М. М. Биерон см.: [Boulinier 2001: 411–425]. О традиции воскового моделирования анатомических препаратов: [Lemire 1987].
[Закрыть]. В России занятия анатомией также находят своих приверженцев. Пропаганда медицинских знаний при этом так же, как и в Европе, не лишена идеологического вызова и поведенческого эпатажа. Насколько далеко мог заходить такой эпатаж, можно судить по воспоминаниям А. А. Олениной о своем отце А. Н. Оленине (1763–1843). Будущий директор Императорской публичной библиотеки и президент Академии художеств в молодые годы учился в артиллерийской школе в Дрездене и жил в семье профессора-немца. «В то время, – рассказывает мемуаристка, – все были вольтерианисты, и батюшка ходил, как и другие, в анатомический театр, где обучался анатомии. Однажды выкинул он такую шутку, которую, признаюсь, не одобряю. Он принес домой в кармане руку умершей женщины, над которой производили в анатомическом театре гальванические испытания. Когда все добрые немцы смирно и аккуратно уселись по своим местам и Frau Professor пречопорно и важно стала разливать свой Wassersuppe (постный суп. – К. Б.), отец преспокойно вынул из кармана руку и положил ее на стол. Нужно было видеть изумление всех! Крик, шум, беспорядок… Вся семья выскочила из-за стола со словами: „abscheulich, Sicherende“ („ужасно, конец света“. – К. Б.) и проч. Профессор рассердился, вышел из себя, хотел посадить батюшку в карцер, но старушка бабушка, которой он был любимец, выпросила ему прощение» [Оленина 1999: 231][280]280
Впоследствии благодаря Оленину в Академии художеств был введен курс анатомии; при Оленине этот курс читал И. В. Буяльский. В XVIII в. в натурном классе «старой» Академии художеств (в доме И. И. Шувалова) преподавал анатом доктор М. Шенк [Семенова 1998: 68].
[Закрыть]. Сергей Аксаков, описывая свою учебу в только что основанном Казанском университете (1805), будет вспоминать об ажиотаже, который вызывали у его сокурсников занятия в анатомическом театре, – сам Аксаков этого ажиотажа, впрочем, не разделяет: «Я начал было слушать с большим участием анатомию и, покуда резали живых и мертвых животных, ходил на лекции очень охотно. <…> Но когда дело дошло до человеческих трупов, то я решительно бросил анатомию, потому что боялся мертвецов; но не так думали мои товарищи, горячо хлопотавшие по всему городу об отыскании трупа, и когда он нашелся и был принесен в анатомическую залу – они встретили его с радостным торжеством» [Аксаков 1909: 81–82].
К 1820-м гг. интерес к анатомии и физиологии в России ассоциировался с именем Шеллинга и популярностью связываемой с ним натурфилософии. Натурфилософия привлекает современников в разных отношениях; философский призыв Шеллинга «обратиться к природе» воспринимается прежде всего как призыв к пересмотру привычного разделения аксиоматики чувственного и умозрительного опыта, органического и неорганического мира. Реальность физического опыта, заслонившая для механицистов эпохи Просвещения мир отвлеченной мысли, и тотальность мыслительной практики, заставлявшая Канта и Фихте априори отворачиваться от ее «природных» акциденций, в философии Шеллинга обнаружили свою аподиктическую связь и гносеологическую перспективу. Шеллингианское «возвращение к природе» мыслится как философский и равно эмоциональный прорыв к самой истории человеческого сознания, а значит – и к той тайне, которая органически связует мысль и мыслимое, ощущение и ощущаемое, человека и мир.
Сам Шеллинг сравнивал изучение природы с прочтением поэмы, зашифрованной в загадочные знаки, которое призвано привести в конечном счете к обнаружению в природе «Одиссеи духа» [Jardin 1996: 233][281]281
Постижение природы, ведя к апофатическому озарению, дает, таким образом, дополнительные аргументы в обоснование гиперлогического знания и «правды» невыразимого [Иванов 1898: 389–393]. История восприятия шеллингианских идей в области эстетики позволяет поэтому, несомненно, с большей определенностью сформулировать экстенсивную тематизацию мотивов молчания в европейской и, в частности, русской литературе первой половины XIX в. (см.: [Богданов 1998]).
[Закрыть]. Ученые последователи Шеллинга не всегда были столь же поэтичны, но также настаивали на связи между природой и духом, макрокосмом и микрокосмом. В методологическом отношении изучение этой связи представляется синтетическим и интроспективным. «Вы хотите познать природу? – обращался к читателям Генрих Стеффенс. – Обратите свой взор вовнутрь себя. <…> Вы хотите познать самого себя? Следите за природой» [Jardin 1996: 233]. Схожим образом определял цель и метод натурфилософии Карл Карус. Постижение процесса бесконечной природной взаимосвязи призвано открыть перед исследователем суть жизненного первоначала (Urleben), тождество материального и духовного. Медицине («Кроне и цветам природоведения») в этом постижении Шеллинг отводил особенную роль – медицинские исследования призваны выявить единство эмпирического и метафизического, вещного и умопостигаемого [Engelhardt 1991: 96 ff]. В объяснение природных и социальных процессов натурфилософы равно используют органистические понятия «роста», «развития», «зрелости», «разложения», а в собственно научной практике пользуются автоэкспериментированием – таковы, в частности, опыты с использованием гальванического электричества, которые ставят на себе Александр фон Гумбольдт и Иоганн Риттер [Riese 1962: 12–22; Lohff 1990].

Рис. 8. Лекция по анатомии. Литография из Анатомического атласа Бертинатти. 1837 г.
В России основными пропагандистами натурфилософии выступили профессор Медико-хирургической академии Даниил Михайлович Велланский (1774–1847) и профессор Московского университета Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840)[282]282
О Велланском см.: [Филиппов 1894: 139 и след.; Левин 1895: № 26, 27, 28; Веселовский 1901: 6–19]. Г. Г. Шпет называет Велланского «первым проповедником идей Шеллинговой натурфилософии» [Шпет 1989: 133], а П. Н. Сакулин – «святым фанатиком натурфилософии» [Сакулин 1913: 131]. О Павлове см.: [Сакулин 1913: 115–127]. О восприятии и значении философии Шеллинга в русском обществе 1820–1830-х гг.: [Иванов-Разумник 1911: 248–254; Setschkareff 1939; Коyrе 1950: 137–152; Философия Шеллинга в России 1998].
[Закрыть]. Прозелитизм русских шеллингианцев в 1820-е гг. находит благодарную аудиторию. «Студенты, – вспоминал о Велланском Н. Розанов, – слушали его с таким вниманием, что если бы профессор умолк, то в тишине стало бы, кажется, слышно движение паутины в воздухе. Во время лекции четыреста глаз студентов не сводили с профессора взгляда» [Розанов 1867: 107–108]. С тем же воодушевлением писал о Велланском историк медицины Я. Чистович: «Смотря на физиологию и общую патологию с точки зрения Шеллинговой и Океновой философии, этот величайший из русских натурфилософов выработал из содержания физиологии абстракт и до того умел завлечь им молодые умы своих слушателей, что на его лекции смотрели как на какое-то откровение и восхищались им до самозабвения. Курс его был, можно сказать, беспрерывным экстазом, о котором бывшие ученики его не могли вспоминать без восторга даже через 20 лет по выходе из академии» [Чистович 1876: 295]. Современник учеников московских натурфилософов, Пушкин писал по свежем впечатлении о совершающейся на его глазах «шеллингианской революции» в естествознании: «Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно» [Пушкин 1940: 72]. Благотворность этого влияния, пусть и с оговорками, признается и учеными авторитетами: натурфилософия, по мнению родоначальника отечественной фармакологии А. Н. Нелюбина, «заслуживает особенное уважение наипаче счастливым своим направлением согласить идеальность с реальностью или идею с опытом» [Нелюбин 1840: 6]. «Счастливое направление согласить идеальность с реальностью» декларируется как стремление к синтезу и вместе с тем методическому исключению, устранению всего, что препятствует проникновению в суть природной взаимосвязи.
Запомнившийся А. И. Герцену вопрос младшего соратника Велланского Михаила Павлова к студентам почти буквально повторяет вышеприведенный призыв Штеффенса (лекции которого тот же Велланский слушал в Вюрцбурге на одной студенческой скамье с Океном): «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» [Герцен 1956: 13][283]283
См. также: [Полевой 1888: 85–86].
[Закрыть]. Князь В. Ф. Одоевский, вспоминая о философских пристрастиях своей юности, будет позже писать в предисловии к «Русским ночам», что метафизика и натурфилософия нашли в учении Шеллинга союзников в поиске такой абсолютной теории, «посредством которой возможно было бы строить <…> все явления Природы» [Одоевский В. Ф. 1913: 9][284]284
См. также: [Cornwell 1986: 91–114].
[Закрыть]. Анатомии в этом поиске отводится особая роль: «Мы принялись за анатомию практически, под руководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас были любимыми учениками. Ни один кадавер мы искрошали» [Одоевский В. Ф. 1913: 9][285]285
Упоминаемый Одоевским Юстус Христиан фон Лодер (1753–1832) – немецкий врач и анатом, работавший в Москве и пользовавшийся широчайшей популярностью (о нем: [Müller-Dietz 1995: 72–79]). С именем Лодера фольклорная традиция связывает, кстати сказать, рус. слово «лодырь» – якобы так в просторечии называли пациентов возглавляемого Лодером военного госпиталя.
[Закрыть]. Один из героев «Пестрых сказок» В. Ф. Одоевского, старый лекарь из «Истории о петухе, кошке и лягушке» (1834), вспоминает (памятное, по-видимому, самому автору) «восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого. <…> „Какое счастье! – кричали они друг другу, – целых шесть славных кадаверов привезли!“ А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!» [Одоевский В. Ф. 1981: 31]. Поиск «абсолютной теории», должной объяснить природу, не лишен мистицизма. Лоренц Окен в 1817 г. сетовал, что «мистицизм продолжает распространяться во всех областях духовной жизни <…> и даже в естественных науках»[286]286
«Isis» oder encyklopädische Zeitung von Oken. Jena, 1817. S. 985. – Цит. по: [Штейн 1927: 203].
[Закрыть]. Куно Фишер сформулирует эту ситуацию не без иронии: за Шеллингом «следует толпа склонных к магии и мистике натурфилософов, среди которых врачи занимают далеко не последнее место» [Фишер 1905: 148]. О том же, но уже в отношении «русского образованного общества» пишет Сакулин: «Мистика образует целое течение в умственной жизни этой эпохи, составляя продолжение и развитие традиций эпохи предшествующей» [Сакулин 1913: 382][287]287
Врачом и мистиком был, в частности, пятигорский доктор Мейер, послуживший Лермонтову прототипом доктора Вернера в «Княжне Мэри». Известно об увлечениях Мейера де Местром и Сен-Мартеном [Сакулин 1913: 374]. В характеристике Лермонтова Вернер – «скептик и материалист, как почти все медики, а вместе с этим поэт» [Лермонтов 1957: 268]. В популяризации «медицинского мистицизма» в России заметную роль сыграло сочинение доктора Ястребцова, сочетавшее убеждение автора в зависимости пользы врачевания от твердости веры («Исповедь, или Собрание рассуждений доктора Ястребцова». СПб., 1841).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































