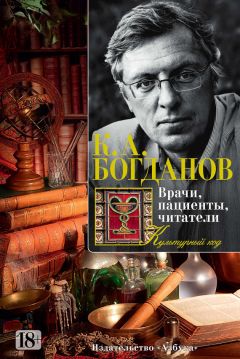
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
С исторической точки зрения литература (Schriftkultur), при всех оговорках на предмет различий в образовательном цензе и количественных показателях грамотности в России XVIII–XIX вв.[30]30
См., напр.: [Brooks 1985; Eklof 1986].
[Закрыть], выступает со времени Петра и остается до сих пор важнейшим средством «конструирования» социальных ожиданий и реализации соответствующих этим ожиданиям властных стратегий. По контрасту с устной традицией письменность, как это заметил уже Платон, способствует отчуждению памяти от ее носителя и передоверяет ее тексту и стоящему за ним «автору». Но насколько этот процесс деструктивен для читателя? Вослед теориям «новой критики» (new criticism) – прежде всего работам Нортропа Фрая и Джона Викери – литературоведы привычно указывают на генетическую и типологическую преемственность литературы с мифологией, в частности на насыщенность литературы различного рода мифологическими подтекстами, «архетипическими» представлениями, семантическими «константами» и т. д. Литературные произведения понимаются при этом как хранилища информации, которые, по-видимости, репрезентируют «новое знание», но на глубинном уровне (понимаемом, как правило, в психоаналитических терминах) транслируют знание традиционное и «общеизвестное». Применительно к общественному сознанию (и обществу в целом) [Лепти 1996: 148–164] письменных культур Нового и Новейшего времени роль литературы представляется, таким образом, не только семантически, но и функционально сопоставимой с ролью мифологических (resp. фольклорных) представлений в архаических культурах. Как медиальное средство ретрансляции традиционного знания литература способствует сохранению коллективной «памяти», поддержанию принятого в данной культуре «порядка вещей», но, значит, и сама является инструментом коллективной (само)мифологизации. Кажется вполне показательным, что изучение фольклорных текстов европейской культуры – в том виде, в каком они реально доступны нам для изучения, – так или иначе подразумевает обращение к литературной традиции. Убеждение в наличии некоего «чистого» фольклора или «чистого» мифа применительно к культурам, в которых уже существует литература, – не более чем иллюзия[31]31
Подробнее об этом: [Богданов 2001].
[Закрыть]. Е. М. Мелетинский, давший содержательную сводку концепционных представлений о мифе, писал в середине 1970-х гг. об упорядочивающей функции мифа, о его социальности и даже социоцентричности, определяемом общественными интересами рода и племени, города и государства. Но ведь то же самое можно сказать и о литературе: подобно тому как в архаических обществах «одним из средств поддержания порядка является воспроизведение мифов в регулярно повторяющихся ритуалах» [Мелетинский 2000: 170][32]32
См. здесь же тонкий разбор концепций «ритуально-мифологического» литературоведения и «новой критики» [Мелетинский 2000: 100–121].
[Закрыть], в обществах письменных – социальное целесообразие литературы обусловливается ее регулярным воспроизведением в институализованных «ритуалах» письма/чтения.
В 1767 г. А. Т. Болотов в пространном рассуждении «О пользе, происходящей от чтения книг» объяснял, что – помимо пользы для государств, чей расцвет происходит или, во всяком случае, «может произойти» от «доброго употребления книг», – чтение позволяет человеку достичь предназначенного ему Богом в преодолении природных слабостей: «Наги, немощны, бессильны, ни к чему не способны, глупы и, одним словом, в таком бедном состоянии родимся мы, что без помощи посторонней едва ль бы нам и два дня прожить возможно было. Самым первым и нужнейшим вещам должны мы несколько лет учиться, а всего удивительнее, что и говорить бы мы не умели, если б не вместе с другими людьми жили, и от них тому выучились понаслышке»[33]33
Цит. по публикации: [Веселова 1998: 364].
[Закрыть]. Человек от рождения «недостаточен», совершенствование его способностей зависит от других людей: дав человеку возможность к научению, Бесконечный Создатель «требует, чтоб мы до тех пор от других воспитываемы, всему учены были и в сем бы зависели, покуда не вырастем». С возрастом необходимость кооперации с другими людьми и образования, однако, не уменьшается, а даже возрастает – «как скоро придем в возраст, как скоро разум и прочие наши силы чрез таковое научение до такой степени совершенства достигнут, что мы уже к произведению произвольных дел и сами способны уже будем, то требует он, чтоб мы конечно при тех знаниях не оставались, которые в малолетстве от родителей и от других людей получили, но способом врожденных в нас и уже к действию в способность приведенных сил сами уже о распространении знания и о приведении разума своего в такое совершенство старались, чтоб он все те пользы нам приносить и ко всему тому служить мог, к чему он назначен и на какой конец мы сим одарены. <…> Тогда-то начнет человек на свете собственную свою ролю представлять, тогда-то настанет время, что его уже членом общества почесть можно, и с которого благополучие или злополучие его производиться может» [Веселова 1998: 365]. В этом замечательном рассуждении (предвосхищающем философско-антропологическую проблематику человеческой «недостаточности» – проблематику, которая будет положена в центр экзистенциалистских концепций XX столетия) Болотов делает упор на «коллективизирующей» силе чтения – силе тем более значимой, что «наукам обучаться не всякому время, и не у всякого довольно к тому достатка бывает, напротив того, чтение книг и в десятую долю тем затруднениям не повержено. Их гораздо множайшему числу и доставать, и читать и время, и случай, и достаток позволяет» [Веселова 1998: 366]. Полагая (а точнее, доверяя идеологии в том), что знание – сила, читатель пользуется чтением пропедевтически: чтение является залогом знания, однако уже в самой настоятельности этой связи (от чтения – к знанию, от знания – к силе) просматривается устойчивость не только определенной идеологической стратегии, но также социальной – и индивидуальной – терапии. И триста лет назад, и сегодня читатель читает, чтобы узнать нечто, но он узнает только то, что уже знают другие, – в идеологически круговой поруке чтения такое знание спасительно: оно изначально прецедентно к тому, что уже некогда было, и уже потому противостоит человеческой «недостаточности», одиночеству, хаосу и энтропии.
В структуре «фонового знания», транслируемого литературой, патографические тексты не только описывают, но и предписывают дискурсивные модели социальной терапии. В какой степени эффективны такие модели – другой вопрос. Понимание болезней и смерти в качестве «антропологических констант» не может заслонить различий в связываемых с ними жизнестроительных, идеологических и культурных практиках, а соответственно, и в тех «разговорах» (discours), которые эти практики оправдывают[34]34
Ср.: [Barloewen 1996: 9–91; Ethnik Variations 1993].
[Закрыть]. «Патографические» тексты особенны в разные времена и в разных национальных традициях, складываясь за счет сравнительно универсальных, но в то же время вполне специфичных дискурсивных предпочтений. Можно думать, что каждая культура «отражает» в данном случае то, что сама же конструирует, – сеть репрезентаций и повествований, формирующих пусть не понимание, но во всяком случае наше освоение реальности[35]35
Ср.: [Leitch 1988: 404; Изер 2001: 188–191].
[Закрыть]. Такое «освоение» аналогично ориентации на местности, ландшафт которой либо неизвестен, либо известен лишь приблизительно. Память и прогноз, ретроспекция и перспектива – вот те механизмы, благодаря которым культура – и литература, в частности, – реализует понудительность врожденного нам, по И. Павлову, «ориентировочного рефлекса» [Павлов И. П. 1951: 27 и след.; Кочубей 1979: 35–46]. Медицина также предлагает необходимые для такой ориентации тактики идеологического контроля, «работающие» на поддержание общества в состоянии некоего динамического равновесия (равновесия, которое, естественно, небезусловно и чревато тем, что называется «революциями»). Но чем определяется это равновесие при очевидных различиях литературного и медицинского дискурса? Чтобы ответить на этот (в общем – социологический) вопрос, следует учитывать, что доминирующие в обществе стратегии «нападения» и «отступления» реализуются в культуре не прямо, но опосредованно, путем различного рода «компромиссных» тактик – тактики своеобразного дискурсивного обмена (не исключающего обмана) и психологических уступок – как реальных, так и символических. Нельзя не удивляться, к примеру, что расцвету медицинской мысли в Древней Греции – созданию книг прославленного гиппократовского корпуса – сопутствовало оформление сатирической типологии в изображении медицины и ее профессиональных служителей [Amundsen 1974: 320]. Понятно, что прогресс в теоретической медицине, не будучи поддержан в практическом лечении пациентов, превращал античную медицину в кастовую и едва ли не конспиративную науку: такая медицина – наука, существующая в себе и для себя, – была лишена смысла в глазах окружающих [Temkin 1977: 14–15, 45–47]. Показательно, однако, что даже радикальные успехи в практике реального врачевания любопытным, но едва ли случайным образом контрастируют в художественной литературе с инвективами в адрес врачей-шарлатанов и рассуждениями о тщете медицинских усилий. Было бы очень наивно думать, что критика медицины в литературе той или иной эпохи непосредственно отражает медицинский регресс в ту же эпоху, но, вероятно, без такого рода критики не было бы и того баланса, который существует между идеологическими интенциями властного (в данном случае – медицинского) знания и претензиями общественного сознания. Литература проговаривает то, что не проговаривает медицина, но что «тематически» их так или иначе объединяет, – неустранимость человеческих страданий и неизбежность смерти. Разрыв между средствами медицины и вменяемой ей «сверхцелью» оказывается, однако, слишком велик, чтобы не вызвать протеста. «Кто лечит – тот и увечит», – читаем в словаре Даля одну из характерных на этот счет пословиц, обнаруживающую многочисленные параллели в мировом фольклоре [Thompson 1955–1958: К2004.1, Р424.2]. Фольклорная и литературная стилистика протеста против медицины и медиков многоразлична, варьируя от площадной брани до едкой сатиры, от мазохистичного цинизма до смиренномудрого скепсиса. Читатели конца XVIII – начала XIX в. могли вспомнить здесь и «Письмовник» Николая Курганова (1-е изд. – 1769 г.) с его анекдотическим афоризмом о врачах, которые «надобны для убавки многолюдства»[36]36
«В некоей беседе говорили, что докторы ни к чему [не] годны. Тогда один стряпчий сказал: неправда, они по крайней мере надобны для убавки многолюдства. Но я, не защищая себя, скажу, – врач молвил, – что на меня никто не жалуется. Статься может, – повторил сутяга; ибо ты своих соперников отправил на тот свет» [Курганов 1793: Ч. 1, 144].
[Закрыть], и соответствующие той же традиции «говорящие имена» врачей вроде почитающего себя «чудом медицины» Смертодава из «Прогулок» Александра Клушина (1792) [Клушин 1792: 154–156], и знаменитую эпиграмму графа Д. И. Хвостова (1784), обращенную к некоему «лечившему» его медику: «Что ты лечил меня, слух этот, верно, лжив, / – Я жив» и т. д. [Русская эпиграмма 1975: 138][37]37
Таковы же эпиграммы Василия Майкова (1772) «Петр, будучи врачом, зла много приключил: / Он множество людей до смерти залечил» и т. д. [Майков 1966: 286], Михаила Хераскова: «Поветрие, война опустошают свет, / А более всего рецепты да ланцет» [Муза пламенной сатиры 1988: 101]. Аналогичные примеры сатирического изображения врачей см.: [Покровский 1907].
[Закрыть].
В России скептическое, а то и прямо враждебное отношение к врачам и медицине исторически определялось тем немаловажным обстоятельством, что институализация самой медицинской профессии устойчиво связывалась в общественном сознании с преобладанием в ней иностранцев. Кажется символичным, что наиболее ранние упоминания о врачах, казненных за неудачное лечение, указывают на ставших впоследствии привычными для русской истории «врагов народа». Первое такое упоминание относится к 1483 г. о враче по прозвищу Антон Немечин (т. е. «немец», под которыми понимают в это время иностранцев вообще). Антону было приказано лечить находившегося в Москве татарского царевича Каракача. Больной умер, и Иван III выдал врача татарам, умертвившим его у Москвы-реки. В 1490 г. та же участь постигла некоего Леона Жидовина, пытавшегося вылечить сына Ивана III князя Ивана Ивановича от «камчюга» (ломоты в ногах) припарками, и также неудачно. По истечении сорока дней после кончины князя Леону отрубили голову [Загоскин 1891: 20, 21]. В 1690 г. серьезно заболевший патриарх Иоаким выгнал прибывших к нему по царскому повелению врачей-иностранцев и «никакоже даде себя врачевати, иже суща верою неедина мышления» [Барсуков 1879: 74]. Об атмосфере, в какой приходилось работать врачам-иностранцам в современной Иоакиму Москве, вполне свидетельствует сохранившаяся челобитная, поданная русскими учениками Аптекарского приказа, просившими разрешения жить и есть «особно» от иностранного учителя, дабы «от него не оскверниться» [Unkovskaya 1997: 11]. В театральных интермедиях XVIII в. почти всегда подчеркивается нерусское происхождение врача [Пьесы 1975: 468–471; 674–675; Пьесы 1976: 665–667, 713–718]. Схожим образом обстоит дело в фольклорной традиции, в пьесах народного театра XVIII – ХIХ вв. Врач странно выглядит, плохо говорит и в конце концов бывает бит – и потому, что врач, и потому, что иностранец[38]38
См., напр., остающиеся в репертуаре балаганных представлений вплоть до конца XIX в. «Голландский лекарь и добрый аптекарь», «Доктор и больной», а также образы врачей в пьесах «Петрушка», «Царь Максимилиан» (многочисленные примеры: [Русская народная драма 1953]). Негативный образ врача доминирует и в фольклорных паремиях: [Иллюстров 1904: 308].
[Закрыть].
Английский врач А. Б. Гранвиль в книге, посвященной состоянию дел в петербургской медицине (английское издание 1828 г., русский перевод 1832 г.), основываясь на собственных наблюдениях, отмечал бросающуюся в глаза диспропорцию в числе иностранных и русских врачей. «Медицинскую профессию в С.-Петербурге отправляли большей частью иностранцы – немцы, французы, англичане и итальянцы, так что число русских врачей в сравнении с ними слишком ограниченно» [Гранвиль 1832: 9]. Наблюдение Гранвиля требует исторической корректировки (в «Российском медицинском списке» 1809 г. за 2058 поименованных врачей большинство составляют русские) [Громбах 1953: 17], но важно, что оно отражает общее убеждение современников, видевших в русской медицине лишь одно из проявлений европейской культуры и европейской науки. Вплоть до середины XIX в. иностранное происхождение врачей подчеркивается и в литературе. Стилистика подобных изображений варьирует, но редко бывает нейтральной. Василий Нарежный анекдотически обыгрывает сравнение врачей-иностранцев и врача русского в романе «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1813–1814). В первой главе четвертой части этого романа главный герой впадает в ипохондрию, а его сын собирает консилиум медиков, чтобы найти способ его вылечить. Происходит диспут, на котором приглашенные врачи предлагают способы лечения, живо напоминающие читателю о традициях сатирического изображения медицинской профессии, но также и о сложившихся национальных стереотипах. Советы – один нелепее другого – симптоматичны: русский врач предлагает напоить больного, хотя бы и против его воли, пуншем; француз – познакомить больного с пригожей девицей; немец – запереть больного и взять его измором, искушая попутно едой и танцами; англичанин – вручить больному заряженный пистолет и дать ему возможность застрелиться. Диспут заканчивается потасовкой немца и англичанина. Побивший немца англичанин спокойно уходит, немец грозится вписать в свою монографию, посвященную доказательству пагубности английских способов лечения, очередные двести страниц; русский «вышел, качая головою, а француз – распевая песню» [Нарежный 1983: 297].
Иллюстрацией той же сатирической традиции может служить персонаж, выведенный Гоголем в «Ревизоре». Здесь это – безмолвный лекарь Христиан Иванович Гибнер, немец, который на протяжении пяти актов пьесы однажды «издает звук, отчасти похожий на букву: и, и несколько на: е» [Гоголь 1951: 13]. Сакраментальная характеристика его деятельности вложена Гоголем в уста попечителя богоугодных заведений Земляники: «О! Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше; лекарств дорогих не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясниться – он по-русски ни слова не знает» [Там же][39]39
Столь же неразговорчив немец-врач в поэме «Бова» 15-летнего Пушкина: «Ко лбу приставя тщательно, / Лекарь славный, Эскулапа внук, / Эзельдорф, обритый шваб, зевал, / Табакеркою поскрипывал, / Но молчал – своей премудрости / Он пред всеми не показывал» [Пушкин 1937–1949: Т. 1, 66]. С. М. Громбах напоминает и о говорящей фамилии пушкинского врача – «Ослиное село» [Громбах 1989: 15].
[Закрыть]. Не знающий по-русски Христиан Иванович – образ, репрезентирующий в данном случае, конечно, не только репутацию медицинской профессии (к которой сам Гоголь, надо признать, пиетета не испытывал), но и то, что с этой профессией так или иначе ассоциировалось, – непонимание русской жизни, да и жизни вообще. Замечено, например, что даже в тех произведениях русской литературы первой половины XIX в., где врач изображается положительно, он, как правило, чудаковат, одинок и несчастлив в семейной жизни [Неклюдова 2001b: 363–364]. Имея дело по роду своей профессии с человеческим телом, врач не разбирается в душе, а соответственно, и в людях. Об устойчивости этого предубеждения наилучшее представление дает сравнение именно несхожих в жанровом и стилистическом отношении текстов, репрезентирующих медицинскую профессию, – будь то, например, забавный диспут о медицине в повести А. А. Бестужева-Марлинского «Фрегат „Надежда“» (1833) и сюжет «Скучной истории» А. П. Чехова (1889). В повести Марлинского разговор о медицине между подвыпившими корабельным лекарем и вахтенным лейтенантом завязывается с рассуждения о необходимости рецептов: для лекаря рецепт – атрибут медицинского вспомоществования, «вексель на получение здоровья» («Стократ блаженны те, которые лечатся и умирают по рецептам»), для лейтенанта – никчемная бумажка, годная разве что для закуривания трубок («контрамарка на вход в кладбище»). Согласие достигается по мере потребления спорщиками портвейна – «к черту медицину», коль скоро она не может ответить, зачем нужна селезенка («иные утверждают, будто в животной экономии селезенка необходима для отделения желчи, – но лучшие анатомисты до сих пор находят ее пригодною только для гнезда сплина, считают украшением, помещенным для симметрии»), какова причина безумия («сгущенная лимфа, или пары, или мокроты, именуемые вообще serum, которые, отделяясь от испорченной крови, наполняют клетчатую мозговую плеву») и что такое сердце – только ли «химическая горлянка, в которой совершается процесс кровообращения и окрашивания крови посредством вдыхаемого кислотвора», если оно чахнет от любви. Как излечить человека от страстей, природа которых неясна: должно ли «начать лечение прохлаждающими средствами <…> потом пиявки» или «можно последовать совету славного римского врача Анархаста, который резал руки и ноги, чтоб избавить от бородавок, – и сделать ам-пу-та-цию, да тереть против сердца чем-нибудь спир-ту-о-озным!»[40]40
Цит. по: [Марлинский 1976: 288, 290, 292, 294].
[Закрыть].
«Скучная история» Чехова, конечно, никоим образом не схожа по тону с вышеприведенным текстом из повести Марлинского. Герой чеховской повести, «профессор по медицинской части» Николай Степанович, – персонаж куда менее комичный, чем лекарь у Марлинского, – одолеваем мыслями о смерти и желанием пожить еще лет десять. Он разочарован и потерял смысл жизни. У профессора, как узнает читатель, есть воспитанница – Катя, дочь умершего друга. Она тоже одинока, растеряна и ждет совета от своего приемного отца, как жить дальше. Но профессор дать совета не может. Н. К. Михайловский, посвятивший «Скучной истории» снисходительно доктринерский комментарий, упрекал Чехова в отсутствии у него «общей идеи», которая бы позволила читателю увидеть в его произведениях руководство к жизни. В отличие от самого Михайловского, оценивавшего литературу в ее претензиях решать сакраментальные вопросы типа «что делать?» и «кто виноват?», Чехов таких вопросов, по собственному (пусть и лукавому) признанию, не решал и потому, по словам критика, был «даром пропадающим талантом» [Михайловский 1897: Т. 6, стб. 775. Разбор «Скучной истории»: Стб. 778–784]. Отсутствие «общей идеи», выразившееся в «Скучной истории», выглядит между тем символичным – символичны и те детали чеховского повествования, которые были, по всей видимости, важны для самого Чехова и небезразличны для его читателей-современников. Одна из них – медицинская профессия главного героя. Михайловский считал, что деталь эта случайна, на месте нарисованного Чеховым старика-врача мог бы быть кто угодно. Но так ли это? Лаконичный Чехов был исключительно осмотрителен в «профессиональных» характеристиках своих героев – в «Скучной истории» подобная характеристика тем более уместна, чем выразительнее оттеняемый ею сюжетный конфликт. А конфликт этот состоит именно в том, что, будучи призванным по специальности иметь дело с вопросами жизни и смерти, профессор «Скучной истории» не может дать ответа, которого от него ждет самый близкий ему человек (а вместе с ним – и читатель): как и зачем жить?
При всех своих очевидных жанровых и стилистических различиях тексты Марлинского и Чехова иллюстративны к превратностям общественного сознания, вменяющего медицине ответственность не только за здоровье человека, но и за осмысленность человеческого существования. Из повести Марлинского мы узнаем, что современная ему медицина могла быть актуально спародирована – пусть эта пародия и прочитывалась с оглядкой на комедийно-сатирические традиции предшествующей литературы – как наука, далекая от понимания человека. В отличие от Марлинского, Чехов мог судить о медицине вполне профессионально [Хижняков 1947; Меве 1961; Шубин 1977; Agrifoglio 1968: 455–1; Baker 1975: 25–30], но мораль (или, если угодно, отсутствие морали) «Скучной истории» тоже не внушает оптимизма насчет медицинского знания[41]41
Ср.: [Grecco 1980: 3–10; Ponomareff 1987: 185].
[Закрыть]. Современникам Чехова достаточно было, впрочем, прочитать мемуары Н. И. Пирогова – несомненно, самого знаменитого врача своего времени и кумира «демократического студенчества», чтобы поразиться горьким и вполне мазохистическим признаниям их автора в душевной смуте и утрате былых, когда-то вдохновлявших его позитивистских идеалов. Доживи Пирогов до «Скучной истории» Чехова, не исключено, что он смог бы узнать в ее главном герое самого себя.
В начале века литературным событием, стимулировавшим читательский интерес к медицине и ее общественной роли, стала публикация «Записок врача» В. В. Вересаева (1901). Вересаев, начинавший свою книгу со стремления прояснить для себя надежды, возлагавшиеся им некогда на медицину, завершал ее убеждением в том, что врачи – «лишь небольшая часть одного громадного, неразъединимого целого», поэтому их личная судьба и успех прозреваются «лишь в судьбе и успехах этого целого» [Вересаев 1948: 649]. В обсуждении «этого целого» литераторы и врачи в очередной раз находят общие темы для разговора, сочетающего споры о смысле жизни с рассуждениями о политическом будущем России [Бернадский 1913; Брусянин 1914]. Немаловажное место в этих разговорах занимает вопрос о врачебной тайне. На этических аргументах в пользу неразглашения врачом сведений о болезни пациента в конце XIX в. настаивал В. А. Манасеин, редактор пользовавшейся широкой популярностью газеты «Врач». В послереволюционные годы те же аргументы кажутся уже недействительными: идеология требует «прозрачности» коллективного сознания и устранения из медицины всего, что напоминало бы о «приватности» взаимоотношений врача и пациента[42]42
К истории вопроса см.: [Левенталь 1916]. В послереволюционные годы на отмене врачебной тайны настаивал наркомздрав Н. А. Семашко [Вересаев 1985: 217–218]. В эти же годы предлагалось заменить понятия «(мед)сестра» и «сестра милосердия» понятиями «помврача», «замврача», «медтехник» [Николаев 1932: 40].
[Закрыть]. Ученые, а вместе с ними и литераторы новой эпохи декларативно открещиваются от реального и мнимого пессимизма своих предшественников: скорби противопоставляется надежда, унынию – оптимизм, реальности болезней и умирания – утопия технологически гарантированного преодоления болезней и самой смерти.
В работе, посвященной «мифу спасения» в русской литературе 1900–1930-х гг., Ирен Масинг-Делич подчеркивает важность темы физического бессмертия в конструировании «оптимистической» парадигмы пореволюционной эпохи [Masing-Delic 1992]. На фоне материалов, проанализированных американской исследовательницей (ограничившей, к сожалению, свой анализ преимущественно философскими и литературными текстами и не касающейся научной, и в частности медицинской, литературы), первые десятилетия XX в. предстают своеобразным апофеозом надежд на успехи в борьбе со смертью. Наблюдения Масинг-Делич кажутся вполне справедливыми, но заслуживают своего уточнения в анализе предшествующей культурной и идеологической традиции. Мечтания о возможности достижения физического бессмертия, нашедшие свое радикальное выражение в философии биокосмизма и научно-медицинских надеждах на революционный прогресс в области геронтологии (чье основание в России связывается с именами И. И. Мечникова и П. И. Бахметьева – одного из первых ученых, исследовавших возможность применения анабиоза для продления жизни) [Масалова 1914; Метальников 1917 (2-е изд. – Берлин, 1924); Догель 1922; Шмидт 1924; Шмальгаузен 1926; Новиков 1928: 23–32][43]43
См. также: [Тишков 1987: 277–313; Soloviev 1995: 20–23]. О философии биокосмизма см. замечательную работу: [Hagemeister 2003: 237–284].
[Закрыть], не возникли на пустом месте, но подытоживают, как я попытаюсь показать ниже, историю патографического дискурса русской культуры, и прежде всего – русской литературы XVIII–XIX вв.
Настоящая работа писалась в России и Германии и никогда не могла бы быть написана, не будь у меня возможности пользоваться петербургской Библиотекой Академии наук, Российской публичной библиотекой, а также книжным раем Констанцского университета. Хорошим стимулом к уточнению высказанных в книге суждений послужили занятия со студентами, а также выступления на коллоквиумах и конференциях в Констанце, Петербурге и Москве. Я благодарю своих друзей и коллег, в разное время способствовавших или попустительствовавших этим возможностям. Особое спасибо Марине Черных, Игорю П. Смирнову, Ренате Лахманн, Юрию Мурашову, Рикардо Николози, Александру Панченко, Татьяне Ластовке.









































