Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг."
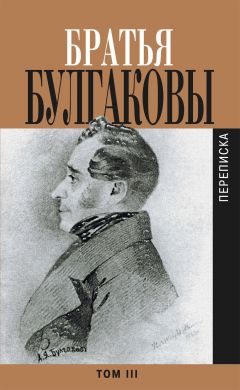
Автор книги: Константин Булгаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр. Москва, 12 апреля 1829 года
Заезжал я вчера к Волкову и нашел его невеселым. Царь жалует, да псарь не жалует: дело его аренды стало в пень по милости Чернышева, тогда как Волков благодарил государя, сказав: «Теперь, государь, у меня будет большое подспорье для семьи, а мне ведь кормить 11 человек». Государь изволил засмеяться, а Волков только что не плачет. Молодой Долгоруков, сын вашего неминистра юстиции, женится на внучке графа Владимира Григорьевича Орлова, дочери Петра Львовича Давыдова. Ее очень хвалят во всех отношениях, она несколько горбата, но имеет 2000 негорбатых душ – кроме приданого, бриллиантов и всего того, что дадут дедушка и родные, а мы с батюшкой любим эти коклюшки.
Александр. Москва, 15 апреля 1829 года
Мы с Фавстом вчера пускались на некоторые необходимые визиты. Начали с военного генерал-губернатора.
Рушковский был у меня в 10 часов в большом параде; сказал, что от князя, который спит и велел просить всех в двенадцать часов. Мы так и сделали, нашли его очень веселого. Много он со мной говорил, даже и о политике, но не о сенаторе, однако же. «Так что же, послы едут в Константинополь, это приведет к миру?» – «Напротив, князь, ясно, что турки стараются только выиграть время. Вот увидите, как только послы прибудут в Константинополь, у рейс-эфенди будет один ответ: “Я послал курьера к султану и ожидаю приказаний его величества”». Новосильцев объяснил мне причину Князева удовольствия: он получил рескрипт, по коему велено ему прямо относиться к государю мимо министров, как он того желал. Понимаю, что такое изъятие из общего правила льстит Князеву самолюбию, но я заметил Новосильцеву, что это одно и то же: министры должны согласиться на полезное, а неуместное государь также откажет. Государю нельзя самому все дела разрешать и обрабатывать, следовательно, получив, станет отсылать по принадлежности. Теперь, когда не будет государя, надобно же относиться к министрам или к комитету их. Положим, что министры князю не доброжелательствовали (почему, впрочем?), теперь они натурально более озлобятся; что же выиграет князь и что выиграет служба? Много было толков у нас об этом, но где же все это писать!
Александр. Москва, 17 апреля 1829 года
Вчера пришла к нам мадам Алексеева. Отводит она нас с женой в сторону и дает читать письмо, кое получила от брата своего Вигеля, который у вас. Поступил он, между нами будь сказано, довольно безрассудно. Дашкову, с коим, кажется, он дружен, взбрело в голову жениться на Софье Соковниной[45]45
Софья Прокофьевна, родная племянница жены А.Я.Булгакова, в детстве лишившись родителей, жила под опекою своего дяди Сергея Федоровича Соковнина, который позднее и выдал ее замуж за вдовца, графа Василия Алексеевича Бобринского; а Дмитрий Васильевич Дашков (министр юстиции) женился на Елизавете Васильевне Пашковой.
[Закрыть]. Он поручил сестре своей просить нас о поддержке. Какая же тогда нужда писать к сестре и доверять ей все эти сведения? Надобно было писать прямо к нам.
Ни молодая особа, ни дядя Дашкова не знают. Вигель говорит: «Ежели дело устроится, Дашков через две недели будет в Москву»; но мне кажется, что начинать надобно со знакомства, а уж после говорить о браке. Как я понимаю дело и знаю характеры обоих, Софья пойдет замуж только по любви и никогда не пойдет из расчета. Дядя – чудаковат, упрям, странен, иначе, верно, не сомневался бы отдать племянницу свою за такого славного человека, как Дашков. Несмотря на это, не компрометируя Дашкова, я почву исследую, поговорю с дядей. Посмотрим сначала, есть ли у него мысли, и какие, насчет Дашкова, ибо он одного себя превозносит в этом свете. Долгоруков, кажется, и хорош был жених, да и довольно нравился Софье Прокофьевне, да не состоялось, а все от дяди. Жаль мне будет, ежели Алексеева выболтает это. Ежели, паче чаяния, Дашков стал бы тебе говорить, то будешь знать, что отвечать. Ну и достаточно сего покамест.
Иван Петрович Носов, наш годовой часовщик, человек тихий, добрый, скромный и преискусный, едет в Петербург; я дал ему письмо к тебе. Он совершенная красная девушка, а едет он вот по какому случаю. Вызывают всех работавших в каком-нибудь роде для большой экспозиции в Петербурге по примеру, видно, экспозиции парижской; эта новость заводится Закревским. Носов изобрел славнейший хронометр, который желает также экспонировать; все часовщики признают это славностью, делающей честь русскому имени, но без протекции мудрено обойтись. Он просит, чтобы его только не оттерли, чтобы обратили внимание на труд его; пусть судят его строго, он этого не боится. Трудить не хочу я Закревского особым письмом.
Александр. Москва, 20 апреля 1829 года
Только что собрался я было ехать к Фавсту, является Похвиснев. «Поздравляю вас с милостью монаршею!» – «Что такое?» – «Вот вам письмо от братца». Я ушел к жене в спальню, и тут мы покойно поплакали, читая письмо твое от 16-го. Ох, воскресил ты нас, бесценнейший брат! Ибо кому же, ежели не твоим неусыпным попечениям, обязаны мы милостью, которую получаем? Десять тысяч, кажется, небольшая сумма, но для нас это в теперешнее время великая подмога. Когда получу прибавку, графом обещанную, то буду истинно доволен, и граф увидит, стану ли когда-нибудь о себе просить. Мы в такой радости, что описать тебе не могу. Нашу нужду терпели и люди наши, нам преданные. Весь дом в волнении, а Наташа не перестает плакать и от радости, и от слабости. Бог тебе воздаст за радостный этот для нас день! Я не соображу ни одной мысли.
Александр. Москва, 21 апреля 1829 года
Ты отдашь справедливость моей рассудительности: пожалование красного кафтана наделало бы много шуму по Москве, пожалование десяти тысяч единовременно покажется весьма маловажной наградою для чиновника 4-го класса. Это так, но кто взглянет в мою шкуру, кто знает нужду мою, и кому захочу я ее открыть? Всякую малейшую пользу для моей семьи предпочту наружному вздорному блеску. Я сенатор в моих собственных глазах, ежели государю угодно было найти, что я достоин сего звания. Это внимание государя дороже мне всего. Я думаю, как Волков, что государь точно так же и 25 тысяч изволил бы пожаловать мне, как и 10 тысяч; но тут надо другого начальника, как граф Нессельроде, говори ты там что хочешь! Благодарнее души моей нет, я ценю то, что вымучил ты у вице-канцлера, благодарю его, но грешен: не лежит сердце к нему. Так ли делают добро? Десять тысяч будут для меня передышкой великою. Никогда государь не давал еще так кстати нуждающему, как этот раз. Поверь мне, что всякая сотня рублей станет ребром. У меня столько мелких долгов, что стыжусь их. Бедная моя жена (теперь можно тебе сказать) продала маленькие свои жемчуга и фермуар, подаренный ей покойной императрицей Елизаветой Алексеевной, чтобы купить четырехместную карету, без коей нельзя было никак обходиться; было ехать куда с детьми, так делалось все в два каравана: четверых не посадишь в двухместную карету. Десять тысяч не заваляются у нас, но это откроет нам кредит наперед.
Александр. Москва, 29 апреля 1829 года
Не удалось мне попасть на вчерашний славный спектакль, а только афишку достал. Из оной видел я, что Семенову именуют княгиней Гагариной и что «Ненависть к людям», комедию Коцебу, перевел Малиновский, не знающий ни слова по-немецки. Это ташеншпилерская штучка!
Бедная Софья Александровна Волкова вдруг занемогла. Очень она мучилась, и Сашка всю ночь был на ногах. Вчера ввели меня к ней; узнать ее нельзя, хотя и лучше. Она хотела меня видеть и просила написать ей письмо к Дибичу, только что в силах будет подписать: просит, чтобы отпустил Акинфиева к жене, которая лежит в Яссах отчаянно больна. Везу к ней сейчас письмо, а она тебя просит доставить оное как можно скорее к Дибичу, который, бывало, живал почти на хлебах у Волкова и называет Софью Александровну своей капитаншею и поднесь. Ежели, Боже сохрани, умрет Наталья Александровна, то останется дочь семи лет совершенно на Божью волю без отца и матери.
Понимаю, что тебе много хлопот теперь. Пусть благодать Божия сопровождает всюду государя и всю свиту! [Николай Павлович ехал тогда короноваться в Варшаву, с государыней и наследником. Вот и Энгельгардт пригодился, да не все ли репнинские были и теперь еще полезны государю? Сколько хороших слуг доставил князь Николай Васильевич государству!
Желаю, чтобы сладилось дело Дашкова, но сомневаюсь, зная Софью; ее претензии очень велики, и она не пойдет замуж по расчету, но я прощупаю тихонько почву и тебе о сем напишу.
У меня была подписка на праздник, который готовится для Гумбольдта[46]46
Александр Гумбольдт – немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. В 1829 году совершил большое путешествие по России.
[Закрыть]; нечего делать, подписал и я. Человек сорок уже есть и до 3000 рублей собрано.
Александр. Москва, 30 апреля 1829 года
Я тебе говорил в свое время о бумаге, которую Волков просил меня написать; да не было ему все досугу прочитать ее вместе со мною. Сегодня велел сказать, что имеет утро свободное, чтобы я приехал, что будем одни. Ему очень понравилось, исправлю некоторые замечания его и перепишу набело, а там и тебе сделаю копию. Волков посылает это Бенкендорфу, который государю покажет. «Надобно ли вас назвать?» – спрашивает Волков. «Да почему же нет? Я не откажусь ни от чего, что написал, мои мнения и чувства не таковы, чтобы я их прятал». Я уже с Лобановым много толковал о необходимости опровергать то, что иностранные журналы врут насчет России. «Напишите о сем небольшую записку и передайте ее мне»; я начал было писать, но мысль родилась за мыслию, записка вышла поогромнее, Лобанов скоро уехал, и я не успел ее обработать. Странно, что Волков после мне начал говорить о том же точно и просил отдать ему мою записку, прибавляя: «Ежели и не состоится мысль, которую ты предлагаешь, то все-таки государь увидит, что ты человек благонамеренный и что умеешь хорошо обдумать и написать бумагу». Чтобы не подумал Нессельроде, что я хотел мимо него что-нибудь представить государю, то Волков напишет, что имел со мной разговор о вздорных слухах, разглашаемых по Москве, и, найдя многие мои мысли основательными, он меня убедил составить письменную заметку, получив которую, долгом считает сообщить Бенкендорфу, и проч.
Конечно, брат, 10 тысяч не суть важны, но меня это очень оживило: легче будет дышать нам теперь. Мы наняли шагах в ста от прежнего дому дом Киреевского на Арбате за 2000 рублей в год, дом застрахован; это также выгода для нас.
Александр. Москва, 3 мая 1829 года
Вчера была драка во французском театре. Все съехались; разумеется, многие отпустили кареты домой, пьеса долго не начиналась. Выходит актер и объявляет, что по причине внезапного недомогания мадам Вальмон спектакля не будет; а вместо того узнали, что Монье – вероятно, пьяный, – расквасил рожу и подбил глаз бедной Вальмон и поколотил еще мадам Виржини. Полицмейстер Миллер и Иван Александрович Нарышкин ходили на сцену мирить, но нечего было делать: как же женщине с подбитым глазом явиться на публике, да еще такой красивой женщине, как мадам Вальмон! Хороши господа французы.
Благодарю тебя за вести ваши. Вот и Вигель с местом [директора Департамента иностранных исповеданий]. Я очень рад.
Александр. Москва, 8 мая 1829 года
Долго болтал я с Волковым. Меня теперь взяло раздумье. Он говорит, что велено одни самонужнейшие бумаги посылать в Варшаву и далее, а что прочие должны ожидать возвращения Бенкендорфа в Петербург; потом рассудил я, что во всяком случае записка моя не минует Нессельроде, который может подумать, что я хотел что-нибудь поднести государю мимо него, чего не было у меня в мыслях. Я сказал Волкову, что коли так, то уж я лучше перепишу и тебе пошлю прочесть и требовать твоего мнения. Он очень одобрил это, и я сам теперь уже рад этой остановке, ибо самый благонамеренный поступок может быть инако истолкован начальником мнительным, каков граф наш. Я занялся этим вместо забавы. Нимало не дорожу трудом своим; ежели найдешь его достойным внимания, то можешь и графу послать, а не то оставь у себя сувениром.
Александр. Москва, 9 мая 1829 года
Вчера видел я приехавшего Лунина, который сказывал, что главная его отрада в Петербурге был твой дом. Он предлагал весьма полезную вещь, но, кажется, она не состоялась, и один только князь Петр Михайлович тотчас за нее взялся, уничтожив придворные конные заводы. Какая же тут могла быть выгода казне, ежели всякая лошадь для экипажей обходилась в 4000 рублей? Это ужасно! Что же армия должна стоить казне? Когда-нибудь да согласятся же с Луниным, как Васильчиков и Левашев согласились.
Благодарю за сведения о Гумбольдте. Вот и Лодера благодарность. И я, брат, довольно спорил об обеде этом. Почему же будет приятно Гумбольдту, который, может быть, и не объедало и не пьяница, сидеть три часа за скучным обедом с шестьюдесятью незнакомыми? Человек шесть будут около него, прочие его увидят только издали, а большая часть займется более обжорством, нежели самим Гумбольдтом. Не лучше ли бы на обратном его пути, ежели труды его увенчаются успехом, поднести ему медаль или маленький кабинет российских минералов?
Александр. Москва, 10 мая 1829 года
Тесть сказал мне, что дело Брокера хорошо повернуло в общем собрании, что все к нему пристали. Хочу тотчас ехать к Адаму Фомичу, его утешить и успокоить. Как! Человек трудится, устраивает все к пользе малолетнего, копит ему капиталы, а тут вдруг, вместо спасибо, велят Брокеру отвечать собственным имением за то, что эта полоумная Ростопчина говорит без всякого доказательства, что Брокер хлеб продал и присвоил себе деньги, тогда как Брокер представляет собственноручную расписку покойного графа в получении с него денег за проданный хлеб! Право, бесчеловечно. Князь Дмитрий Владимирович также поверил этому и теснил Брокера. Тесть имел с ним вчера большую схватку, спросив у него на вечере у Небольсина: «Что вы думаете о Булгакове, Александре Яковлевиче?» – «Что он добрый, умный, честный малый». – «Так спросите же его о делах сих: они ему известны». – «Да мне сказывал верный человек». – «Нет, вам сказывал мерзавец, лгун князь Масальский». Обер-полицмейстер стал тестя остерегать, что Масальский тут играет в другой комнате; но князь Василий Алексеевич прибавил: «Позовите его сюда, я ему скажу в глаза при вас, что он лжец и клеветник. Дай Бог вам, князь, самим управлять вашим имением так, как Брокер управляет имением малолетнего; а вы, не рассмотрев хорошенько, да гоните честного человека». Князь замялся и, видя, что, продолжая разговор, доведет его до неприятностей, переменил речь. Я был в другой комнате и слышал только шум. Жихарев пришел и пересказал мне, что было. Князь Дмитрий Владимирович подлинно поступил здесь очень легко; я рад, что правда взяла верх, и спешу ехать успокоить Брокера. Тесть мой любит кричать, но тут он поступил как истинный сенатор; только два, Озеров и Яковлев, не согласились, все прочие единогласно были за мнение тестя, то есть за Брокера.
Александр. Москва, 13 мая 1829 года
Какая у нас погода, Боже упаси! Северный ветер, дождь, холод, сырость. Мы весь дом сегодня топим, и только что в пору. Я получил письмо твое №114 и тотчас сообщил Чумаге о гильдейских повинностях, а Додеру – о выезде Гумбольдта. Верно, оба явятся благодарить, а последний ужасно засуетится; только теперь не успеть ему дать праздник, ежели Гумбольдт останется здесь дня два, но, вероятно, дурная погода долее его удержит в Москве. Какая темнота! Теперь полдень – и хоть свечей просить, дурно вижу, что пишу. Я все труню над женою, что будет землетрясение. Рано ты, брат, свой балкон открыл. Батюшка говаривал, что прежде 10 июня не надобно выставлять окон. Я держусь сего правила. Отчего у нас весною всегда много больных? Покажутся два ясных дня – ну выставлять рамы, ну одеваться по-летнему, ну есть мороженое, ну жить по-летнему, и пойдут простуды, а я вчера встретил Фильда, так этот ехал в шубе медвежьей и персидской шапке. Мне это и смешно даже не показалось.
Александр. Москва, 14 мая 1829 года
Гумбольдт приехал сюда в воскресенье, и Фавст, по предписанию Егора Васильевича [Карнеева, который был директором Горного департамента], был у него в тот же день и нашел в нем весьма приятного, говорливого скорее француза, нежели немца. Он вчера обедал у Фишера. Сегодня хотел его звать к себе обедать, оно бы и кстати, ибо Гумбольдт в час смотрит Кремль, Оружейную, соборы и проч., тут бы и близко к Фавсту обедать. Завтра большой обед в Собрании для него же по подписке, а говорят, что послезавтра он отправляется уже в путь. Ежели буду сегодня с ним обедать, то завтра не пущусь на большой этот обед, который будет скучен и для Гумбольдта, и для гостей.
Александр. Москва, 15 мая 1829 года
Вчера Гумбольдт не мог обедать у Фавста. Ввечеру возили его в Большой театр смотреть балет новый. Я сегодня поеду на обед этот, а то иначе и не увижу Гумбольдта, который едет завтра. Наташа хотела было позвать его на вечер к нам, но, видно, придется отложить это до возвратного его пути из Сибири.
Много говорят о «Выжигине». Все читают, хвалят, бранят, критикуют, а автор между тем собирает денежки и печатает второе издание. Называют это русским Жильблазом, но каламбурист один на это сказал: «Лесаж всегда мудр [«мудрец» по-французски – «ле саж»], а Булгарин никогда мудр не будет».
Александр. Москва, 16 мая 1829 года
Вчерашний обед для Гумбольдта очень удался, было человек около шестидесяти. Я нарочно поехал пораньше, чтобы видеть всю процедуру, и, явясь в Собрание, нашел Лодера, ходящего в сильной задумчивости по маленькой зале. «Здравствуйте, господин Лодер!» – видя, что меня не узнает. «Ах, милый мой и почтеннейший господин Булгаков, – отвечает он мне, – умоляю вас, оставьте меня одного; я репетирую речь, с которой должен буду обратиться к г-ну Гумбольдту; она еще не вполне устроилась у меня в голове». Я оставил оратора и пошел кое с кем болтать. После трех часов приехал гость. У нас все любят пересолить: начали толковать, что надобно послать депутацию к Гумбольдту, чтобы препроводить его в Собрание. «Да вот уже имеется депутат», – говорю я Лод еру. «Кто же?» – «Да кучер г-на Гумбольдта, который, конечно же, сумеет препроводить его сюда». Все стали смеяться и говорить, что могли бы то же сделать и для прусского короля, ежели б оказал он честь принять приглашение на обед, и дело оставили.
По приезде Гумбольдта Лодер выступил ему навстречу и приветствовал его по-французски, очень славно, и, к нашему великому удивлению, кратко. Барон отвечал также очень славно, прибавив в конце: «Вдвойне счастлив за себя, ибо рупор столь для меня лестных чувств есть не кто иной, как мой старинный друг и первый мой наставник», – и проч. После сего все, следуя моему примеру, просили быть ему представлены. Он тотчас спросил о тебе. Потом водили его по всем залам, показывали монумент Екатерины II. После сел он возле Юсупова, и сделался кружок; он рассказывал об Америке, о Франции, Бразилии и проч. За столом сидел я почти против Гумбольдта, а потому и мог насладиться приятным его и разнообразным разговором. Он сидел между Юсуповым и князем Гагариным, ибо Обольянинов и Дмитриев не приехали по нездоровью. Обед был хорош, но мог бы за эту цену быть лучше. В свое время все встали и, по провозглашению Лодера, пили за здоровье императора и все дома царского, потом прусского короля. Тут подошел Маркус и говорил прекрасную речь на немецком языке (он обещал мне копию, и я тебе доставлю, а между тем вот латинская, которая была всем раздаваема во время обеда), на которую Гумбольдт тотчас отвечал также по-немецки. Потом встал Лодер и предложил: «Господа, пьем за здоровье его превосходительства господина Гумбольдта!» Все закричали: «виват» и «ура!». Лодер просил, чтобы умолкли, и прибавил: «Да сумеет он нам разыскать на Урале то, что его гений сумел открыть на Чимборазо». Как выпили, то немного погодя Гумбольдт налил себе шампанского, встал и приветствовал всех прекрасной благодарной речью, в коей говорил о государе, о России, о путешествии своем, об усердии, которое употребит в разысканиях своих, делал похвалу Москве и нас всех благодарил, окончив примерно так: «Разве смогу я позабыть этот день, когда меня окружили столь нежными и редкими заботами и когда иностранцы обращались со мною так, как могли со мною обращаться только мои соотечественники или старинные и любящие друзья!» – и проч. Жаль, что не все эти речи писаны или печатаны, быв импровизированными. После обеда и кофея профессор Мудров произнес ему маленькую русскую речь или приветствие, Маркус приблизительно перевел ее наскоро, и Гумбольдт также отвечал и ему. Тут я, поговорив с ним еще с четверть часа и получив обещание, что на возвратном пути посетит мое семейство, уехал и полагаю, что более и не было ничего.
Рушковский подошел и спрашивал у Гумбольдта: «В котором часу надобно завтра прислать за вами лошадей?» – «Как, сударь, – сказал я нашему приятелю, – вместо того, чтобы стараться удержать здесь г-на Гумбольдта, вы хотите ускорить его отъезд?» Но Гумбольдт отвечал за Рушковского: «Вы очень любезны, говоря так, но коль скоро решено ехать, ничто так не мучительно, как встречать к тому препятствия, и ваш брат поступил со мною точно так же, как его коллега поступает здесь; лето в России столь коротко, надобно успеть им попользоваться; в сентябре месяце я должен быть уже здесь, в октябре – в Берлине, а в феврале – в Париже».
Мне очень полюбился Гумбольдт. Я ожидал видеть в нем немца-педанта, вместо того нашел любезного француза. Он сегодня в 9 часов отправился в путь.
Александр. Москва, 21 мая 1829 года
С радостным, счастливым для всего семейства нашего днем поздравляю тебя, мой милый и любезный брат! Точно как будто ты в Москве: беспрестанно приезжают лица тебя поздравлять, а кто не был сам, присылает поздравить или пишет записки. Когда чужие так принимают 21 мая, то поймешь ты, что происходит у нас в семье. Все мы тебя целуем и желаем тебе всех благ. Волков празднует тебя и нас зазвал обедать.
Очень будем мы рады Северину Потоцкому. Этот гораздо милее нашего Северина [отца известного посланника нашего в Мюнхене Дмитрия Петровича Северина] без Потоцкого, сенатора, у коего была недавно история в Английском клубе с князем Петром Михайловичем Долгоруковым, прозванным блудным сыном, который пана сенатора разругал только что не скверными словами; а этот поехал жаловаться князю Дмитрию Владимировичу, который советовал лучше замять историю. Чем Северину жаловаться, как школьнику, ему бы лучше опереться на законы клуба и требовать исключения Долгорукова, точно так же, как был прогнан князь Касаткин за грубости к старшине Щербачеву.
Приезжал ко мне прощаться Зандрарт, бывшая стража графа Мамонова. Он едет в Берлин, свое отечество; может быть, и захочешь у него кое-что порасспросить. Он добрый, честный человек. Не понимаю я Мамонову. Почему скрывает она свой брак, ежели он в самом деле состоялся? Разве не хозяйка она своей воле, стыдно ли ей признаться в этом браке, но разве здесь мезальянс? Она не маленькая дочь Генриха IV, да и Гагарин ее стоит.
Александр. Москва, 22 мая 1829 года
Ты ничего не говоришь об оной бумаге, что я тебе отправил: видно, некогда было прочесть, да у тебя не одно дело в голове; это хорошо читать от безделья, коим ты не можешь похвастаться. Лобанову очень понравилось, он очень меня дружески расспрашивал обо всем, меня касающемся, и с участием, которого не мог я ожидать от него. Между прочим, предлагал мне показать это Нессельроде, коему имел он случай оказать одолжение очень недавно. Я его благодарил и отвечал, что знаю нрав нашего графа, что ему покажется это дело государственным, что найдет множество затруднений и проч., что и ты был мнения не посылать записку мою. «Тогда, – сказал Лобанов, – прошу вас в знак вашей дружбы дать мне эту бумагу. Император прочтет ее, он в ней увидит и усердие ваше, и ваши способности, и я вам отвечаю, что сие чтение не будет для вас бесполезным. Я понимаю ваше отношение к Нессельроде, будьте же уверены, что я вас не скомпрометирую, ибо скажу, что вы дали мне это почитать; впрочем, если надобно будет, я вас даже и не назову; доверьтесь моим дружеским чувствам и моему благоразумию». Я не мог ему отказать, ибо он меня успокоил и все мои недоумения опроверг. Жаль, что ты ничего мне не пишешь, мне бы послужило это правилом; но Лобанов пробудет еще дня три, может быть, ты и напишешь. Во всяком случае очень я рад, что Волкову не отдал, и Лобанов тоже говорит: «Волков превосходный мальчик, но легкомысленный, и при всей своей доброй воле мог бы вам устроить пат». Лобанов находит мысль мою полезною, но думает, что она не состоится, что должно вероятнее ожидать мира, что работу эту, верно бы, мне же препоручили, а для этого надобно бы быть теперь в главной квартире, а после в Петербурге, а меня обстоятельства держат в Москве. Он кончил словами: «Император в высшей степени ценит вашего брата; а поскольку между вами единение известное, то его величество со всем основанием и вас помещает в ту же категорию; однако же мое желание в том, чтобы император приобрел понятие о ваших мыслях и способностях; само собою, встанет вопрос о Москве, я буду говорить о вас, и все произойдет натуральным образом».
Умерла сегодня или вчера графиня Орлова-Денисова, урожденная Васильева [Марья Васильевна (р. 1784)], следствием родов; все жалеют об ней, много осталось детей, и муж в великом огорчении.
Александр. Москва, 24 мая 1829 года
Воронцов возложил на меня комиссию доставить ему сведения о здешних водах, мой милый и любезный друг. Я все бомбардировал Лодера. Сперва ему Гумбольдт голову вскружил, а там разные дела. Сегодня, несмотря на ужасную погоду, я решился ехать туда на место, там залучил
Лодера в комнату особую, химика Германа, и там от обоих отобрал сведения, кои могли прийти мне в голову; ибо Воронцов не объясняет, что именно хочет знать, дабы по оному руководствоваться для своих одесских вод.
Мы совершенно ничего не знаем из Варшавы, а вот лаконическая афишка, коей Шульгин извещает о последовавшей коронации:
«Сего 1829 года, в 12-й день мая, в столичном городе Царства Польского Варшаве последовало высочайшее коронование его императорского величества государя императора Николая Павловича царем Польским, о каковом торжественном и всерадостном событии московские жители чрез сие и извещаются. Мая 23-го дня 1829 года. Московский обер-полицмейстер Шульгин 2-й».
Александр. Москва, 25 мая 1829 года
Все здесь напуганы беспрестанными смертями; так случается, что все знакомые, а потому и более поражает нас. У типографщика Семена умерла молодая жена в несколько дней. Странно, что он в шесть лет был женат на двух женах, обеих лишился и сохранил от них шестерых детей; у Рамиха, доктора и школьного нашего товарища, умерла дочь девятнадцати лет, а вчера умерла несчастная графиня Свечина [Марья Павловна, урожд. Лофазо, вдова графа Павла Сергеевича Свечина-Галлиани]; стало, в течение шестнадцати дней умерли две дочери и мать.
Ну, мой милый друг, вчера обедал я у Василия Львовича [Пушкина], славно нас накормил, и очень мы приятно время провели, велел тебе очень кланяться. Тут был приезжий Владимир Степанович Апраксин, коего жена намерена воды пить. Старый стал Василий Львович: ходит, опираясь все на чью-нибудь руку, говорит еще неслышнее, зубов мало, а все весел, любезен, а добр, разумеется, по-прежнему. Племянник его, поэт, уехал в Тифлис.
Заезжал я к Рушковскому. Он под секретом сообщил мне варшавскую газету, в коей описание коронации; газету он эту не выпустил, желая, чтобы публика узнала все это прежде от наших официальных объявлений из Петербурга. В городе все удивляются, что ничего не слышно; а другие дураки, увидев, что государь был в Свято-Янском костеле, а не в нашей церкви, станут толковать всякие пустяки.
Александр. Москва, 27 мая 1829 года
Уф, милый друг, был я у Кащея [так звал Булгаков богача Самарина]. Приезжаю – дома нет. Досадно! Такая даль, у самого дома его прорвало землю, мост снесло, чуть меня не вывалили. Другой раз приезжать тяжело, да и приезжать не на радость. Я решился его дожидаться, а между тем пошел смотреть развалины его и опустошения. Едет Кащей на жалких дрожках, клячею чахоточной запряженных, в шинелишке, и черная ермолочка на голове, ну точно Гарпагон. По следам его вошел я в комнату.
«Батюшки, как вы похудели, Александр Яковлевич!» – «Да похудеешь, как в болезни, да имеешь еще дела с людьми, кои хотят вашего разорения; но прежде всего вот вам письмо от брата, которого вы и обидели, и разогорчили вашим письмом». Встал, испугался, начал ходить по комнате. «Как это? Как это?» – «Да вы грозите представить князю Голицыну заемное ваше письмо». – «Помилуйте, это не то; меня принуждают дом отделывать, денег у меня нет…» – «Да вам князь скажет: “Ведайтесь судом, а дом отделывайте-таки”. Ужели вы думаете такую громаду отделать с тем, что мы вам должны?» – «Помилуйте, вы меня не понимаете, Александр Яковлевич. Я советовался с вашим братцем как с приятелем и нимало не грозил; вы сами знаете, что это долг старый, что я ничего не получал так давно, что терплю нужду, разорение». – «Долг этот, конечно, старый; что брат был вам должен, он вам заплатит. Какое же терпите вы разорение? Разве мы просим вас, чтобы вы претензию уничтожили? Разве мы не платим или не приписываем 10 процентов? Одолжают, когда дают деньги без или с малыми процентами, как делают это, например, Миллерша, Попов и другие кредиторы наши». – «Да помилуйте, намедни был у меня Иван Алексеевич Яковлев; он мне говорит, что ваше заемное письмо, по 10-летней давности, выходит белая бумага». – «Иван Алексеевич не я и не брат мой; говори он, что хочет; плут и по векселю не отдаст, а заведет тяжбу, а честный человек и без виду заплатит, что должен. Теперь не в этом дело. Брат мне дал комиссию у вас быть, сделать расчет, дать вам новое заемное письмо и что-нибудь устроить для будущего платежа». Тут взял он аспидную доску, час марал; исписав одну доску всю, принялся за другую, считая рекамбии; ну, одним словом, жидовский счет. «Извольте же это сокращенно написать на бумагу». Он написал. «Ну позвольте же вам заметить, П.И., что всякая претензия, даже после 10-летнего срока, может только удвоить, а вы в 8 лет из двух капиталов 12 000 и 4500 рублей, то есть из 16 500 рублей сделали с лишком 37 тысяч рублей! Быть так, дайте вашу записку; я пошлю ее брату. Я вижу, что делать нечего: он не поверит, чтобы такой расчет мог быть сделан приятелем, коему он всегда старался угождать; увидев же вашу руку, я уверен, что он согласится со мною, то есть продать часть имения, чтобы вас только скорее совершенно удовлетворить». – «Помилуйте (опять вскочив со стула), вы хотите меня перессорить с вашим братцем». – «Нимало, пожалуйте мне вашу записку, расчет».
Уж подумал ли он, что я донести хочу на него как на ростовщика, – не знаю; только он не дал мне свое маранье и просил, чтобы я сделал свой расчет, по коему выходило около 30 тысяч; ну пошли тут споры, коим конца не было, все жаловался, что мы хоть бы немного денег, да ему давали. «Ну могут ли вам 1000 или 2000 рублей делать разницу при вашем состоянии?» – «Ах, батюшка, да поверишь ли ты Богу, что иной раз ста рублей нет у меня». – «Ну, этого мы не полагали, а то бы вам уделяли, как другим, хоть понемногу. Правда, что брат мне один раз писал вам дать 2300 рублей, но я предпочел отдать их старушке Батацовой, которая процентами нашими живет». – «Вот, мой голубчик Константин Яковлевич знает мои нужды, а когда это было?» – «Прошлого года!» – «А я в прошлом-то году бился как рыба об лед, мне бы клад были 2300 рублей!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































