Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг."
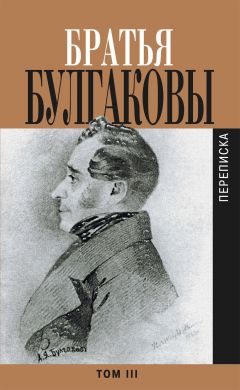
Автор книги: Константин Булгаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр. Москва, 3 мая 1827 года
Я получил твои несколько строк о назначении Долгорукова и отставке князя Якова Ивановича. О последнем сказал я его племяннику, бывшему губернатору рязанскому. Он обрадовался и прибавил: «Давно этого хотелось дядюшке, теперь он приедет в Москву и здесь поселится, а мы станем его обыгрывать в бильярд». Много было споров о Долгорукове, что будет и не будет. Волков мне сказывал, что князю Дмитрию Ивановичу не хотелось его иметь товарищем, а Долгорукову не хотелось быть на одном ряду с Блудовым и Дашковым; видно, все это согласилось. Здесь в Сенате много наделает это шуму.
В Клину, в деревне, мужики убили своего помещика, какого-то князя Сергея Михайловича Оболенского; предводитель, воротившийся со следствия, сказывал мне, что все мужики плачут, называя его отцом своим, а сделал все это бурмистр, и вышло все за какую-то девку, по ревности. Несчастный князь не скоро умер и мучился несколько времени.
Александр. Москва, 4 мая 1827 года
Юсупов возится все с комиссией, бывшей в руках у Витберга; только все его чиновники отказываются. Однако же Гедеонову вверено управление имениями, купленными в казну для храма, князю Цицианову – деньги и материалы, прочее еще не распределено. Немало будет тут работы.
Князя Андрея Петровича Оболенского дочь, что за Волковым Николаем Аполлоновичем, очень больна, так что послали за отцом в подмосковную. Она всегда была слабенькая и тщедушная.
Александр. Москва, 5 мая 1827 года
Ты мне не писал ничего о Костакиевой истории с Сушковым[15]15
Н.В.Сушков убил на поединке Константина (Костаку) Варлама, брата жены К.Я.Булгакова.
[Закрыть]. Куда как эта фамилия несчастлива, и как часто достаются ей оплеухи! Старик Варлам уже очень стар, а более хил, нежели стар. Сын его все еще при Воронцове или нет? Жаль, ежели лишится своей виною столь прекрасного начальника. Ты сделал для всех членов этой семьи все, что смертному только возможно.
Не имея, о чем тебе говорить, сообщу смешной анекдот, случившийся 1 мая на гулянье. Юсупов пошел в лесок, взяв с собою Савельича, наряженного в глазетовый кафтан и распудренного. Возвращаясь оттуда, встречают они какую-то женщину, мещанку или купчиху. Юсупов ей говорит: «Ударь его (Савельича) в щеку, я дам тебе целковый!» – «Ах, батюшка, как я смею, ваше превосходительство». – «Да ведь это шут Иван Савельич!» – «Ах, батюшка, да вы меня обманываете; целковый бы мне и годился, да это, я чаю, барин, как вы: вишь, у него золотой кафтан». А Савельич ей в ответ: «И, ма шер, что ты его слушаешь, он все врет; я – князь Юсупов, меня все знают, а ты лучше его (указывая на Юсупова) ударь, так я тебе дам три целковых». Видно, Савельича голос более ее убедил, потому что она чуть было не заехала старого татарского князя по шее.
Александр. Москва, 9 мая 1827 года
Я все вожусь со швейцарами. Приходил умирающий с голоду швейцар покойного графа Ростопчина: пятеро детей, жена четыре года больна, места лишился, просится хоть в дворники; жаль бедного! Графиня съехала с Лубянского дома, наняла дом Караса за Масальским в переулке, а тому дому станут делать опись, по коей Брокер должен за все ответствовать. Много она накутерьмила, и конец ее будет незавидный. Она попалась в руки к Крюкову, или, лучше, Крюковой, заявленной бестии (хотя она и теща Лонгинова), граф Федор Васильевич в дом ее не пускал. Графине вбили в голову скупать векселя графа Сергея Федоровича. Я знаю, что одному моему знакомому отдавали в 60 тысяч вексель, данный Ростопчиным Сабурову, за 3000 рублей, а теперь графиню заставили купить этот вексель за 14 тысяч. Ей кажется, это находка, а это спекуляция только для советчиков ее. Мне сказывал предводитель Вырубов, что с тех пор, что существует опека, не выдано еще таких удовлетворительных отчетов, как те, что подал Брокер об управлении своем имением малолетнего. Такого порядка и соблюдения польз малолетнего не видали мы, говорит он, ни от одного отца или матерей, не только от неродственного опекуна.
Вчера подходит ко мне в клубе некто Хомяков, коего знаю только с виду, и говорит, что имеет долг благодарить меня за твою ласку, и что ты, зная его мало, способствовал его помещению, кажется, за обер-прокурорский стол. Человек, кажется, порядочный, и тесть мне его хвалил. В клубе нашел я также неожиданного хромого Кривцова. Я и не спросил, здесь ли он думает поселиться.
Александр. Москва, 16 мая 1827 года
Вчера купил я славный телескоп у Пристлея для Мамонова. Он ведет себя нельзя лучше, обрил усы, уменьшил бакенбарды, одевается опрятно, очень учтив. Одним словом,
Маркус так им доволен, что на днях будем у него обедать, и даже хочет, чтобы Наташа поехала туда с детьми; но я прежде желаю знать от графа самого, не будет ли это ему неприятно. Арсеньев отошел решительно, вчера сдал он мне все книги, счета и деньги, коих всего-навсего тысяч одиннадцать, семь ломбардными билетами, а остальное деньгами. Было до 60 тысяч, но уплатили все долги графские; теперь не должен он ни гроша. Арсеньев пустой человек, с Фонвизиным лучше можно ладить. Только, все-таки, признаюсь тебе, что неприятно мне брать хлопоты на себя, без малейшей пользы для себя. Делаю это, любя графиню, а буду ее просить меня уволить. Жаль, если не будет кто-нибудь серьезно заниматься особою брата ее. Я все одного мнения, что вылечить его нельзя, но можно очень облегчить участь его. Перевод опеки в Петербург для меня непонятен; граф здесь, имения около Москвы, сама графиня сюда же собирается и на житье. Все это объяснится, когда буду с вами.
Александр. Москва, 19 мая 1827 года
Волков возвратился из Вязьмы, очень доволен, весел и здоров. В субботу имел он счастие обедать у государя. Император очень был доволен войсками, а они все в восхищении от царя своего. Великий князь все Москву хвалит. «Сделай мне одолжение, – сказал он Волкову, – упроси князя Голицына, чтобы он взял меня к себе в частные приставы». – «Потише, – отвечал Волков, – извольте-ка, ваше высочество, прежде послужить хожалым или, по крайней мере, квартальным надзирателем». Михаил Павлович очень этому смеялся. Ничего особенного не было в Вязьме. Дибич вступает в свою старую должность, а граф П. А. Тол стой собирается завернуть в Москву. Бедный Сухозанет упал с лошади и вывихнул себе спину, ужасно мучился, но было лучше, как Волков уезжал. В Вязьму поехала бездна народу из окружностей и много очень дам. Волков сказывал мне под секретом, что государь изволил писать Аракчееву, что воля его величества есть, чтобы он взял свои меры не находиться никогда там, где изволит быть государь, и избегать с ним всякую встречу. Надобно думать, что это последствие какого-нибудь письма или домогательства Аракчеева видеть государя.
Александр. Москва, 20 мая 1827 года
Зандрарт вчера у меня был. Кажется, что у графа начало горячки; вчера был жар сильный, и он из комнаты не выходил. Его отец духовный был очень доволен беседою с ним. И ему граф говорил, что чувствует в себе перемену, что ему кажется, что у него была белая горячка, что он желал бы видеть людей, опять войти в общество, а когда священник стал его к этому ободрять, то он сделал следующий достопамятный ответ: «Как мне быть опять с людьми? Я их от себя отвратил холодным своим обращением и чрезмерною гордостью». Удивителен этот переход от прежних его понятий и мечтаний к такому признанию. Теперь он говорит даже об опеке, находя, что она была необходима и что он не мог ничем заниматься; Зандрарта ласкает, часто его спрашивает, говорил ему обо мне, и Зандрарт воспользовался случаем, чтобы ему сказать, что я заступил место Арсеньева. Граф спросил: «Почему же г-н Булгаков не приходит ко мне обедать?»
Что-то скажет ужо Маркус? Да надобно теперь спросить у него, не хорошо ли бы было графине написать брату письмо ласковое. И это может иметь хорошее влияние на возникающую его чувствительность.
Александр. Москва, 24 мая 1827 года
Наконец явился наш любезный сенатор-ревизор-вояжер. Очень я обрадовался Полетике, мой милый друг. Вчера прихожу вечером к Волкову, к коему привезли его. Софья Александровна, увидев меня, взяла за руку и тащит в спальную: посмотри-ка, кого я вам представлю! Гляжу – сидит мой малютка, а он было ко мне собирался оттуда. Сели мы и проболтали до часу. Все такой же оригинал.
Александр. Москва, 25 мая 1827 года
Полетика мне вскружил голову, отнял меня от своих здесь и от тебя, мой милый и любезный друг: все вожусь с ним и именно тебя любя. Конечно, приятно мне к тебе писать, но еще приятнее было и говорить о тебе с человеком, который тебя всякий день видал и пользовался твоей дружбою. Право, не наговорюсь с ним. Вчера были мы с ним целый день: ходили пешком, были с визитами у Потоцкого, Дмитриева, Зинаиды [Волконской], князя Дмитрия Владимировича, Рушковского (этот показывал ему все экспедиции, так что в почтамте приняли сенатора нашего почти за ревизора), ездили по лавкам, лазили на Ивана Великого. Обедали у меня добрые все люди: Волков, Фавст, Новосильцев, тесть. Метакса готовил ризи [итальянское кушанье], в беседке курили трубки, говорили, спорили, к вечеру ходили по бульвару. Он захотел рано лечь спать. Сегодня смотрим Оружейную и все в Кремле, обедаем в клубе, ввечеру в Большом театре, покажем ему «Ричарда» и балеты, завтра покажу ему свою команду, Архив, а там у Фавста обед. Вот как мы нашего дорогого гостя тормошим, и он очень рад. Полетикин приезд доставил мне большую отраду и утешил меня несколько от отсрочки поездки к вам.
Ну, брат, большую весть тебе сообщаю; вчера явился вдруг Мамонов к нам. Наташа храбро и ласково его приняла; меня не было дома. Он был очень мил, хорошо обошелся с Наташей и детьми, особенно с Ольгой, которая около него ухаживала. Я уверен, что он будет к нам ездить, ибо ему не показали ни малейшего страха, а обошлись с ним просто, как бы со всяким другим. Говорено о многом, он любовался очень Фавстовой Богородицей Брогелевой и о многом говорил; сказал, что будет опять, и звал жену и детей к себе в Васильевское. Я описываю все подробнее графине; чтобы не повторяться, прочти мое письмо к ней, запечатай и отдай ей. Как ни было все хорошо, но все-таки видно сумасшедшего человека (этого не пишу я сестре его): как подали завтракать, то Мамонов взял руками кусок телятины, рвал его пальцами, обмакивал в горчичницу и ел также руками; жена говорит, что тут было что-то не человеческое, а львиное. Сестры чему-то постороннему засмеялись между собой, он на них посмотрел злобно (не подумал ли, что над ним смеются?), они нимало не сконфузились, продолжали смеяться и громче заговорили, тогда и он стал улыбаться. Нет сомнения, что он лучше, нежели был, гораздо; но на совершенное его излечение я нисколько не рассчитываю.
Александр. Москва, 13 июня 1827 года
Вчера был я все утро у Мамонова и, право, очень был доволен им. Мне кажется, что он начинает ко мне привыкать. Все эти дни спрашивал обо мне Зандрарта и говорил, что я давно у него не был; вчера хотел, чтобы я непременно остался с ним обедать, я извинился, что меня будут дома ждать, он предложил послать человека верхом сказать Наташе; но я поблагодарил и обещал завтра у него обедать, если время будет хорошо. Я не знаю, о чем не было у нас речи; даже были рассуждения о сумасшедших. Он заговорил о Бернадоте, а там о шведском короле, полковнике Густавсоне. Я ему рассказал об его образе жизни в Лейпциге, и что он проедает по шесть грошей в день. «На это, – сказал Зандрарт, – нельзя и крестьянина прокормить». Граф улыбнулся и возразил: «Ваше рассуждение неверно; крестьянину надобно гораздо более, нежели королю». – «Не понимаю, граф, почему?» – «Почему! Как почему? – отвечал граф, улыбаясь. – Потому что у крестьянина, который трудится в поте лица своего полдня на свежем воздухе, аппетит всегда больше, чем у короля-бездельника!» Это хоть и не сумасшедшему сказать. Потом требовал у меня истолкования весьма подробного, почему я почитал Густава не совсем в уме своем, и признаюсь, что часто делал мне возражения, которые приводили меня в затруднение. Говорили о шарах аэростатических, о Жуковском, о Наполеоне, о 1812 годе, о Риме, папах, о египетской кампании англичан и французов, о чуме и проч. и проч. Я тебя уверяю, что я провел приятно три часа и не еду к нему, как прежде, с отвращением.
Александр. Москва, 22 июня 1827 года
Волков в мае просил у меня коротенькую записку о болезни графа, его действиях, упражнениях и проч. Я ему составил маленькую заметку. Бенкендорф ее показывал государю, который изволил ее взять к себе, приказав от времени до времени извещать его подобными записками, что с Мамоновым происходит. При хороших переменах, последовавших в здоровье его с переезда его в Васильевское, я счел нужным сделать теперь новую такую заметку. Она Волкову очень понравилась, и он отправляет ее в Петербург. И подлинно, любопытно было видеть, как обошелся во дворце, в Оружейной, видя царские украшения, корону, трон и проч., человек, мечтавший, что он император, уступающий одной силе беззаконного правительства, человек, приговаривавший письменно князя Дмитрия Владимировича и коменданта то к виселице, то к палочным побоям. Все это обошлось нельзя лучше, и ежели обошелся он неучтиво с Юсуповым, то этот сам виноват: зачем было ему приходить со всей своей свитою в Оружейную? Когда я стал графу выговаривать после в коляске, что он не обласкал Юсупова, то он отвечал: «Он пришел поглазеть на меня как на диковинку». Последний раз Мамонов, говоря со мною о Мавре Ивановне, которую знавал, спрашивал даже о дочери ее Елизавете Васильевне и князе Сергее Ивановиче, где он служит, и проч. Он начинал говорить о графине, но переменил разговор. Теперь напишу ему и пошлю книги, потому что он не раз говорил Зандрарту: «Почему это Булгаков пишет все только вам, и никогда – мне?»
Александр. Семердино, 12 июля 1827 года
Благодарю тебя за сообщение касательно Каподистрии. Я не щеголяю болтливостью, ты это сам знаешь, и тайну верно сохраню, ежели бы и в городе был, а здесь с кем говорить, кому делать доверенность? Развязку эту можно было предвидеть. Что меня радует, это то, что все делается с одобрения императора, который может только отдать справедливость чувствам, кои направляют нашего добрейшего друга. Он выйдет из сего ложного, неприятного положения, в коем пребывал на протяжении стольких лет. Он не был свободен от России и не принадлежал своей родине. Не говоря уж о его уме и талантах, одно его имя придаст другой оборот греческим делам. Он может обессмертить свое имя в истории. Да сохранит его Бог и да защитит превосходное дело, к коему он примкнет! Я вижу впереди только доброе; но жена моя, не найдя, что сказать, опасается, как бы какой-нибудь недоброжелатель или подкупленный негодяй его не отравил[16]16
Женское предчувствие!
[Закрыть]. Эта мысль преследовала ее все утро. Ожидать буду указа с нетерпением. Право, будь я холостой, я бы последовал за добрым этим человеком и стал бы ему помогать по силам моим. Я чувствую, что меня гречанка выкормила – не по ненависти к туркам, но по любви к грекам.
Александр. Троиц-Сергиев Посад, 22 июля 1827 года
Меня поразило известие о жалкой кончине Костаки; вишь, судьба его какова была: один раз разлучили с соперником, а дуэли таки не избежал. Жаль несчастного, слепого отца! Дико[17]17
Кто этот Лико? Не брат ли убиенного Варлама и Марии Константиновны Булгаковой?
[Закрыть] так весел, доволен, что я не могу решиться его огорчить. Я ему только намекнул, что Сушков поехал в Тирасполь искать его брата, чтобы драться на пистолетах, что говорят даже, что и дрались, но неизвестны последствия. «Этот каналья Сушков, – отвечал Дико, – верно, все это время учился стрелять», на что я сказал: «Боже сохрани, а долго ли до несчастия!» Дико был целое утро задумчив, теперь опять весел по-прежнему. Я ему скажу о несчастий на Петербургской дороге; более будет тут рассеянности для него.
Александр. Москва, 28 июля 1827 года
Вчера так я затормошился, что тебе не писал вовсе, милый и любезный друг, да и был я очень не в духе и опять было занемог, по милости Мамоновой и ее братца. Вот тебе ее письмо и мой ответ; прочитай, запечатай и тотчас ей доставь. По его приглашению ко мне и Фонвизину, поехали мы к сумасшедшему, где были более трех часов; принял славно, ласково, особенно меня, только когда я назвал слово «государь», то он взбесился, говоря: «При мне не называйте никогда и не упоминайте о государе». Я не оставил это без возражения, и пошла потеха; но только я вижу, что, скаля зубы Мамонову, можно его и угомонить. Он успокоился, потом изложил многие жалобы, более вздорные и неосновательные, нежели важные, говорил о делах преосновательно, желал иметь отчеты, очень был доволен тем, что могли мы ему сказать в общих чертах. Он меня почитал поверенным твоим, а не сестры, ее не ругал, но сухо говорил о ней и сказал: «Она не наследница после меня, потому что я могу еще иметь детей». Я тебе все это подробно расскажу. Не мог я равнодушно говорить с ним и, будучи уже слаб, домой приехал изнурен, с маленькой лихорадкою; сегодня мне обметало губы, стало быть, проходит.
1828 год
Александр. Померанъе, 12 марта 1828 года
Не знаю, где наткнусь на почту, но начинаю письмо это в Померанье, любезнейший брат. Костя [старший сын А.Я.Булгакова, обучавшийся в Царскосельском лицее] вызвался тебе писать из Царского Села. Вот две горестные для меня разлуки, особенно же петербургская. Я было привык жить с тобой и видеть тебя целый день, но не ропщу, а желаю только, чтобы чаще это повторялось. Жалею о тех, кои не в такой легкой повозке, как я: на дороге навоз, а где и земля голая, и снега почти нет; еду, однако же, хорошо. Выехав из Царского в шесть часов, я в полночь сюда прибыл. Кибитка очень покойна; я в ней и сидеть могу хорошо, и спать. Россини все спит; это бы ничего, да на моем плече, а как разбужу и стану урезонивать, то уверяет: вам это кажется. Ох, досадно!
Я встретил графа Кутайсова, к вам возвращающегося, и какую-то княгиню Вяземскую. Уж не Вера ли это? Дорогою воображал я себе, что с вами у Киарини; слышу смех детей и радость их.
Ну, брат, что волков на дороге! Так стадами и ходят, да около самой дороги, и пребольшие. Ружьем могли бы себе настрелять целую шубу. До Царского все шел дождь, теперь дорога хороша, месячные ночи, подмораживает, лучшее время для езды.
Александр. Хорошилово,
14 марта 1828 года, 8 часов утра
Начались ухабы, и к Москве, говорят, их столько, сколько звезд на небе. Я еду благополучно и довольно скоро, [18]18
Первые помещенные здесь письма написаны на обратном пути из Петербурга, где А.Я.Булгаков гостил у своего брата более полугода.
[Закрыть]
как видишь. Ночью встретил я фельдъегеря от Паскевича; с ним едет какой-то князь, генерал-майор, занемогший дорогой. Вот почему и опоздало известие о мире.
Ежели можно, сделай благодеяние здешнему смотрителю: он служит 25 лет, из почтальонских детей, имеет пять малюток и слепую мать в Кашине. Определи его туда в экспедиторы; там умер экспедитор. Этот, кажется, исправен и трезв.
Александр. Торжок,
14 марта 1828 года, 9 часов вечера
Два только было приключения. 1-е: на Валдайских горах вывалили коляску какого-то полковника-немца из Риги, едущего к месту в Шую, и поднялся вопль, крики, посыпались из кибитки дети грудные и всяких лет, штук пять; мы подъехали им помогать. Слава Богу, никто не ушибся, а одному малютке лет четырех так понравилось кувыркание, что он все твердил: «Мама, еще!» 2-е: едем мимо деревни, вижу – прибита медвежья шкура на фасаде одной избы и всю почти занимает средину. «Что такое?» – спрашиваю ямщика. «Так, батюшка, вот мужик, знаешь, балагурит, лес недалеко, так вчера к нему медведь и приди, да почти на двор. Коровы – реветь, лошади также, а мужик резал хлеб да говорит: «Дай-ка посмотрю, что такое». Да и пошел, и нож-то взял с собою, словно будто знал, да медведю-то и распорол брюхо, да шкуру-то вот и прибил к избе, чтобы ребят забавлять». Расскажи-ка это Матушевичу. Вот нехвастливый герой. Ломоносова я еще не встречал, а с Бенкендорфом [это брат шефа жандармов] и Грибоедовым разъехался.
Александр. Завидово, 15 марта 1828 года
Что это за скверная дорога! Вообрази себе море, волнуемое бурей и которое бы вдруг окаменело: вот большая дорога. В Медном нашел я графиню Ростопчину, едущую в Петербург. Она ехала 58 часов из Москвы, до Черной Грязи тащилась почти сутки и там ночевала, но зато не карета у нее, а дом. Как ее сто раз не вывалили, – не понимаю. Она сказывала, что Ираклию Маркову сделался удар, а княгиня Трубецкая, урожденная Прозоровская, что недавно замужем, умерла, бедная, в родах от оплошности, говорят, докторов. Здесь, то есть в Завидове, встретил я графиню Чернышеву, удивился. Одна умерла. Неужели это Анна Родионовна [вдова екатерининского графа Захара Григорьевича; она прожила еще лет восемь]? Вышло, что жена генерал-адъютанта.
Александр. Москва, 16 марта 1828 года
Я еще как в чаду. Приехал вчера поздно в Москву, промешкав часов восемь на двух последних станциях. Дали мне мерзких лошадей, а ямщик один бросил меня на дороге и бежал. Я шел пешком до села Чашникова, где нанял тройку крестьянских. Все находят, что я поправился, и подлинно – по старому сюртуку и жилету, кои здесь надел, я стал толще. Как быть иначе, блаженствовав с тобой семь месяцев! Я, право, восхищен ласками князя Петра Михайловича [Волконского], твоего князя [А.Н.Голицына] и вообще всех больших господ.
Александр. Москва, 17 марта 1828 года
Поутру рано забрались архивские ко мне, один после другого; не хотел их обидеть при первой встрече, всех должен был принимать. Как ни торопился, прежде одиннадцати часов выехать не мог. Пустился прямо к Малиновскому. Сперва при жене его начался разговор поверхностный, а там отвел он меня в свой кабинет; там была исповедь, продолжавшаяся два часа. Я счел, что всего лучше быть откровенным; что знал о штатах, ему сказал, прибавя, что он, верно, доверенность мою во зло не употребит и меня не скомпрометирует. Очень было ему не по душе, что звание управляющего съезжает на директора. «Меня гонят вон, почему это? Как же сенатора делать директором Архива?» – «Да разве Обресков М.А. не был также директором департамента и вместе сенатором?» – «Все сделали, меня не спросясь; как с вами говорили о новых штатах, так и со мной могли бы посоветоваться». – «Да со мной говорили потому, что я случился в Петербурге, а вы были в Москве. Да насчет штатов меня не спрашивали ни слова, а только, кого я полагал способным ко всякому месту». – «Меня граф Нессельроде давно гонит, по милости этого шельмы Шульца». – «Помилуйте, А.Ф.Шульца черви съели. Да чем мог он вам вредить у графа? Один в Москве был, другой – в Петербурге. Вы напрасно на графа жалуетесь; во-первых, он вам доставил в коронацию Владимирскую звезду; ежели бы он вас гнал, то не назначил бы директору более жалованья, нежели имеете теперь яко управляющий». – «Мне ждать нечего, я старею, глаза мои плохи; я оставлю Архив и очищу вам место». – «Ежели здоровье гонит вас прочь, это другое дело». – «Да и вам будет это неприятно: все скажут, что вы ездили в Петербург, чтобы меня лишить места». – «Я не боюсь этого нарекания; я имею честное имя, сколько всегда мог, угождал всякому, а никому не вредил; интриговать – не мое дело, совесть моя чиста перед вами; ежели вы отойдете, я все имею право вас заместить по старшинству; ежели вы останетесь, мне очень будет это приятно».
Долго он горячился, жаловался на Нессельроде, хвастал, что государь его знает, кланяется ему всегда, когда его встречает, и что не попустит его обидеть. – «Верю этому, однако же государь штаты утвердил». – «Архив придет в упадок без меня». – «Почему же? Н.Н.Каменский умер, а Архив все-таки процветает. Я был бы дурак, ежели бы стал себя равнять с вами; но вы такой завели порядок, что управление делается весьма легкой работой». Смягчаясь и горячась попеременно, он наконец стал у меня просить совета, то есть это была западня, в которую он меня, однако же, не уловил. «На вашем месте, – отвечал я, – я бы остался в Архиве директором». – «Что же – ждать мне, чтобы меня выгнали?» – «Помилуйте, да кто думает вас выгонять? И что это за клад, Московский архив, и как выгнать того, кто 48 лет служил?» – «К чему меня служба архивская поведет?» – «Ну, конечно, ни чина действительного тайного советника, ни Александровской вы не получите». – «Так лучше отойти, как скоро штаты выйдут?» – «Тогда вы покажете, что недовольны; а останьтесь лучше после штатов несколько времени, и ежели подлинно здоровье ваше плохо, попросите увольнения». – «Я бы сделал так, но желал бы отойти с некоторой выгодой; например, кабы мне сохранили мой оклад теперешний, тогда оставил бы я место свое без неудовольствия». – «Я почти уверен, что граф Нессельроде не отказал бы вам исходатайствовать это; вы все имеете права за 48-летнюю службу; впрочем, все это предположения одни, ибо и штаты еще не существуют», – и проч.
Он сказал, что будет со мной еще говорить, что обдумает хорошенько, благодарил очень за откровенность, с коей я ему говорил. Мы расстались очень хорошо, но в душе у него заноза против меня. Судя о других по себе, он должен полагать во мне скрытного злодея. Я тебе передаю эссенцию моего разговора с ним, скажи мне свои мысли. Я тебе признаюсь, что начальство над Архивом только для того меня льстит, что ежели Малиновский отойдет, то тогда, как говорили Поленов и граф Нессельроде, мое место уничтожится теперешнее, и оклад присутствующего сольется с окладом директора, что составит тысяч семь, с надеждою, что со столовыми со временем возрастет он до 10 тысяч. Я буду счастлив; мне не надобно ничего, а в том ручаюсь, что пользу принесу и службе, и истории [то есть историографии].
Я живо вспоминаю счастливое время, которое провел с тобой. Для меня было бы блаженство – разделять с тобой все твои радости, утехи и заботы. Я не без пользы был бы для тебя по многим отношениям, но как быть! Так Богу угодно. Ангельская душа, наследованная Сашкою [сыном Константина Яковлевича Булгакова] у тебя, очень мне известна, и, прощаясь с ним, я сам с трудом мог удержать слезы; но после, посмотрев назад и видя вас обоих, стоящих у шлагбаума, я дал волю слезам, и это меня облегчило, хотя и было немного стыдно Россини.
У Бенкендорфа осталась моя статья о театре. Я не имею копии; он сказал, что в тот же вечер мне возвратит, но, видно, забыл. Вот для него статейка моя о журналах. Чтобы он знал, что я не одними глупостями занимаюсь, доставь ему.
Александр. Москва, 19 марта 1828 года
Занимательно очень дело графа Кочубея, которое будет судиться. Граф В.П. купил имение, которое нельзя было продать, и владеть им принадлежало мещанину. По закону должно отобрать имение и возвратить деньги графу; но имение из худого положения приведено в цветущее пожертвованиями. Кто же за это вознаградит покупщика? Дело это много занимает публику.
Был у меня Мамоновский дядька Зандрарт. По истечении срока он отходит; а я в том поручусь всем на свете, что другого, как он, не найдут не только здесь, но нигде. Твой отход очень их всех огорчает. Фонвизин и Маркус иначе не хотят оставаться, как ежели согласятся на некоторые их распоряжения. Граф все в том же положении, но тих, пишет все мемуары; много очень хорошего и много вздору. Удивительно, как он помнит наизусть все обстоятельства, самые мелкие, и эпохи, числа, своей молодости даже. Опять говеет, говел уже на первой неделе, все шло прекрасно; но как дойдет до исповеди, то тут священник должен отказаться: он исповедывается как император, говоря о царских своих обязанностях.
Александр. Москва, 20 марта 1828 года
Мне, право, надоела уже Москва своими визитами, расспросами, вестями и пр. Ежели бы мог я приехать прямо в Семердино, очень был бы доволен; знал бы только свою семью, а то с ними-то и не дают мне быть: надобно все или рыскать, или принимать гостей; а, кажется, протрубил я, что говею. Хоть бы говельщика оставили в покое.
Я здесь занялся разбором одного из присланных из Петербурга ящиков, гляжу – польские дела 1769 года; развертываю книгу – и первая бумага батюшкиной руки: черновая реляция к императрице; тогда был он секретарем при Репнине, кажется. Разбор бумаг сих будет доставлять мне великое удовольствие. С Малиновским все толковали о Калайдовиче, который точно сумасшедший, но как скоро перо берет в руки, пишет хорошо, умно, основательно, а действует все вопреки. Как удосужусь, поеду его навестить. Скажи Вяземскому, чтобы дал мне адрес к княгине, а то не знаю, куда писать к ней [княгиня Вера Федоровна жила в это время у матери своей П.Ю.Кологривовой в Пензенской губернии].
Александр. Москва, 21 марта 1828 года
Тесть был у меня вчера, как я получил почту. Я сказал о графстве и деньгах Паскевичу, о мире и пр. Только гляжу: папахен, покуда я сходил в кабинет, скрылся; спрашиваю: где? Уехал – верно, барабанить! Только через два часа опять является. «Знаешь, откуда я?» – «Не знаю, скажите». – «А был я у новой графини Эриванской. Вообрази, что не было более часу, что она это знала; почта пришла так же скоро, как эстафета, которую отправил к ней с сим известием Сухозанет. Она в восхищении, и пропасть валит к ней народу; она им сказывала, что муж ее очень любит Константина Яковлевича, а я отвечал, что все сей болезнью страдают. О Грибоедове она не знала ничего, я ей первый сказал, а ведь он ей кузен; она просила, что и впредь узнаю, ей сообщать», – и проч. и проч. Где мне пересказать тебе все, что тесть мне тут наговорил! Также сказывал, что Ермолов очень обрадовался миру, прибавя: счастлив Паскевич, в год получил то, что другие приобретают в полвека; только ежели не выговорили соляные руды (не помнил тесть, какие), то приобретенный край не так будет полезен для России. Известие о мире и выгодах его большую произвело здесь радость, особенно между купцами, а награждения царские всех восхищают; есть уже ода, в коей уподобляют государя для флота – Петру, для щедрости – Екатерине и для ума – Александру. Дай Бог государю так же кончить с турками;, я желаю это для моих любезных греков и для славы России; тогда загремит и имя Каподистрии. Ну и Мордвинов нашел также своего шаха, от которого нешуточную получит контрибуцию. Меня спрашивают, хороша ли невеста его Яковлева; я отвечаю, что без приданого своего была бы недурна, а по миллионам своим она красавица[19]19
Александр Николаевич Мордвинов (сын адмирала и впоследствии граф) женился тогда на дочери миллионера Настасье Алексеевне Яковлевой.
[Закрыть]. Здесь говорили, что Бенкендорф в ссоре с Паскевичем; видно, вздор, но вздор не новое для Москвы: добрая старушка, но часто врет.
Экая собралась у тебя компания! Я, перечитывая имена со вниманием, переселялся мысленно в петербургский почтамт и всякому назначал квартиру, кому в угольной, кому в маленькой гостиной за вистом, других сажал за круглым столом, других еще – на диване, других еще – в бильярдную, кого с трубками, а Виельгорского с сигарами, за которыми Сашка бегает курьером в кабинет. Такое взяло раздумье, что даже грустно стало. Вижу голландца Обрескова, являющегося поздно. Качай-валяй в Москву, как бы не остался до Ламсдорфа или Балына и не спустил бы все субсидии, кои ты ему достал. То-то будет рассказывать, приехав сюда. Завтра, вероятно, явится к нам.









































