Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг."
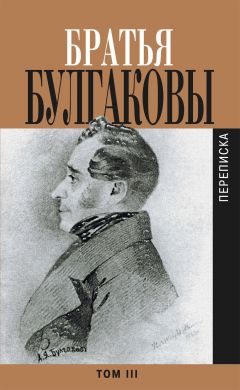
Автор книги: Константин Булгаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Бабы качались и визжали до ужина нашего. После был бостон, а там ужин, да болтали так, что разъехались в три часа утра. Попандопуло, Фавст и Демидов ночевали у нас, а прочие поехали домой, но ночь была светлая. Славно день провели; да, забыл я сказать, что был фейерверк. Шумишками прожег я платок у бабы, на что подарил ей новый. Только вышло, что бабы начали нарочно опаливать свои платки, требуя новых. Меня эдак три поддели, и я притворился, будто верю.
Александр. Семердино, 2 сентября 1828 года
Наташу и без приказания твоего поцеловал я лишний раз за тебя 26-го числа, и это день памятный по Бородинскому и Батинскому сражениям. Ох уж эти сражения! Как больно, что ранили бедного Меншикова! Воронцов, я чаю, радехонек еще послушать свиста пуль и ядер. Хотя ноги не оторвало, но, видно, рана серьезная. Лишь бы скорее вылечился и мог бы ходить без костылей, а то не останется без работы и Меншиков. Жаль, жаль очень! Дай Бог Воронцову скорее, успешнее и без вреда кончить начатое Меншиковым. Варна и Силистрия – два важные пункта, а Шумла, ежели и эту возьмем, решит участь войны. То-то и я не имел от Щербинина писем: верно, Воронцов взял его с собою. Я мало знал младшего Бенкендорфа[36]36
Константина Христофоровича, умершего от скоротечной болезни легких в августе 1828 года, во время войны с Турцией.
[Закрыть], но он, мне кажется, был всегда слабого здоровья. Бог все устраивает по-своему: иной среди мира умирает от пули (как молодой Новосильцев), а другой – в сражении от болезни.
Александр. Семердино, 21 сентября 1828 года
К нам приехали в гости фряновские наши соседи, братья Рогожины, коих мы удержали ужинать. Старший из них, Николай, был недавно в Петербурге и по данным тобою парижским образцам сделал здесь на фабрике прекрасные ленты, коими одарил детей. Катеньке, слава Богу, лучше, так что вчера целый день была на ногах и сегодня сходила вниз и играла в мушку с Рогожиными и фряновским священником, человеком очень веселым и обходительным. Поутру навестила ее Брокерова дочь с двумя тетками, дочерями бывшего почт-директора тамбовского Треборга, предобрые немолодые девушки. Я просил у Фавста каких-нибудь комедий, чтобы Катеньку развеселять; он прислал нам «Бригадира», который показался нам очень глуп. В 40 лет многое изменяется.
Брокер сказывал, что в Москве умер скоропостижно обер-прокурор Абаза, сев после обеда за бумаги; человек за чем-то вошел в кабинет и видит, что перед барином все бумаги в крови, а он, мертвый, усидел, однако же, на стуле. Надобно было переписывать множество бумаг, подписанных уже сенаторами, и кои залиты были кровью. Вот человек! Здрав и весел, да вдруг и отдаст Богу душу. Я его мало знал, видал в клубе и раза два играл в вист с ним.
Говорят, что клуб отделали с ужасной роскошью. Вся мебель новая и щегольская, комнаты расписаны, и сделаны многие перемены. Старшины убухали, говорят, тысяч 30. Был обед, на коем пили за здоровье Шульгина, экс-оберполицмейстера, который всем этим заведовал.
Александр. Москва, 28 сентября 1828 года
Я приехал в Москву вчера вечером. В Тарасовке вижу две кареты, спрашиваю – чьи? Княгини Меншиковой, возвращающейся из Троицы с богомолья. Я к ней пошел, и очень кстати, ибо мог ее успокоить насчет мужа, о коем не знала она ничего с отъезда его из Варны. Дети ее слушали меня с большим вниманием и плакали. Она была в мучительном недоумении, и долго. Муж кое-как написал ей пять строк после раны своей, отправил письмо к Воронцову для доставления в Москву. Между тем Воронцов назначен в Варну, и письмо княгине из Одессы опять возвратилось в Варну и оттуда уже отправлено в Москву, путешествовав месяц. Княгиня, не видев ничего руки мужниной, полагала его или убитым, или очень опасно раненным. Она думает, что ему костылей не избежать; но я уверил ее, что он будет ходить, как князь Яшвиль, только без костылей. Она меня напоила чаем. Я очень ее знаю по дому покойного графа Ростопчина[37]37
Княгиня Анна Александровна Меншикова, урожд. Протасова – двоюродная сестра графини Е.П.Ростопчиной.
[Закрыть]. Тут наехал я нечаянно на ехавшего ко мне с письмами Андрея и, прочтя армейские бюллетени, кои мне присылаешь, отдал их все княгине без возврата. Она сказывала мне, что не нахвалится Воронцовым и тобою. Почему тобою? Это ты должен знать.
Здесь все уверены, что императрица беременна. Дай Бог еще сынка, и чтобы все были в отца. Ты знаешь ли, что, когда пришло в Одессу известие о ране Меншикова, которую почитали сначала неизлечимою, государь заплакал. Два дня после того был славный спектакль в Одессе. Государыня пришла к нему уговаривать его ехать туда, но император отвечал: «Могу ли я развлекаться, когда Меншиков так ранен и когда я вижу, как проливается кровь моих подданных за нас и за отечество!» Императрица была столь тронута сими божественными словами, что тотчас разделась и сама не поехала в театр. Жаль, что такие изречения не всем русским известны; но государь действует и говорит по побуждению души, а не напоказ. Продли Бог век его для блаженства нас всех!
Сомневаюсь, чтобы ты сладил с Безбородко, который большой скряга, говорят; а хорошо бы тебе [то есть Почтовому департаменту] владеть тремя углами улицы.
Александр. Москва, 29 сентября 1828 года
Здесь есть некоторые дураки, повторяющие, что некоторые злонамеренные разглашают, что Варну мы оставили, что от Шумлы отбиты, что султан идет сам с миллионом, войска, и тому подобные бредни. Рассудительные люди, судя по происшествиям, смеются этому, но не худо бы полиции более иметь бдительности и шалунов унимать.
Нессельроде будет великолепно жить; не так я сказал: он будет в великолепной казенной квартире, но великолепно жить не станет. Воля твоя, ни ухваток, ни фигуры, ни привычек нет у него вице-канцлерских, как говаривал Деболи, между нами будь сказано. Тут бы жить покойному князю Александру Борисовичу [Куракину]. Коллегию заставят франтить, а мы не можем добиться несколько Рублев на шкапы для бумаг екатерининских!
Александр. Москва, 1 октября 1828 года
Все здесь удивляются, что я могу так долго оставаться в деревне: «Да вы должны умирать от скуки». А я, право, там счастливее, нежели здесь. Но не всякий понимает семейственное счастие; да правду сказать, не у всех такие жена и дети, как у меня. Не увидишь, как день пройдет: гуляешь, читаешь, пишешь, а тут письма от тебя, славное угощенье, газеты, вести хорошие. Много я наблюдал детей своих, и трудно решить, которой дать предпочтение – Кате или Ольге; но старшая, мне кажется, еще добрее: отдает все, что имеет, и судит очень здраво.
Вот и князя Николая Васильевича правнучка замуж идет [то есть дочь князя Петра Михайловича Волконского]. Я желаю, чтобы княгиня Софья Григорьевна попала в бабушки скорее, и как вспомнишь Воронцово, то и ее вспомнишь – свежую, прекрасную, как розан, в 14 лет.
Точно, что нет счастия совершенного на земле. Кажется, чего не достает нашему милому Воронцову? Сколько у него есть завистников? Но ежели справедлива история, которую на ухо здесь рассказывают, – о поступке глупом молодого Раевского[38]38
А.Н.Раевский, с хлыстом в руках, остановил на улице карету графини Е.К.Воронцовой, которая с приморской дачи ехала к императрице, и наговорил ей дерзостей. Его выслали в Полтаву.
[Закрыть] с графинею, то не должно ли это отравить спокойствие этого бесценного человека? Даже по тому, как мне Волков рассказывал, я ему доказал, что графиня совершенно невинна. Вот так-то один бешеный негодяй может нарушить спокойствие такого примерного семейства. Меня очень это опечалило.
Александр. Москва, 3 октября 1828 года
Третьего дня какое было ужасное происшествие. Есть некто Сафонов Иван Сергеевич. Приходит к нему жена прощаться. «Что?» – «Еду с визитами». – «Погоди, матушка: вот пришел дантист; дай мне только при тебе зуб вырвать, первый раз от роду это делаю». Садится Сафонов. Дантист принимается за дело. Сафонов вдруг от боли закричал и встал со стула, а жена его хлоп в обморок. «Ничего, – говорит дантист, – это пройдет»; но, видя, что уксус не действует, он тотчас в карман за ланцетом, одну руку отворяет, другую – кровь не идет. Бедная Сафонова уже умерла! Она называлась Марья Дмитриевна и была красавица в свое время. Это была молниеносная апоплексия, которую, по видимости, испуг поторопил, но которая приготавливалась уже накануне. Она жаловалась на головокружение; надобно было пустить ей кровь ранее. Экое создание человек! Она оделась ехать с визитами, а вместо того поехала на тот свет.
Александр. Москва, 6 октября 1828 года
Явился проезжий Николай Александрович Лунин, едущий в Петербург. Ему дается комиссия отправиться в Англию для покупки лошадей для государевых заводов; это продолжится, может быть, года два. Меншиков, с коим он очень дружен, вероятно устроил это, ибо Лунин большой охотник, знаток и заводчик лошадиный, знает по-английски. Его выписал Васильчиков Ларион Васильевич. Ежели этого увидишь, скажи ему, пожалуй, что Лунин здесь, что опоздал за скверною дорогой; прежде середы нет свободного дилижанса, потому прежде и выехать не может отсюда, несмотря на желание свое. Мне не нужно рекомендовать тебе Лунина, ты его знаешь. Он на все хорош: и в бильярд, и в вист, и покушать, и поболтать.
Александр. Москва, 9 октября 1828 года
Я ожидаю с большим нетерпением почту, мой милый и любезнейший друг. Весь город наполнен взятием Варны; прибавляют, что Семеновский полк, с командиром своим, почти весь лег, и что первый вошел в крепость, и что Воронцов ранен. Как же это знать? Сюда, верно, не послали же курьера прямо из Варны. Уверяют, что князю Дмитрию Владимировичу пишет это граф П.А.Толстой уже вчера. Зачем же он это не обнародует?
Александр. Москва, 15 октября 1828 года
Славное дело! Ай да Воронцов! Все восхищаются лестным рескриптом государя. Многие жалеют, что не дана ему Андреевская; я нахожу, что шпага лестнее. Голубая лента не уйдет, он может ее получить и за гражданскую службу, а взять крепость, как Варна, есть счастие особенное, славный подвиг. Мало ли Андреевских лент? Но я представляю себе, что какой-нибудь сибиряк или иностранец видит генерала со шпагою, на коей: «За взятие Варны»; «Это Воронцов», – скажет он! А не всякая голубая лента – вывеска славного дела. Все те, кои спорили со мною, должны были согласиться, что я прав. Я полагаю, что и Воронцов одного со мною мнения.
Ты не можешь поверить, какое движение в городе, какая радость! Завтра (я пишу тебе с вечера) молебствие, все хотят иллюминовать дома, а Фавст заказал транспарант с словами: «Ура! Варна сдалась!» Я очень рад третьей звезде Алексея Самуиловича [Грейга] и пожалел, что она ускользнула у Меншикова. Все Бога молят, чтобы государь поехал через Москву. Ну, брат, ежели и возьмут зимние квартиры, то всё – кампания заключилась блистательным подвигом. Не поколотит ли Бистром разбойника Омера-Врионе? Я уверен, что Силистрия сдастся скоро. Письмо твое меня оживило, а то я очень был пасмурен. Завтра после присутствия поскачу в подмосковную. Дай Бог там все найти хорошо. Мы были с Фавстом на большом именинном обеде у Хругцовых. Тут были комендант и обер-полицмейстер, которые ничего не знали. За столом пили и за здравие Лобанова, отец его обедал тут же. К вечеру бал у князя Дмитрия Владимировича, но я не поехал.
В Архиве собрал я всех в кружок и прочитал им донесение о взятии Варны и рескрипт к Воронцову. В городе ужасная радость и тревога. Меня очень насмешил один из наших инвалидов. «Поздравляю вас, ребята, со взятием славной крепости!» Один из них отвечал: «Благодарим, ваше превосходительство, граф Воронцов Петра Великого перещеголял!» – «Почему же?» – «Да как же, ваше превосходительство, ведь Петр Великий был под Нарвою разбит, а граф Воронцов Нарву взял». Товарищи его после осмеяли, а он сказал: «Ах я старый пёс, неправильно донес его превосходительству».
Александр. Москва, 23 октября 1828 года
Мамонова мне говорила, что дождется моего возвращения, имея нужду говорить со мною; только вышло, что она не дождалась меня и уехала к вам в субботу. Это на нее похоже. Фонвизин отказался, она просила князя Дмитрия Владимировича Голицына уговорить Кушникова, запете-манданта[39]39
Так звали Булгаковы бывшего московского коменданта, а в это время жандармского генерала, А.А. Волкова.
[Закрыть] Волкова, но они оба отказались от опекунства, а склонили Цицианова, князя М.Д., который более года не хочет оставаться. Я ей не заикался о себе, ибо не намерен напрашиваться; а ежели захочет, чтобы я тебя заменил, когда выйдешь, то не иначе, чтобы заведовать несчастным братом ее, но ни в имение, ни в деньги никакие не вмешиваться. Пусть она и куролесит, и отвечает.
Александр. Москва, 25 октября 1828 года
Вчера вечером заехал за мной тесть, уговорил меня ехать на вечер к княгине Катерине Алексеевне Волконской. Видел я тут дурака этого Масальского. Со стула вспрыгнул, узнав, что Потоцкому пожалована Александровская, а он обер-шенк и в Аннинской. Вскрикнул: «Как, и Потоцкому тоже Св. Александра?» – да потом, одумавшись, прибавил: «Но у кого его нет? У кого его нет?» – «Да у вас, и у меня, князь». – «Да посмотрите на Ушакова; он и не родился еще, когда я имел уже ленту Св. Анны». – «Но, князь, эти господа теряют там руки и ноги, а вы тут спокойно играете в вист». – «Но ведь сражаться – это не дело обер-шенка». – «Отлично, князь, но его дело должно быть при дворе, а вы вечно в отлучке в Москве». Все стали смеяться, а Масальский потом сказал тестю: «Ваш зять прав. Надобно мне все же прогуляться в Петербург, отсутствующие всегда неправы, там же теперь князь Сергей Михайлович; он же мне поможет». Экий дурачина! Мудрено ли, что Ростопчина делает глупости, имея такого советника?
Тут был наш родня Лев Николаевич Энгельгардт. Он просил меня побывать у него, имея нужду со мной поговорить. Что же выходит? «Я хочу, – сказал он, – написать воспоминания о моей жизни; хочу показать вам мои материалы, кои богаты и любопытны, мне хочется сделать это вроде «Записок» Сегюра». Хорошо!
Поеду копаться в свой Архив, боюсь заразиться болезнью Каменского. Польские бумаги очень меня интересуют. Все тут почти батюшкина рука; видно, что он все делал при Репнине, Сальдерне, князе Волконском, а там и сам был тем же, что они.
Александр. Москва, 26 октября 1828 года
Вчера слышал я весьма печальную весть. Пишет Ренкевичу сын из Тифлиса, что Сипягин[40]40
Николай Мартьянович, герой Отечественной войны, генерал-адъютант, военный губернатор Тифлиса, умер 10 октября 1828 года. От второго своего брака, с Елизаветой Сергеевной Кушниковой (умерла 1 ноября 1828 года), имел он сына.
[Закрыть], у коего он адъютантом, умер после кратковременной болезни. Это потеря для службы и для края, где много успел он сделать добра. Вообрази, что жена его, приехавшая сюда к отцу родить, после весьма трудных родов оглохла совершенно. В ее жизни так отчаиваются, что и не скажут ей о кончине мужа, коего недолго она переживет. Какие удары для бедного С.С.Кушникова! К счастью, приехал другой его зять – Бибиков. Все легче будет старику, коего здоровье тоже плохо.
Александр. Москва, 27 октября 1828 года
Вчера явилась к Волкову с Кавказа Марья Ивановна Корсакова и поселилась у него со всей своей свитою. Станет его, как саранча, объедать. Она мало переменилась, а дочь, нахожу, подурнела. Говорила она, что, истощив все свои каналы и писав бесполезно Реману, жене твоей и другим, решилась наконец к тебе прямо адресоваться и что ты, повсемирно восхваляемый твоей готовностью всем угождать, ей тотчас отвечал и прислал какие-то капли, от которых она сама воскресла и множество других больных поставлены были на ноги. Стало, тебя, мой милый друг, и на Кавказе прославляли! Спасибо хоть, что признательна. Волков, который, как ты знаешь, любит всех хвалить и все хвалит, рассказывал, как магометанский какой-то князек с Каспийского моря покупал Корсакову дочь, а потом хотел увезти, потом сватался, с тем что она может сохранить свою веру; но с турками негоциации редко удаются. Гриша Корсаков, также приехавший с матерью, представляет совершенного Fra Diavolo, коего голова была в мое время в Неаполе оценена в 800 червонных; усы отпущены на Божию волю, а эспаньолка такая, что бороды не видать. Я понимаю, что на Кавказе он слыл Адонисом и даже Бельведерским красавчиком, но здесь Москва, и Волков советует ему обрить все это.
О Сипягине тем более все жалеют, что он заразился, осматривая госпитали, в коих много было гнилых, прилипчивых горячек. Он было хорошо за дело свое принялся, и трудно будет его заменить.
Зайду к Брокеру – сказать ему, что дело с Ростопчиной кончено в его пользу в Сенате вчера. Тесть мне это сказал под секретом. Говорят, что губернатор подал в отставку; не будут плакать по нему. Вздорный, пьяный человек. Надобно Закревскому приискать сюда хорошего человека, чтобы Москва похвалила его выбор. Князь Дмитрий Владимирович сказал приятелю одному, что собирается в Петербург и что оттуда воротится партикулярной особою.
Александр. Москва, 29 октября 1828 года
Меня как будто громом ударило. Развернув письмо твое от 24-го числа, я прежде всего увидел записку руки князя Петра Михайловича, ее первую прочитал и сказал себе: ну слава Богу, вовремя пустили кровь императрице. Фавст вошел. – «На-ка прочти, посмотри, в какой была опасности императрица», – а между тем принялся я за письмо твое, да как ахну, так что Фавст испугался. «Что такое?» – «Не стало императрицы!» Бедный Фавст так и залился слезами, хотя почти и не знал покойную государыню. Шли к столу, Настасья Ивановна [теща Ф.П.Макеровского] именинница, мы положили молчать и не портить праздника, потому что Настасья Ивановна пользовалась некогда особенными милостями покойной императрицы. Только, как мы ни притворялись, а старуха раза три все добивалась: «Что с вами с обоими? Вы опечалены». Мы отговаривались, что угорели в кабинете, куда и ушли после обеда разделить скорбь нашу.
Какая потеря! Я не говорю уже о благодетельных заведениях, но какой удар для царской фамилии! Государыня, по летам своим, по добродетелям, по званию матери императора, была как бы главный судья, к коему все прибегали. Боже упаси царскую фамилию от всяких раздоров; но случись такое несчастие, кто будет это все примирять? Государь сам еще молод, младший брат на престоле. У меня мысли свои, может быть странные, слишком феодальные, но я оплакиваю даже и золотую карету, и 8 лошадей, и гусаров покойницы. Это нужно было для народа. Не люблю я и эту имперскую буржуазность, введенную Александром Павловичем: государь не такой имеет дом, как мы, так надобно, чтобы и все прочее соответствовало огромному дворцу, в котором он обитает. Теперь исчезнет последний этикет при дворе, а им держится почтение народное к престолу. Запанибратство, простота в жизни и обхождении погубили королеву Французскую, а с ней и Францию.
Философы говори себе что хотят, да и я согласен, что мы все черви, все равны перед Богом; но народ не должен в государе видеть ничего общего со всеми.
Ох, жаль, брат, Марию Федоровну! Только, воля твоя, ее, как и покойного государя, уходили палачи – невежды-доктора. Срам, что не пожертвуют 200 тысяч жалованья в год, чтобы иметь Гуфланда, Франка, знаменитых таких врачей. Разве здоровье царей наших не стоит того? Как после такого лучше дать опять болезни усилиться? Скоты не умели предупредить удара; он неделю готовился, они не умели попасть на болезнь. Вся наша царская фамилия полнокровна.
Как бы ни было, общей матери не стало, а какая была здоровая, и при трезвой, деятельной ее жизни надобно было надеяться на весьма глубокую старость. Сердце государево как будто предчувствовало: недаром так спешил в Петербург. При горести его все ж отрада, что принял благословение столь нежной матери. Этого счастия братья его не имели. Манифест очень нас тронул. Я поехал к Черткову; он, стоя перед портретом Павла I, что у него в гостиной, плакал, говоря: «И он, и она были мои благодетели». Я ожидаю с нетерпением подробностей от тебя и известия о состоянии нашего ангела Николая. Был я после у Волкова, и тот ничего не знал; был тоже как громом поражен. Государыня по Плещеевым его любила всегда. У Волкова случились две монастырки, им сделался обморок и припадки нервические от горестного сего известия. Все в унынии; я представляю себе, что должно быть в Воспитательном доме.
Но представь себе глупость или ветреность нашей полиции. Известие пришло поутру, по почте, все имели письма от своих, многие и манифест печатный получили, а между тем и Киарини [акробатическое общество], и все театры были открыты. Это непристойно. Ежели князь Дмитрий Владимирович отказал свои воскресные вечеринки, так, стало же, знал о несчастий; как же не закрыть театры? Да ежели бы известие пришло и не поутру, а в самое представление, то следовало оное прервать. Говорят, что Закревский не сообщил официально. Да разве для таких случаев надобно ожидать приказаний? Хорош и Шульгин наш новый: старый был мужик, но не сделал бы такой глупости. Покуда я был у Волкова, отовсюду присылались к нему записки с горестной вестью, но манифеста никто еще не имел. Еду в Архив, заеду к Рушковскому; он, верно, горюет, как мы. Мне кажется, я вижу перед собой покойницу, слышу ее милостивые слова: «Премного благодарю вас за все ваши труды для меня». Кто это говорит? Императрица своему подданному, дежурному камергеришке.
Александр. Москва, 30 октября 1828 года
Сегодня панихида в соборе по покойной императрице; надобно ехать в собор, но прежде отправлю письмо мое к тебе, любезнейший, ибо из Кремля проеду в Архив. Вчера получил я твой № 193. И у вас, и у нас только одна речь, одно всеобщее горе. Вчера я был у Волкова. Он был так же ошеломлен, как и я и как все, тем, что в день, когда явилась несчастная новость, был театр, да и вчера разносили афишки: назначена была Капнистова пьеса «Ябеда», но догадались, видно, и не было представления.
У Волкова видел я доктора Гааза, он рассказывал очень удивительное дело. Бедная Сипягина, лежащая в забытьи третий день и никого не узнающая, вчера вдруг сказала своей девушке: «Ты знаешь, что муж мой умер?» – «Откуда вы взяли это, сударыня? Как бы нам не знать об этом». Больная опять впала в бесчувствие. Только вчера вечером, придя в себя, она очень внятно повторила: «Боже мой, как жаль бедную императрицу!» Батюшка будет в сокрушении от ее кончины. Товарищи Гааза приписывают это сомнамбулизму, он сам не знает, как растолковать; но мне кажется, просто, что девушки и все, больную окружающие, видя ее в забытьи и бреду, говорили, не стесняясь, о том и другом, и больная, имея на эту минуту память, вслушалась, верно, в разговор. «Я бы тоже так объяснил, как вы только что, – заметил Гааз, – но подумайте о том, что больная так глуха после родов своих, что не услышала бы и пушечного выстрела». Это подлинно очень странно и истолковано быть не может.
Забыл я тебе сказать вчера, что приходил к нам в Архив один армянин, просивший перевести ему какой-то армянский документ. Разговаривая с ним, слышал я от него, что он и многие его товарищи получили известие о последовавшем в Арзруме бунте, что янычары послали в Топхан-Кале к нашим сказать, чтобы они шли занять Арзрум, что все готово для принятия их, что генерал наш, подозревая измену, не уважил этого, но что тогда янычары прислали аманатов, объявив, что преданные султану войска все вышли, что остальные не хотят принадлежать Порте, а русским, и что ежели сии не придут, то янычары сожгут весь город; что после сего 1200 нашего войска вошли в Арзрум. Кажется, это невероятно; увидим, что скажет тифлисская почта.
Александр. Москва, 30 октября 1828 года
Мое письмо к тебе было уже отправлено, мой милый друг, как я получил почту в Архиве и был поражен роковым известием о бедном Урусове[41]41
Речь идет о кончине князя Александра Александровича Урусова.
[Закрыть]. Моим первым движением было пойти к князю, он был в Сенате, я нашел только княгиню. Не хватило у меня духу объявить ей новость, коей она еще не знала. Ее сын Павел счел нужным подождать несколько дней, но затем, когда княгиня мне сказала: «Вы что-то не в своей тарелке, скажите-ка мне правду, не случилось ли какого несчастия?» – я взял на себя объявить ей сию печальную весть. Она сильно плакала и имела нервические припадки. Вскоре после приехал князь; сей добрейший отец также плакал горько, затем обнял меня со словами: «Ты меня избавил от несчастья объявить горе это жене моей; буди воля Божия, государь и не это потерял!» Княгиня, несколько поуспокоившись, спросила, знает ли о несчастий ее дочь Софья. Я сказал, что да, и тогда стал заклинать ее взять себя в руки и написать несколько слов по крайней мере ее дочери, чтобы ее успокоить, что она и сделала, а отец надписал адрес. Вот письмо, доставь его поскорее княжне Софье, это будет бальзам на ее сердце. Пусть она бережет себя, родители ее смирились. Граф Иван[42]42
Граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, муж графини М.А.Урусовой. Сестра ее графиня Софья была тогда фрейлиной Александры Федоровны.
[Закрыть] совершил большую неосторожность – он написал своей матери, что Александр безнадежен, а знает, однако же, что жена его читает все письма старой графине; графиня Марья лишилась чувств, читая эту столь неожиданную новость. Князь Ал. Михайлович поехал к дочери теперь, ей объявлять несчастие. Я нехотя все это исполнил.
Александр. Москва, 31 октября 1828 года
Какая, говорят, картина в Воспитательном доме, так это ужас. Вой повсеместный! Шульгин, видно, думал поправить свою глупость в рассуждении театров: приехал в понедельник в Английский клуб и просил старшин на два дня закрыть его. Натурально, согласились; но почему же на два дня, а не на 7 или 15, и ежели все трактиры открыты, то почему закрыться Английскому клубу, который не что иное, как благородный, собственный для 600 членов трактир? О Шульгиных хорошо сказал кто-то: Алекс. Сергеевич Шульгин был дурак, а Дмитрий Иванович – дура. Первый все-таки был лучше. Многие его любили, особенно дворянство, а этого никто.
Александр. Москва, 2 ноября 1828 года
Бедная Сипягина умерла наконец, промучась довольно долго. Бюллетень о покойной государыне утверждает меня во мнении, что Рюль [Иван Федорович, лейб-медик, доктор медицины и хирургии] с другими скотами не знали своего дела. Как не предупредить удар, который готовился более 10 дней? Я все-таки одно твержу: старый, расслабленный австрийский император, истощенный подагрою и развратной жизнью Георг Английский живут, покойник Людовик XVII1 последние 7 лет жил одним искусством и усердием докторов, а наши морят наших царей, как мух, и покойный государь и матушка его – жертвы их незнания. Говорят, стара была, да иной в 70 лет здоровее и лучше сбережен, нежели другой в 25! Жаль очень добрую императрицу.
Волков получил известие из Тулы, что тамошний оружейный завод сгорел; это большое несчастье, особенно в теперешнее военное время. Прошлого году там прорвало плотину, остановка была временная, и то очень чувствительна, а эта очень будет ощутительна. Подробностей еще нет, но никто из людей не погиб.
Александр. Москва, 3 ноября 1828 года
Итак, управление покойной государыни переходит к самому государю; да и точно, неловко было подчинить князя С.М.Голицына, Кушникова, Вилламова и проч. частному лицу, тогда как имели они начальницей императрицу. Институты, вероятно и Смольный монастырь, поступят к царствующей императрице. Лобанова комиссия очень приятная. Яко самовидцу, будет ему что рассказывать в Берлине. Старик, кажется, доволен, что сын его избран был для Берлина. В разговоре о намерении князя Дмитрия Владимировича оставить Москву[43]43
Князь Д.В.Голицын многократно намеревался покинуть московское генерал-губернаторство.
[Закрыть] он мне намекал, что князь Дмитрий Иванович, брат его, сюда будет назначен. И мы здесь очень жалели о Сипягине. Хорошему всякий отдаст справедливость; жену его вчера хоронили. Бедному Кушникову удар за ударом, в государыне он также лишился милостивой и сильной покровительницы.
Хрущовы прислали звать ехать с собою смотреть вход персидских пушек, сводного отряда. Не стоило же труда ездить, и смотреть нечего было. Солдаты как солдаты, а пушки как пушки. Народу была бездна, вся Москва, так что не одни мы были мистифицированы. Завтра будет в экзерциргаузе обед и угощение для войск. Хрущовы дают всякому солдату по две чарки вина. Не грешно откупщикам сделать это пожертвование. Волков тут парадировал верхом.
Александр. Москва, 5 ноября 1828 года
Вчера было трактование, сделанное городом сводному полку. В экзерциргаузе накрыты были столы, солдатушки явились, сели, пили и ели. Перед всяким было вино простое, белое, красное; сии два мало обращали внимание их, а занимались они ерофеичем, русским вином и пивом. Когда предложено было князем Дмитрием Владимировичем здоровье императора, то солдаты закричали так громко «ура»! что казалось, будто здание это обширное обрушится. В тот же день все офицеры полка и все генералы, в Москве пребывающие, были угощены обедом в зале Благородного собрания. Поутру возили персидские трофеи по городу. Волков (между нами) получил предписание разведать подробно о состоянии Воспитательного дома и, собрав все сведения, касающиеся до управлений, вверенных покойной императрице, приехать в Петербург. Он сказал мне, что отрадно было бы для него остановиться у тебя. Я ручался, что ты будешь рад, но он все-таки хочет твое согласие на это и просит тебя, нимало не церемонясь, сказать «да» или «нет». Он будет у вас недолго; сестрины комнаты пусты, к ним особенная лестница, экипаж и все прочее будет у Волкова свое, а за обедом эдакий гость всегда кстати; к Бенкендорфу ездить ему близко.
Александр. Москва, 8 ноября 1828 года
Графа поздравляю с приездом, а между тем и прошу его, чтобы велел Коллегии выдать 1500 рублей, кои просим мы на шкафы для помещения бумаг екатерининских: они лежат покуда в сыром подвале, ежели не разместить их в шкафы, то пропадут; отвечая за целость их, надобно дать нам и средства уберечь их. Мы назначили одну из трактатных комнат, там можем мы поставить 23 больших шкафа, и все будет ладно. Многим не нравится повестка – бывать всякий день в Архиве, и идут в отставку; но как это не мучение, то и желаем им счастливый путь. Когда увидишь графа, попроси его скорее разрешить нам и велеть выдать нам 1500 рублей. Может быть, и менее будет стоить.
Александр. Москва, 9 ноября 1828 года
Сию минуту выходит от меня знакомый твой, останкинский учитель Иванов, который продержал меня часа полтора, рассказывая свою беду, только что не плачет. Бедный человек, а должен нести убытку тысяч на восемь. Постараюсь сократить историю, елико возможно. Ты помнишь, что он должен был издавать здесь ежедневный журнал или газету. Князь Дмитрий Владимирович это одобрил, пошла большая переписка с Университетом и Министерством просвещения, все было слажено, подписки набраны, накоплены материалы на целый год; думал делать объявление, как вдруг получает князь письмо от графа П.А.Толстого, который ему внушает остановить издание, потому что Иванов токмо подставное лицо, а истинный издатель – князь Вяземский, – присовокупляя разные оскорбительные для него качества. Князь Дмитрий Владимирович взялся за это горячо и адресовался к Бенкендорфу, говоря, что Иванов даже незнаком с Вяземским, что все обряды, коим законы подвергают журналистов, были соблюдены, что по неосновательному подозрению нельзя разорять человека. Защищая Вяземского, в коего поведении, в девятилетнее управление свое Москвою, князь ничего не заметил дурного, он прибавляет, что ежели бы Вяземский и был таким, каким его подозревают, то перо его не может подавать никакого опасения, ибо оно подвержено пересмотру цензуры; что никто не может ему помешать давать свои статьи печатать в других журналах, ежели Иванова и не состоится, и проч. На это письмо получил князь ответ от Бенкендорфа, который я читал. Тут ни слова о Вяземском, а сказано, что лицо Иванова не довольно известно, чтобы служить ручательством, что число издаваемых в России политических газет (а эта не политическая) весьма уже велико (а в Москве и есть только одни «Московские ведомости»), а потому государь не соизволяет на издание «Ежедневного вестника», прежде названного было «Утренней газетою».









































