Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг."
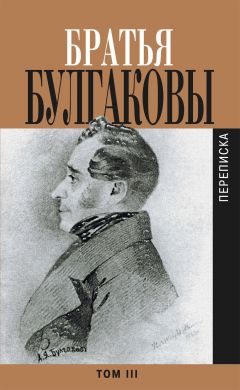
Автор книги: Константин Булгаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр. Москва, 2 февраля 1829 года
Привезли тело Николая Никитича Демидова, которое везут с большой помпой. Покойный хотел, чтобы его положили с женой [Елизаветой Александровной, урожд. баронессой Строгановой (ум. 1818)] в Париже, а ежели нельзя, то завещал положить себя в Сибири. Видно, и мертвый хотел лежать между золотыми рудами. Нарышкины, кои ему родня по Строгановым, были у панихиды здесь и тело повезли уже далее. Везут же это тело в ужасной четырехместной карете, сделанной для этого нарочно во Флоренции, ибо гроб свинцовый, и весу в нем сто пудов. На всякой станции служат панихиду, а где есть церковь, так дают вклад за упокой. Любопытство москвитян так велико, что иные ездили за заставу догонять Николая Никитича, чтобы видеть страшную и огромную эту карету. Сына Павла ожидают также сюда на днях.
Итак, Дибич будет командовать? Давно уже это говорили здесь. Бог хочет, чтобы с его ростом [Иван Иванович Дибич был малого роста] он и делать умел то же, что и маленький капрал. Киселев избавится от весьма хлопотливой должности, и ему, верно, приятнее будет служить в поле.
Нарышкин рассказывал, что тело Демидова встретили архимандрит и более сорока попов; 60 дней будет оно ехать до места.
Александр. Москва, 6 февраля 1829 года
Спасибо доброму Энгельгардту, часто меня навещает. Завтра хотел приехать читать мне свои «Записки» и узнать мнение мое. Он долго служил при князе Потемкине и многое видел, а я люблю смертельно рассказы екатерининских старичков.
Александр. Москва, 8 февраля 1829 года
Нового только, что старуха Глебова Елизавета Петровна, штатс-дама, умирает. Женщина богомольная, церковь в доме, а не могут ее склонить приобщиться; ездили уговаривать и викарный, и князь Сергей Михайлович Голицын: не хочет, да и только. Объелась и теперь все в засыплении, духовной не делает; а умрет без оной, так внучки ее любимые останутся при ста душах. Ох, эти старики упрямые!
Александр. Москва, 16 февраля 1829 года
Я устал, и от чего? Дети заставили меня часа полтора играть на клавикордах русскую, а сами плясали и репетировали. Славно идет! Ох, жаль, что ты это не видишь, мой милый и любезный друг. Наташа писала особенно к Юсупову, послала ему билет и звала его на маскарад. Старик – опытный судия в таких вещах! Только как здесь бесстыдны! Вот тебе доказательство: записка от человека, который не ездит к нам, а прочит кучу билетов.
В Калуге, после 20-летнего паралича, скончался Юрий Александрович Нелединский. Умер, говорят, как сущий монах, исполняя долг христианина, в памяти и радуясь: «Иду соединиться с благодетельницей моей Марией Федоровною!» Сии были его последние слова. Дочь его, умиравшая от молочницы, вне опасности; это та, что замужем за Оболенским, калужским губернатором.
Александр. Москва, 18 февраля 1829 года
Вообрази, что бедная Аграфена Юрьевна Оболенская таки умерла вскоре после отца. Это скрывают от князя Якова Ивановича Лобанова, который очень был дружен с покойным Юрием Александровичем, и сын его князь Алексей, отъезжающий завтра, просит, чтобы отцу это объявить после его отъезда.
Юсупов сказывал тестю, что в отчаянии, что из-за траура по Литте [графине Екатерине Васильевне] не может быть к нам. Еще рассказывал он, что намедни княгиня Щербатова, урожденная Апраксина, чуть было не родила, бывши в гостях у Ланского, где всегда множество по понедельникам и четвергам.
Александр. Москва, 19 февраля 1829 года
С каким душевным удовольствием обнял я милого Волкова! Как приятно мне было с ним говорить о тебе, Косте и твоих, милый и любезный друг. Ночевав один раз, приехал он в трое суток: очень скоро! Я нашел его похудевшим и даже состарившимся; но это, верно, следствие болезни.
Всякий имеет критические, горькие эпохи. Это видел я над этим же Волковым, но он все перенес терпеливо, службу даже оставил, укрылся в деревне (а я не дошел до этого); там вдруг все переменилось, и так повезло, что только держись. Узнали ему цену. Знаю я холодный, трусливый нрав Нессельроде; это не Каподистрия: тот скорее кончит освобождение Греции, нежели наш граф выпросит должное награждение.
Александр. Москва, 21 февраля 1829 года
Мы – как армия или, вернее сказать, как главнокомандующий накануне сражения. Бедная моя жена так захлопоталась, что, право, боюсь, чтобы не слегла; я ее вчера положил спать насильно в 10 часов, а сам, хотя и нездоровый, поехал на всемирный бал, который Мотель [московский танцмейстер] дает всякий год для своих учениц. Он столько трудился и такие сделал, можно сказать, чудеса, что не мог я ему отказать повезти хотя Катеньку. Он же разбарабанил везде, что будет у него Булгакова, для первого своего выезда, прибавляя, что и красавица, и мастерица танцевать, и проч. Там была бездна, 500 человек, и хотя дом Кологривова на бульваре велик, с двумя залами, было тесно и жарко. Спасибо доброй княгине Меншиковой: она тотчас взяла Катю к себе и ухаживала за нею точно как мать, чем очень облегчила мои заботы. Признаться, порадовался я: Катенька, очень просто одетая, обращала глаза всех на себя, так что, право, было непристойно. Ты знаешь нашу публику. Многие дамы водили мимо Кати своих знакомых, крича и толкая их в бок: «Вот, вот она, в белом платье!» – а иные просто останавливались, смотрели в глаза. Я позволил Катеньке протанцевать только мазурку (в сем танце она особенно хороша), а то было кинулись ее ангажировать на целый вечер. Мы тотчас потихоньку уехали, а то Мотель бы не пустил. Билеты были по 5 рублей, сбор был для него изрядный. Меншикова сын просил его звать на наш маскарад. Мы очень рады этому милому гостю: преумница и преживой. Княгиня Кате сказала, что желает ездить к нам, что мужья дружны, надобно и женам познакомиться.
Очень радуюсь императорскому посещению в Горном корпусе. Для Карнеева должно быть очень лестно, что государь приехал неожиданно и, застав все врасплох, был всем так доволен. Я думаю об одном, мой милый друг: как бы не пожаловал государь вот так в почтамт! Наблюдайте! Конечно, нельзя требовать от вас той чистоты и исправности, как в других местах, ибо беспрестанно входит и выходит пеший народ, оставляющий следы нечистоты, но надобно наблюдать хотя за прочими частьми. Все это лишние слова при твоей заботливости и попечении, но у меня это на сердце, надобно сдать тебе.
Александр. Москва, 22 февраля 1829 года
В городе очень ропщут на то, что полиция вывела намедни из французского театра русского купца за то только, что он с бородою. Неужели надобно ее выбрить, и ежели французский купец может быть в русском театре в своем костюме, отчего русскому купцу нельзя также в своем костюме быть во французском театре, да еще и у себя в России? Купцы самому государю своему представляются в бороде. Графиня Потемкина прекрасно сказала полицмейстеру: «В другой раз посажу с собой в ложе купца в бороде и посмотрю, как полиция его прогонит». Шульгин, говорят, недоволен 3-м Владимиром.
Александр. Москва, 1 марта 1829 года
Обер-прокурор Лобанов вчера был у нас и сказывал, что Каменского (тобольского губернатора) таскают в Сенат на допросы. Лобанов говорит, что ежели и виноват Каменский [Дмитрий Николаевич], то самовластие его основывалось точно на усердии к службе и на рвении к пользам казны, а потому терпит он несоразмерно по вине своей.
Александр. Москва, 6 марта 1829 года
Приходил ко мне Сергей Николаевич Глинка, принес книгу своего сочинения: «Картина историческая и политическая Малой Греции с двенадцатью портретами». Она помещена при прекрасном письме графу Каподистрии, коего и портрет находится в заглавном листе. Это тот, что писал, помнишь, Соколов и с коего имел и я копию. Я поскорее дочитаю и к тебе доставлю, для пересылки к графу с верной оказией. И атенция эта, и само сочинение будут ему приятны, и, верно, переведена будет книга по-гречески. И я графу напишу.
Глинка сказывал, что он цензуровал последний номер Шаликова журнала, в коем есть препышное описание маскарада нашего и который он чрезвычайно расхвалил, особливо русскую пляску. Когда получу, доставлю тебе.
Александр. Москва, 7 марта 1829 года
Был у меня опять Глинка, который более часу болтал и рассеял меня. Принес сочиненные им для Катеньки слова: романс воина, отъезжающего за Дунай и там умирающего. Попрошу Глинку сделать музыку, и выучим Катеньку петь, а там Наташа хочет сочинить живой романс. Это будет прелестно. Обе сестры получат роли.
Меня уверяли, что пансион лицейский уничтожается. Каково же будет тому отцу, который, привезя детей из Сибири и отдав туда, рассчитывал, что он шесть лет может об них забыть, был покоен на их счет; а тут вдруг поезжай, возьми их да найди, куда девать?! И захочет ли государь без всякой причины уничтожить создание покойного государя?
Александр. Москва, 8 марта 1829 года
Участь пансиона лицейского решена: это заведение с 1 июля уничтожается. В первый раз Федор Андреевич Толстой не соврал, и надобно, чтоб было в столь для меня важном случае! Что будет с Костей, не знаю. Предаю судьбу его Богу и тебе. Говорят, заведение не имело счастия понравиться государю; но когда большие рекруты, даже преступники, исправляются, неужели нельзя было то же сделать с детьми? Все, что могло быть дурного, не от детей же, а от тех, кому они были вверены. Это-то и цель всякого учебного заведения – исправлять юношество. Прощай, надежда этой молодежи, надежда, спокойствие их родителей! Не одна мать здесь зарыдает. Можно было хоть довершить воспитание и образовать карьеру тех, кои тут, и постепенно уничтожить заведение. Но что мне тут умствовать? Видно, все это было нужно. Такой государь, как наш, знает, что делает.
Сию минуту был у меня Лев Алексеевич Яковлев, заехал из общего собрания своего, велел тебе кланяться, видя, что к тебе пишу; недолго посидел и уехал. И не хотелось, а рассмеялся я, видя страх моего тестя. Ему сказали, что хотели подорвать порохом Сенат. Я уверял, что вздор. – «Это точно, я вам говорю». – «Но ради Бога, вы можете быть полезны государству, господа сенаторы, но какая выгода этим злодеям в том, чтобы поджарить два десятка старичков?» Вышло, что перепутали в городе Москву с Петербургом: там была какая-то шалость с намерением в смятении этом украсть шубы сенаторские; так до шуб добирались сенаторских, а не до сенаторов. Но мой дорогой тесть точно перепугался и уже считал себя государственной жертвой.
Дома довершить воспитание Костино не имею я средств, ибо сам Бог один знает, как живу: бьюсь как рыба об лед. Последнее отдал бы для его счастия, но где здесь заведения путные для молодежи? Нет их. Вспомнил я милостивые предложения великого князя Михаила Павловича. Но тогда надобно Костю посвятить военной службе. Право, не знаю сам, что делать. Ежели быть ему в гражданской службе (и чуть ли не лучше всего это), то, конечно, лучше всего в Иностранную коллегию, чем ему открывается путь в Архив; но долго ли отец его останется тут, – и это Бог знает. Божусь тебе, что есть минуты, в кои совершенная отставка мне кажется благополучием. Другому, честолюбивому, завистливому, было бы это гробом, а для меня – совершенным спокойствием. Мне не определены судьбою никакие успехи. Бог меня наградил другими дарами, так стану же ими наслаждаться. Общество была моя отрада; я чувствую, что оно меня не веселит, нрав мой переменился. Жена говорит: «Это следствие твоей болезни». Быть может, но с летами и жизнию и мы переменяемся. Странно, что Фавст, который часто мне докучал своими оханиями, теперь для меня приятнейшее общество. Это истинный друг наш, все та же чистая, добрая душа. Не знаю, чего бы он для нас не сделал.
Скажи Полетике, что я очень рад, что мог так скоро выполнить комиссию его. В особенной посылке препровождаю к тебе для него недостающие номера «Телеграфа». Спасибо Глинке, и он мне помог. Он очень старался, узнав, что это для его товарища школьного. «Не думал я тогда, – говорит Глинка, – что из этого тупого, упрямого кадета выйдет со временем человек государственный».
Александр. Москва, 11 марта 1829 года
Приехал добрый старик князь Урусов, поговорили мы о делах нашего Благородного собрания. Мы так оскудели, что не можем более 500 рублей откладывать на всякий концерт; однако же надобно будет Меласшу иметь. Мы сделали всеподданнейший доклад государю, прося помощи и описывая нужды Собрания. Ежели государь пожалует хоть тысяч по десять в год за свой и императрицын билеты, то заведение это славное хоть не рушится, а, право бы, жаль! Покойный император пожаловал 150 тысяч, но это после пожара 1812 года. Мысль прибегнуть к государю дана была Волконским; много баллотировали, но после все согласились. Положим, что Собрание упадет, то есть закроется навсегда, тогда скажут: да зачем же вы в этой крайности не прибегли к монаршим щедротам?
Урусов рассказывал милый сюрприз, сделанный государем его дочери Софье. Может, ты и не знаешь? Она одевалась ехать фигурировать с сестрою в живых картинах у Сенявина молодого. Императрица велела ей сказать: «Когда будешь одета, приди ко мне показаться», – что княжна и исполнила. Государыня стала надевать на нее свои жемчуга; приносят записку от императора. Императрица прочла, засмеялась, не говоря ничего. Княжна говорит, что начало в 8 часов, а в половину девятого просит позволения ехать. «Подождите минуту». Вдруг отворяются двери, входит император, а с его величеством – молодой Михайло Урусов, адъютант Киселева, только что приехавший курьером из армии с известием о взятии Тырнова. Вообрази себе радость, удивление княжны; она остолбенела, а государь сказал, смеясь: «Признайтесь, княжна, что сия живая картина лучше той, к коей вы готовились!» Старик-отец рассказывал нам это со слезами на глазах; да кого не тронут подобные черты, да и от кого? От государя своего! Это доказывает душу его: кто любит радовать других, у того сердце доброе, ангельское.
Спроси у себя в газетной № 11 Шаликова «Дамского журнала»; там найдешь ты описание нашего маскарада, только я не нахожу его удовлетворительным: он не входил в подробности кадрили и бегло все описал; видно, не имел всех сведений, а спросить у нас посовестился, ибо полагал статьей своею сделать нам приятный сюрприз. Волкову он забыл включить, а вместо нее написал Ланскую, которая и не была совсем в кадрили. Говорят, что будет и в «Телеграфе» описание. Увидим!
Ты знаешь Вигеля Филиппа Филипповича, бывшего бессарабского вице-губернатора, керченского градоначальника; он и губернаторскую должность правил долго в Бессарабии. Устроив здесь свои дела, он желает опять служить. Он малый умный, образованный. Он говорит, что ежели назначат его не в отдаленную губернию, а где-нибудь около Москвы, то пойдет в губернаторы. Мне кажется, что это бы хорошее приобретение для службы. Намекни Закревскому, – что он тебе скажет? Я было хотел писать прямо ему, но ты говоришь, что он, бедный, сидит в шпанской мухе по-нашему, так теперь не время ему письмами докучать. Я уверен, что и Воронцов не откажется также быть ходатаем у Закревского за своего бывшего подчиненного.
Александр. Москва, 12 марта 1829 года
У меня просидел очень долго Энгельгардт Лев Николаевич и читал мне свои «Записки», в коих есть любопытные анекдоты о Екатерине, Потемкине и многих других важных лицах ее царствования. Так заслушался, что не догадался, что два часа; да и старик, видя, что слушаю охотно, не устал от чтения.
Александр. Москва, 14 марта 1829 года
Был у меня Зандрарт. Мамонов говел и допущен был до причастия; но я признаюсь тебе, что не одобряю, что в столь важном святом обряде оказали ему неуместное снисхождение. Он всегда настаивал на царской церемонии, и ежели духовник согласился на это, то очень дурно сделал, что не поступил, как в прочие прошедшие годы. Князь Цицианов бывает у графа, этот ладит с ним покуда. Князь уверен, что больной выздоровеет, в чем очень ошибается. Однако же Мамонов не называет и не признает его князем, обходится с ним хорошо, но все-таки как с управляющим. Цицианов скоро мнение свое переменит. Жаль, что не может он объясняться ни с обоими докторами, ни с Зандрартом; впрочем, кажется, он не намерен графине потворствовать. Она писала ему, что Зандрарт не останется, что она приискала другого на его место. Цицианов ей отвечал, что ничего не переменит, покуда видит, что все идет как должно и порядочно. Я все одно твержу, что Зандрарта другого не найдут нигде и что не только 5000 рублей, но 20 000 рублей можно бы давать в год, чтобы сохранить такого бдительного, честного, человеколюбивого надсмотрщика.
Александр. Москва, 15 марта 1829 года
Глинка был опять, рассказывал подробно о победе своей над своими университетскими гонителями и врагами, особенно над Каченовским, который хотел погубить Глинку, предав его уголовному суду за выпущение из цензуры в «Телеграфе» пасквиля на Каченовского, уличая его в подкуплении и проч. Блудов и Ливен потребовали все бумаги к себе и совершенно оправдали Глинку и обвинили Каченовского с братией. «Что мне делать, – спрашивает Глинка, – как поступить с Каченовским? Дайте совет». – «А вот мой совет: поезжайте к Каченовскому, скажите ему: вы хотели меня погубить и не могли, я могу вас погубить и не хочу». – «Славно! Именно так и сделаю». Большой чудак!
Александр. Москва, 21 марта 1829 года
Нет иного разговора в Москве, как о тегеранском происшествии [речь идет об убийстве в Тегеране А.С.Грибоедова и почти всего состава русского посольства], которое возвещает уже и «Санкт-Петербургская газета». Что-то Нессельроде? То-то, я думаю, перепугался. На что иметь министров у таких скотов, как персияне или турки, не знающие ни прав народных, ни привилегий? Консула бы достаточно или и вице–а еще лучше проконсула. Такие происшествия должно ожидать всегда от таких народов. Государь наш премудр, знает, что делать. А право, русская честь требовала бы, чтобы Аббас их явился в Царское Село, как некогда дож генуэзский явился в Версалию с повинной головою. Иные видят тут измену в самом шахе. Глупо это думать, но все ему надобно поплатиться, и пусть Европа узнает, что жизнь русского министра значит что-нибудь. Не поверишь, какой составили из этого роман, с какими нелепыми подробностями. Волков приезжал у меня спрашивать, что знаю, и очень удивился, что ты не пишешь об этом. Я ему сказал: «Ты знаешь брата, он любит давать положительные сведения, а таковых, видно, нет еще, но вот что говорит “Санкт-Петербургская газета”». У многих не выбьешь из головы, что должна быть война с шахом. Всякий судит по-своему, но все очень поражены происшествием сим трагическим.
Вчера провели мы очень приятно вечер дома. Давно к нам просится поэт Пушкин в дом; я болезнию отговаривался, теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно его в дом ввести. Я видал его всегда очень угрюмым у Вяземского, где он как дома, а вчера был очень любезен, ужинал и пробыл до двух часов. Восхищался детьми и пением Кати, которая пела ему два его стихотворения, положенные на музыку Геништою и Титовым. Он едет в армию Паскевича, чтобы узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть все это. «Ах! Не ездите, – сказала ему Катя, – там убили Грибоедова». – «Будьте покойны, сударыня: неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного!» Но Лелька ему сделала комплимент хоть куда: «Байрон поехал в Грецию и там умер. Не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». Какова курноска! Пушкина поразило это рассуждение. Ему очень понравилось, что дети, да и мы вообще все, говорили более по-русски, то есть как всегда. Были тут еще Вигель и наш архивный князь Платон Мещерский. Наташа все твердила ему, чтобы избрал большой героический отечественный сюжет и написал бы что-нибудь достойное его пера; но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы. Может быть, это случится со временем. Вигель сегодня едет в Петербург, я дал ему письмо к Закревскому.
Александр. Москва, 22 марта 1829 года
Приехал добрый, умный старик, князь Ханджери, живет в Немецкой слободе; совестно не принять. Советовался об сыне, у нас служащем. Насмешил меня: говоря о турецкой войне, спрашивал, не едет ли туда опять государь. «Кажется нет, князь! Надобно его величеству воротиться туда с мечом в одной руке и с оливковою ветвью в другой», – сказал я, прервав речь. «С палкою, ваше превосходительство, с палкою, с палкою, – повторил старик раз десять. – Знаю я этот народ, ему надобна палка, палка! Других европейских аргументов он не понимает. Ваш батюшка знавал турок; палка надобна, палка, ваше превосходительство!» Мы совсем распростились, и последнее его слово, войдя в переднюю, до коей я его проводил, было: «Турок – палкою!» А я думаю, что это не худо и с персиянами.
Александр. Москва, 25 марта 1829 года
Не успел заехать к Брокеру, который вдруг занемог. Говорит Метакса, что он очень слаб. Это ростопчинское дело много ему огорчения доставляет. Спасибо Волкову: он через Бенкендорфа заставил объяснить дело министру юстиции, который оное препоручил особенно обер-прокурору князю Лобанову, а этот взял сторону Брокера против решения 7-го департамента. Теперь противная сторона ищет мировой, на которую и Брокер очень согласен.
Александр. Москва, 27 марта 1829 года
Государь едет короноваться в Варшаву. Как же покойный император не короновался? Кто же будет короновать – католический или греческий митрополит? Не верю что-то, однако же отсюда требуются все императорские регалии из Оружейной палаты[44]44
Коронация действительно происходила в Варшаве; на принадлежностях коронования (специально изготовленных и ныне хранящихся в Оружейной палате) стоит буква «М» вместо «Н» (по-польски «Микулай», вместо «Николай»).
[Закрыть].
Москва, 30 марта 1829 года Я очень с тобой согласен насчет Пушкина: кто не ужился с Воронцовым, тот, конечно, нехороший человек. К нам его привез Вигель. Пушкин едет на Кавказ.
Александр. Москва, 1 апреля 1829 года
Савельич живехонек и здоровехонек! Что с ним делается? Ежели морят его у вас, то, видно, долго ему жить, а знаешь ли, кто умер, и очень трагически? Останкинский учитель П.И.Иванов, служивший казначеем в канцелярии князя Дмитрия Владимировича. Между Москвой и Всесвятским нашли тело его, простреленное двумя пулями в самое сердце. Рука его от слишком большого заряда была раздроблена, равно как и курок. Попал в мерзкое общество, споили его, заставили играть и проиграть казенные деньги, иные говорят – 40 тысяч, другие – тысяч 10. Не находя средства выпутаться, он застрелился, оставляя в отчаянии и нищете жену и шестеро детей.
Александр. Москва, 3 апреля 1829 года
Жаль Байкова. Я не был знаком с ним, но знал его только по сходству его с Потоцким и по рассказам покойного умницы Мартынова; они оба были в китайском посольстве Головкина. Говорили, что он большой интриган. У Острой Брамы не один русский смерть нашел во время виленского бунта. Помню моего тезку Александра Яковлевича Княжнина; бывало, все видались мы у Закревского. Этот давно уже ближе был к тому свету, нежели к здешнему.
Видно, наш Нессельроде расшибся: рауты дает нынче. Видно, совестно ему кажется такие чертоги держать под ключом.
Теперь беда отъезжающим: не знают, на чем, как ехать?
Был у меня и долго сидел Маркус. Он и Эвениус отказались от лечения Мамонова. Он меня просил именно тебе сообщить об их поступке и сказать тебе, что им пришлось просить уволить их от лечения, чтобы не отвечать за графа, что они могли отвечать за его здоровье, когда всем их предписаниям следовали, а когда князь Цицианов переменил многие порядки, ими заведенные, не токмо с ними не посоветовавшись, но даже и не предупредив о сем, они не могли более оставаться при таком положении. Цицианов утверждает, что Мамонов не сумасшедший, а Маркус ему доказывает противное, и напрасно. Я бы на его месте просил бы 100 тысяч награжденья, ибо, стало быть, его стараниями пришел опять в ум человек, коего за три года надобно было связывать и который любимца своего Негри хотел убить обломком стула. Что граф вообще очень тих, что имеет обыкновенно спокойные промежутки, в кои разговаривает основательно, – это достоверно; но он помешан, как Бог свят. В это положение поставил его Маркус своей твердостью, хладнокровием и лекарствами, а Зандрарт – попечительным своим надзором. Освободи графа от сих уз, дай ему немного волю, – и увидят, чем кончится. Зандрарт тоже отходит. Дай Бог, чтобы я ошибся, но я ничего хорошего не предвижу.
Цицианов его тешит, теперь покупает дом графа Головкина. Давно ли купили ему дом Дурасова? Мамонов чертит, какие делать прибавления: «С одной стороны я хочу часовню, с другой – другую, чтоб поместить там мою библиотеку», – и проч. На что ему одному, сумасшедшему, дворец в 250 или 300 тысяч? Зандрарт должен быть уже ко мне; увидим, что этот скажет. Как бы ни было, ежели в графине есть родственнические кишки, то она много обязана медикам и Зандрарту за старания их около брата и за положение, в которое он ими поставлен. Впрочем, как они себе хотят; жаль мне только, что ты тут должен быть вмешан.
Александр. Москва, 4 апреля 1829 года
Волков не очень здоров, я вчера обедал у него. На досуге много мы с ним говорили, и я советовался с ним как с истинным моим и нашим другом, любезнейший брат. Во всем мы согласны оба, то есть, что я только теряю лучшие годы жизни моей, служа под начальником, каков граф. Люди, право, меня не стоящие, делают лет в десять целую карьеру, а я одиннадцатый год в своем чине, 12 лет, как имею 3-го Владимира; последнее награждение мое было Шульцево место с прибавкою милостыни 200 рублей к его окладам. Вот милости графские! Много ли найдет он в Коллегии чиновников, кои, начав в оной службу, продолжали оную 31 год беспрерывно, все по Коллегии и с 1000 рублей оклада? Кажется, не был я в тягость казне. По пристрастию к мундиру нашему я отказывал все лестные предложения Тормасова, Воронцова, Бенкендорфа, князя Дмитрия Владимировича Голицына; этот, в восемь лет, более полудюжины вывел людей в мой чин из асессоров и надворных советников. Что же я выиграл? Ничего! Я всегда молчу и всегда доволен; в 1812 году, попавшись в руки французам (оттого, что долг службы предпочел своей безопасности), избавился я чудом от смерти, но хвастал ли я этим, требовал ли что-нибудь? Нет, ничего и не получил. Мудрено ли, что забыли меня, а кричать и жаловаться – не в моем нраве. Дожидаться штатов, кои третий год выходят, было бы тоже глупо; по проекту, Поленовым мне вверенному из уважения ко мне, место присутствующего только что не уничтожается. Малиновского – из управляющего тоже директором, а ему какое дело, когда, по новому штату, директору полагают 4000 рублей жалованья, тогда как управляющий имел только 2000 рублей? Волков говорит, что головой своей обещает мне место в 6000 рублей по крайней мере, ежели уйду из Коллегии. Я не хочу ничего торопить, мой любезный друг, а тебя предупреждаю, что не хочу более служить под начальством графа. Меня постоянно все окликают, упрекают в моем ничтожестве, и я начинаю краснеть за него. Давеча Лобанов мне также говорил: «Бога ради, что вы делаете в вашем Архиве, вы ведь можете претендовать на что-нибудь более блестящее».
Скажи мне, уместно ли будет мне написать к графу прямо, откровенно, что ежели находит он малейшее затруднение исходатайствовать мне столовые деньги, то чтобы позволил мне выйти в отставку для приискания другого места. Кто знает, меня ожидает, может быть, счастие не там, где я искал его 30 лет напрасно, но совсем в другом месте. А ежели граф, при отпуске, хочет сделать мне милость, то пусть отдаст мое место Лашкареву, – он добрый малый и желает поселиться в Москве, – тогда архивским не так будет больно со мной разлучиться, ибо я уверен, что им будет очень прискорбно остаться с Малиновским, коего никто не любит, и так все бегут вон.
Я совершенно без гроша; что буду делать, право, не знаю: бездна расходов к празднику, рублей 400 одним учителям, квартиры старая и новая, мелкие долги по дому.
Князь Дмитрий Владимирович приехал ночью. Иванов упек его 18 тысяч, да 14 тысяч казенных. Для князя это и неприятно, и убыточно. Ездил всякий день к Юрьеву и к Алябьеву, а потому запечатали их бумаги. Не знаю, основательно ли тут поступлено, да что узнаешь из бумаг? Иванов бывал и у меня несколько раз по делу своего журнала; дает ли это право меня стеснять так? Не так открываются вещи такие, но наша полиция молодец на такие случаи.
Александр. Москва, 6 апреля 1829 года
Боятся, что Иванов упек и деньги, кои присылались сюда для монумента на Куликовском поле; тогда было бы тысяч 70 всех. Я боялся за Шафонского [Шафонский управлял канцелярией генерал-губернатора князя Д.В.Голицына], но выходит, что князь Дмитрий Владимирович прямо мимо Шафонского давал ордеры Иванову, коего знал, говорят, по кулисам. Иванов тоже содержал какую-то актрису.
Александр. Москва, 8 апреля 1829 года
Вчера у Бобринской князь Дмитрий Владимирович и все спрашивали о графе Кочубее, и я очень рад, что мог дать добрые вести о его здоровье; то же самое желаю и бедной Малиновской. Что бы ни было, больно! Одна дочь у них только, и все свое счастие и утешение в ней полагали.
Я знал поверхностно о государевом путешествии, благодарю тебя за подробности. Желаю душевно, чтобы в Варшаве какой-нибудь миллионный польский граф влюбился в нашу Урусову [она и вышла за князя Радзивилла] и женился на ней, но еще одно условие, чтобы сделал ее счастливою.
Ты говоришь о Филимонове как об издателе «Пчелы»; тут Выжигин-Булгарин. Я догадываюсь поэтому, что ты ошибся и что, верно, Ф. издатель «Бабочки», которая, верно, отлетит с ним в Архангельск.
Я был в субботу в акте Университетского пансиона. Вот тебе две брошюрки. Очень было хорошо. Я обходил после с Курбатовым все заведение, видел постели, больницу, видел их обед, отведывал: все очень хорошо, сколько мог я заметить. Курбатов вызвался уже особенное иметь о Косте попечение. Речи говорили хорошо, каждая речь была сочинения ее оратора. Князь Дмитрий Владимирович, Иван Иванович Дмитриев и множество было посетителей.
Александр. Москва, 10 апреля 1829 года
По несчастью, история Иванова не была апрельской рыбою. Игравшие с ним открыты и взяты странным случаем. Они замечали, что Иванов пасмурен, и, видя его отчаяние от беспрестанных проигрышей и зная, что князь Дмитрий Владимирович ожидается всякую минуту в Москву, боялись, чтобы Иванов не решился открыть ему душу и во всем покаяться; дабы это предупредить и сделать как-нибудь с Ивановым, один из игроков, Квашнин, ездил к Иванову раза четыре; но жена, зная его за негодного человека, все высылала сына говорить: «папеньки нет дома, не знаю, куда уехал, не знаю, когда воротится». Иванов тоже избегал Квашнина, думая, что он являлся требовать денег. Только на другой день свершается самоубийство. Квашнин, узнав об этом, в первую минуту жара или мучимый совестью, скачет ко вдове несчастной, находит ее в слезах, возле нее сын ее. Увидев его, Квашнин говорит: «Вот кто погубил вашего мужа, говоря все, что нет его дома; я был у вас четыре раза, мы хотели спасти вашего мужа». Слова сии были как лучом для вдовы; она их перенесла полиции; взялись за Квашнина; он объявил, что Иванов обыгран был каким-то Заворыгиным (это плац-адъютант, коего Веревкин заставил за игру выйти в отставку) и еще другими. Может быть, и отыщутся деньги, но уж Иванова не воскресят. Он оставил письмо к детям своим, в коем их умоляет избегать дурное общество и особенно игру, иметь всегда перед глазами несчастный пример отца их и проч.









































