Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 2. Письма 1821–1826 гг."
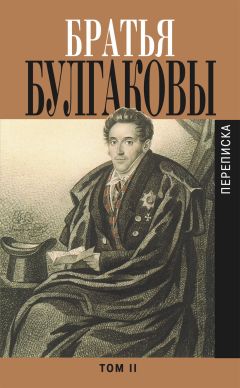
Автор книги: Константин Булгаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нижегородское чудо уступило место страшной тульской истории. Вчера Василий Львович ее рассказывал, дрожал и потел, повторяя: «Ужасно!» А Алексей Михайлович говорит вдруг, выслушав: «Как ты, братец мой, глуп!» – «Почему я глуп? Сам ты глуп!» – «Ты глуп, я тебе докажу, ничего не помнишь. Ты читал “1001 ночь”?» – «Конечно». – «Ну, там эта точно история в одно слово, только вместо форштмейстера – кади, вместо денщика – янычар и проч.». Только Василий Львович признал, что быть может, но что не помнит: читал «1001 ночь» в молодости. Ежели бы не засмеялись, он бы всему этому поверил.
Я читал в газетах объявление о собаке, нельзя было не напечатать: нет ничего кидающегося в глаза или дающего подозрение; не всякий знает, что есть человек с именем Крогера, почему собаке так не называться; только острого тут нет ничего.
Благодарю за «Рецензента» наперед. Я все журналы очень люблю. Получаешь ли ты «Вестник Европы»? Говорят, что в последнем номере опять были нападки на Вяземского. Катерина Семеновна Тургенева горюет о Сергее, фаворите своем. Мне сказывали, что ее кто-то успокоил, взяв за слабую струну, а именно, что Сергею нечего бояться, что султан их посадит в Семибашенный замок, и что по выходе оттуда Сергею дадут по крайней мере 1000 душ.
Что бы тебе сказать нового? Да, красавица моя мамзель Шиц помолвлена за Щербатова-полишинеля, будучи в бегах с адъютантом; но говорят, что он наделал пропасть долгов. Бедный Козлов Иван Иванович, бывший славный некогда танцовщик, давно лежащий без ног, ныне еще ослеп.
Константин. С.-Петербург, 14 мая 1821 года
Нессельроде мне пишет от 27 апреля: «Наш отъезд назначен на воскресенье 1 мая. Император едет в ночь с субботы, а я в воскресенье поутру. Граф Каподистрия – двумя днями позже. Так что, мой милый Булгаков, до очень скорого свидания». Стало, государь в дороге 14 дней, кроме Варшавы (и там одни только сутки), нигде не должен останавливаться, и около 20-го ожидать можно, а около 25-го уже и должно. Слава Богу! К тому времени и я свою конвенцию совсем кончу. Кому до чего, а я все брежу ею, как своим дитятею.
Александр. Москва, 16 мая 1821 года
Благодарю за сообщаемые строки графа Нессельроде; ну, кажется, идет к тому все, чтобы скоро видеть государя возвратившегося. Третьего дня приехал сюда Нейдгарт из Лейбаха, но я его еще не видал; все, что слышал, есть то, что государь на этот год не будет в Москву (как думали); это большая новость для москвичей, но нерадостная.
Твой весь архив лежит у меня в особенной комнате в деревне. Как скоро будем там, доставлю тебе все требуемые тобою книги, отыщу и алексеевские письма и пришлю тебе тоже. Читал я в газетах подробности заговора против короля Испанского; хорош и день выбрали! Чего они хотят, и я все не понимаю, почему королю отвечать за ошибки правительства, тогда как всем ворочают Кортесы? Король выходит истукан, образ в окладе, которому все кланяются, но которому не дано могущества делать чудеса. Разве имеет король личных неприятелей, – это дело другое; нашелся пострел, который и Генриха IV заколол.
Вяземский вчера приезжал ко мне прощаться. Мы были вместе у Пушкиных; он просил быть к нему ввечеру для вторичного прощания, но я не попал, а потому нимало не ручаюсь, чтобы он выехал, тем более, что коляска его чинилась еще, и отъезд, стало быть, более зависел от каретника, нежели от нашего певца.
Володя Пушкин был послан курьером к Витгенштейну. Он пишет, что бедный Баранов, крымский губернатор, Александр Николаевич, умер в Симферополе. Жаль! Это будет большой удар для родных. Другой их сын – неважная фигура, все его достоинство заключается в простреленной на войне руке. Также пишет Володя, что Али-паша одержал большую победу над турками и что в Царьграде была сеча: истребили до 4000 греков (в том числе и других христиан). Это продолжалось двое суток, и султан должен был взять сам оружие, чтобы остановить ярость янычар.
Вчера была свадьба дочери Кутайсова, вышедшей замуж за сына князя Федора Николаевича Голицына, бывшего при миссии Дмитрия Павловича Татищева в Мадриде. У нас был Шаганов и сказывал, что бедная Сипягина умерла после родов от разлившегося молока.
Александр. Москва, 19 мая 1821 года
Очень тебе благодарен за предварительное извещение об успехах негоциации с Гольдбеком. Очень будет славное дело – выиграть 6 дней, а то, право, стыдно слышать, что письмо из Парижа, бывшее месяц в дороге, называют свежим.
Это все хорошо, но еще бы лучше – учредить почтовые пароходы до Любека или Гамбурга. Мне все хочется, чтобы князь[39]39
То есть князь Голицын. Тогда заключалось почтовое соглашение России с Австрией и Пруссией через Берлин. Гольдбек был мемельским почт-директором.
[Закрыть] влюбился в почтовую часть. Религия и просвещение свое возьмут: одна крепко вкоренена в русском народе, другое идет как-то быстро само собою, а почтам надо помогать; пространство одно нашего государства требует уже, чтобы сообщения не затрудняли, а делали бы удобнейшими и краткими. Эту страсть можешь ты князю привить в частных ваших разговорах.
Кстати: Рушковский рассказывал мне очень плодовито, как Вяземский дорогою растерялся и как около Дорогобужа нашли том Вольтера, между Дорогобужем и Вязьмою – несколько номеров «Минервы», под Вязьмою или Гжатью, вероятно, «Орлеанскую Девку» или «Фобласа», Ариосто, Горация, а деньги-то, 50-то целковых, их-то, вот евто-то, – не нашли: видно, князь потерял их под Варшавою или в Литовской дирекции.
Вчера мы на балконе у Пушкиных пили чай, и вся семья тебя вспоминала. Старуха, как всегда, очень высокопарно витийствовала, называла Рушковского своим сердечным другом. Я отвечал: «Так уж повелось, что все московские почт-директора всегда будут вашими ближайшими друзьями и даже немного вашими родственниками, не так ли?» Наташа покивала мне головой, а старуха на лице показывала, что поймали вора в горохе. Добрая женщина, только уж своих интересов нигде не забудет.
Александр. Москва, 20 мая 1821 года
Вареньке понравились Жуковского стихи, а ввечеру взял их у меня на прочтение Василий Львович, у коего сестра Анна Львовна очень плоха.
Итак, Петербург 23-го числа будет обрадован возвращением государя. Отсутствие продолжалось почти год. Я жалею, что Каподистрия не едет к водам поотдохнуть и полечиться. Мне кажется, что греческие дела и текущая везде кровь этих несчастных должны его мучить и отнимать последнее здоровье.
В Царьграде патриарх кончил жизнь свою мученически, несмотря на прокламацию свою в пользу турок. Тело его было привязано к лошадиному хвосту и таскаемо по городу, а там отдано жидам, которые его продали одному греку, увезшему окровавленные останки в Одессу. Ужасно! Долгоруков, служащий при миссии в Царьграде, пишет отцу своему, что житие их неприятное самое, что нельзя выйти на улицу от отвратительных зрелищ: везде трупы, повешенные, убитые греки. Иные говорят, что Строганов уже и выехал оттуда.
Александр. Москва, 23 мая 1821 года
Князь Платон[40]40
То есть князь Платон Александрович Зубов, перед тем женившийся на Фекле Игнатьевне Валентинович.
[Закрыть] сыграл злую шутку со своими племянниками, кои надеялись на большое после него наследство; но я всегда радуюсь, когда богатый человек женится на бедной девушке, а богачи обыкновенно ищут еще богатее себя; все мало! Ну, сударь, я очень рад, что ты все кончил с Гольдбеком к государеву приезду. Польза будет для публики; но надеюсь, что конвенция эта не будет без пользы и для тебя лично.
Александр. Москва, 26 мая 1821 года
Я был теперь у Василия Львовича, которого нашел в слезах. Поутру на консилиуме доктора решили, что сестре его Анне Львовне жить нельзя и что у нее водяная; она давно больна, и должно было ожидать несчастие это, но он все не может утешиться. Он любит весь род человеческий, как же не любить сестру? Просил меня его не оставлять: верно не оставим. А в случае несчастия хочет ехать с нами в деревню – милости просим! В Москве что-то много печальных известий: во многих домах умерли дети, а у бедного доктора Таненберга – трое на одной неделе; также дочь трехлетняя у маленького Голицына, что женат на Нелидовой.
Окулов сказывал, что Высоцкий продал Свирлово за 200 тысяч Кожевникову, богачу-купцу. Жаль то, что все это будет запущено, а может, и сады истребятся, потому что он хочет завести какие-то фабрики или заводы. Луниной дело наконец кончено; дом ее куплен для Коммерческого банка за 280 тысяч рублей, стало быть, и Пфеллер свой сбыл за 60 000 рублей, чего он очень желал. Я советовал Луниной нанять дом князя Сергея Ивановича, и она мне препоручила это устроить. Я надеюсь, что Чиж рад будет и не заломается, прося дорого за наем, а ему денежки годятся.
Принимаю истинное участие в скорби доброго Каподистрии. Лишиться отца есть потеря невозвратная, а особливо теперь, ибо я все того мнения, что вся эта греческая каша очень должна его огорчать. Каков же этот плут Али-паша! Всем пользуется и хотел помириться с турками на счет греков, да не удалось. Очень я радуюсь будущему возвращению Полетики. Очень благодарен я графу Нессельроде за память обо мне: я обоих их очень люблю, а особенно зная, сколько она тебя любит.
Сонету итальянскому не могу я довольно натешиться. Сожалею, что не вся Москва знает по-итальянски; читал его огорченному Пушкину, и тот принужден был расхохотаться. Что-то скажет бестолковый философ Саччи? Насилу-то мои неаполитанцы принялись за свое ремесло, то есть за буффонство. Полно им прикидываться богатырями. Пульчинеллю не идет роль героя. Знай они свои макароны, свое мороженое и гулянье по Кияйе. Какое им дело до парламентов, конституций и проч.!
Когда увидишь Вяземского, скажи ему, что стихи, помещенные в «Вестнике Европы» на его счет за подписью «200 – 1», сочинены неким Аксаковым, домашним актером Кокошкина[41]41
С.Т.Аксаков, по любви своей к сценическому искусству, действительно часто бывал у тогдашнего директора театров Ф.Ф.Кокошкина. Имя Аксакова тогда было еще так мало известно, что Булгаков мог повторять вздорный слух о его якобы подчиненном отношении к Кокошкину.
[Закрыть] и переводчиком Филоктета.
Александр. Москва, 31 мая 1821 года
За все подробности о наших друзьях очень тебя благодарю и Тургеневу и Вяземскому бью челом, а молва уверяет, что Жуковский женится на дочери нашего историографа.
Я любовался присланными тобою образчиками походной типографии и спрятал это в свой архив с привычною надписью. Закревский оставит по себе хорошие памятники.
Намедни за ужином (у тестя), Татьяна Ивановна Киселева, сидя подле меня, все говорила о племяннике своем Павле Дмитриеве, которого очень любит. Я тотчас в дрожки и поскакал к ней сказать ей об ленте; она плакала от радости и чрезмерно меня благодарила за эту приятную новость.
Грустно видеть льющуюся в Греции кровь, и все это без пользы. Конечно, греки пропадут, их положение сделается еще хуже, но турки сами много потеряют, ежели последуют такие эмиграции в Америку; флот и торговля рушатся. Чумага все говорит, что это дурно кончится для них, но Метакса был противного мнения.
Вейтбрехт сказывал (верно, слышал на почте), что из Петербурга идут, едут и бегут все в Царское Село, чтобы встретить государя. Я очень понимаю всеобщую радость, и изъявления этой любви, верно, будут приятны государю после столь большого отсутствия.
Костя – паж! Мы все плакали от радости как дураки; он был всех умнее один. Он принял это с достоинством. Первое его движение было бежать из саду (где я твое письмо прочел) к няне наверх, а та ну плакать! А первые слова пажа были именно (и откуда взял это!): «Ну что же? Как поеду в Петербург, буду подавать государю шинель и фуражку». Ты говори что хочешь, а это твоя работа. Я и паж пишем оба и благодарим бесценного Закревского. Я в восхищении, что он может оставаться при нас, но все-таки надобно нам будет посоветоваться о воспитании Кости. Это, кажется, переменит мысли мои насчет воспитания. Ты знаешь, что я хотел его отдать Глинке[42]42
Сергею Николаевичу, у которого был пансион, где учились дети донских казаков.
[Закрыть]. О сем будем советоваться с тобою и с другом общим Закревским. Ай да пажик!
Александр. Семердино, 6 июня 1821 года
Вот третий день, что мы в деревне, любезный брат. Еще не основались, все разбираемся, учреждаемся, а потому писать к тебе я еще не успел, да и не было оказии. Посылаю за Ильиным, которого милый Запетамандант [то есть московский комендант Александр Александрович Волков] опять мне отдает на лето. Пользуюсь сим первым случаем, чтобы начать опять необходимую для меня с тобою переписку.
Дорога была так дурна, что мы проехали 56 верст почти сутки целые, часто выходили из повозок, и чуть (хотя мы и не партизаны) не пришлось нам переходить реки три вплавь, ибо везде снесло мосты, прорвало плотины и попортило дороги. Дело в том, что мы дома! Время хорошо, но все еще холодно. Мы все, слава Богу, здоровы, большие и малые. Крестьяне нам очень обрадовались; я навез разных гостинцев и дарю мальчикам и девочкам. Маленькие подарки поддерживают дружбу. Староста меня насмешил. Это почтенный старик лет в 80, но еще довольно бодр; явился и поздравляет с царскою милостию. С какою? (Я и забыл о Косте.) «Как же, батюшка! Люди-то сказывали, что Константина Александровича нашего пожаловали государевым пыжом!» Только теперь Костю все называют пыжом.
Мы все жалеем о преждевременной кончине бедного князя Василия [это, вероятно, князь Хованский, один из племянников тестю А.Я.Булгакова]. Отец перенес это испытание, но я все-таки боюсь, что оно будет иметь для него пагубные последствия. Странно, что у Хованских (то есть у многих) есть какая-то наклонность к сумасшествию, а многие точно умерли этою ужасною болезнию. Помнишь, как князь Яков нас пугал в дворцовом саду в нашей юности? Брат его, князь Андрей, также умер в сумасшествии. Впрочем, семье остается только этим и прославиться, ибо невозможно потерять то, чего нет; но также подлинно то, что лучше сохранить свою глупость, нежели потерять рассудок. Я рад, что Хилков избавил тебя от неприятной комиссии объявить несчастному отцу о смерти сына его; но, поверь мне, на эти неприятные комиссии всегда находятся охотники.
Подлинно очень разительно обстоятельство, что Всеволожский должен был объявить Хованской о смерти ее сына, а она ему – о смерти дочери его. Это глас Божий, говорящий: очнитесь, негодные!
Здесь о бывшем славном граде рассказывают ужасы. Недалеко от нас убило им целое стадо скотины; осталась в живых одна только свинья, которой не рассудилось за благо умереть для компании.
Речи Фокса и Питта я не только получил, но и прочел первый том. Мне кажется, что Фокс красноречивее; зато Питт убедительнее. Впрочем, это переменяется, смотря по сюжету, о коем они рассуждали.
Слышу шум, беганье, что такое? Поймали в роще ежа; дети и смеются, и трусят, особливо же храбрец наш г-н пыж: и хочется подойти поближе и посмотреть, и боится.
Ну, брат, какого быка и коров прислал мне граф Ростопчин из Воронова! И им ведется у него генеалогия, как лошадям. Бык называется Геркулесом. Я, и не знавши, догадался, что это его имя: ужасная махина и очень смирен. Желаю очень, чтобы у нас завелся такой скот. Теперь буду ожидать обещанных лошадей. Скотник, пригнавший быка и коров, говорит, что они должны быть уже в дороге, по слухам в Воронове. Буду писать графу и благодарить его.
Сегодня встал я очень рано и пошел вверх на мезонин, где долго разбирал бумаги. По твоему препоручению отыскал те, что ты иметь желаешь; буду их посылать тебе по частям со всяким письмом, а найдется здесь ящик, то я все вдруг пришлю. Твоих писем ко мне – преизрядная коллекция, я их привожу в порядок и переплету их – так, как батюшкины к Алексееву; а его к батюшке я еще не отыскал. Вообще я все бумаги хочу привести в порядок и переплесть то, что заслуживает; этим они сберегутся. [Благодаря этой заботливости сбереглись и печатаемые здесь письма.]
Александр. Семердино, 8 июня 1821 года
Ты меня сильно порадовал арендою, пожалованною графу Каподистрии. Кому давать их, ежели не тем, которые жертвуют для пользы службы всем временем и здоровьем своим и которые столь умеют хорошее употребление делать из достояния своего? Пожалуй, скажи графу мое душевное почтение и поздравление, ежели сочтешь это у места.
В Москве поговаривали давно, что Меншикову[43]43
Князю Александру Сергеевичу, впоследствии адмиралу. Перед тем он, будучи флигель-адъютантом, сопровождал государя в его поездки по Европе и по России, причем у него были тщательные приспособления для хранения возимых бумаг.
[Закрыть] не так хорошо. Ежели подлинно поедет посланником в Голландию, то сим слухи, кажется, оправдаются; но по его уму и осторожному поведению невероятно, чтобы он навлек на себя когда-либо малейшее неудовольствие.
Это не Вяземский! Записка Тургенева очень меня встревожила: я люблю очень Вяземского, он честный и добрый малый, но очень ветрен и неосторожен. Мы были на одном обеде в Варшаве, гости разделились на два мнения и спорили горячо. С одной стороны были Волков, я, Нессельроде [родственник графа Карла Васильевича, что потом был министром иностранных дел], адъютант цесаревича Моренгейм[44]44
Сын придворного акушера.
[Закрыть] и другие, а с другой – несколько поляков и Вяземский, который защищал избрание в депутаты известного режисида Грегуара. Мы и тогда говорили Вяземскому, что не место было тут (в трактире) так вольно изъясняться, а он отвечал: «У нас бывает это всякий день безо всяких последствий». Впрочем, сообщение Тургенева довольно еще темно, и я буду ожидать от тебя подтверждения, но все это дело сбыточное. Теперь не то время говорить пустяки; ими прежде пренебрегали, но теперь хотят, чтобы и в разговорах даже соблюдаема была благопристойность и уважение к правилам, кои государь столь явно и торжественно провозглашает.
Александр. Семердино, 9 июня 1821 года
Из письма твоего № 89 вижу я яснее, в чем состоит Вяземского история[45]45
Н.Н.Новосильцев, при котором служил в Варшаве князь П.А.Вяземский, воспретил ему возвращаться на службу из отпуска.
[Закрыть]. Ты давно это пророчил, любезный брат; да и я ему то же говорил в последнее его пребывание в Москве, упираясь и на одно письмо его ко мне, очень вольно и необдуманно писанное; он все не соглашался и повторял: «Дай мне прочесть письмо это; там ничего нет, в чем можно бы меня упрекать!» Ты читал это письмо, кажется, и Тургенев, и оба вы негодовали на Вяземского, но все это горчица после ужина. Он не хотел вовремя остеречься и попал впросак. Я уверен, что он себя со временем оправдает, но неприятность уже сделана. Я не подозреваю ни Моренгейма, ни Нессельроде, они ребята добрые и знают хорошие свойства Вяземского. Я во всем подозреваю Байкова, он ему небольшой доброжелатель, да сверх того и рад был к чему-нибудь придраться, чтобы выжить его из Варшавы, желая основаться одному у Новосильцева. Байков большой интриган; ежели верить тому, что и прежде говорили, то он был виновником, что и посольство Головкина в Китай не удалось. Реман также был того мнения.
Я читал в газетах рескрипт, коим Меттерних жалуется в канцлеры. Нет сомнения, что Австрия выпуталась со славою из всех своих хлопот в Италии; но меня сто раз более канцлерства радует аренда Каподистрии, ежели подлинно она столь значительна. Татищев должен торжествовать, видя, что либеральные идеи и чувства не в моде; он всегда был великий их ненавистник.
Мы, слава Богу, узнали в одно время о болезни и выздоровлении государя. Я полагаю, что все произошло от перемены климата, после столь долгого пребывания в умеренном и хорошем климате. Благодарение Всевышнему!
Видно, в гвардии большие перемены, и я радуюсь, что вижу в главных лицах все приятелей Закревского: Паскевич, Бистром, Шеншин – все люди хорошие. Перед отъездом моим из Москвы слышал я, что и Трубецкой, генерал-адъютант, впал в немилость. Бутягина поздравляю с сыном, а Северину бью челом. Конечно, приятно писать, но еще бы лучше жить вместе. Зачем Честерфилд жил в разлуке с сыном? Зачем мадам Севинье жила розно с дочерью? Зачем мы с тобою были почти 14 лет в разлуке? Зачем это и теперь продолжается? Когда это кончится? Когда будем вместе?
Александр. Семердино, 11 июня 1821 года
Слово Тургенева Пушкину очень удачно, и подлинно язык турнул его еще далее Киева. Я надеюсь, что Вяземский воспользуется уроком: могло бы еще хуже это все кончиться. Не ехать в Варшаву – еще беда небольшая, она ему самому надоела, все, может быть, к лучшему; желаю сего, ибо люблю Вяземского, а он предобрый малый и благородно мыслящий, только слишком начитался «Минервы», а она не всегда премудра и рассудительна.
Я рад, что государь увидит прекрасную Италию, прелестный Неаполь и славный Рим, ибо, верно, съездит во все эти города. Жаль мне бедного Коризну; был малый хороший, как и все, окружающие Закревского. Ты знаешь, что Волков, коего страсть делать свадьбы, женил брата покойного на дочери побочной Ник. Ник. Бахметева, девице очень милой; не знаю, правда ли, но меня уверяли, что он продул в карты все приданое своей жены. Он всегда был игроком, и брат сказывал, что он и первую свою жену уморил от печали.
Карамзин не только до меня дошел, то есть девятый том, но я даже и прочел уже его. Самое приятное чтение, и историограф не стесняется, говоря об этом тиране, который заслуживал другого титула, нежели Грозный. Он с большой тонкостью говорит в другом месте: «Россия 24 года сносила губителя, вооружась единственно молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых)». Комплимент довольно прозрачен, но зато и справедлив.
Ай да Головин! Куда больно, когда бранят мертвого, а заступиться нельзя! Только я уверен, что комиссия, назначенная для исследования дел покойного графа, откроет большие злоупотребления. Головин совсем не так жил, чтобы наделать 7 миллионов долгу при таких доходах.
Завидую вашим обедам у Каподистрии и Нессельроде. Не только славно покушаешь, но славно наговоришься с людьми приятными и нас любящими. Тут добрый Закревский не последнюю играет роль. Теперь он, я думаю, уже получил грамотку моего пажика.
У меня набралась толстая связка писем Тургенева, Влодека, Ростопчина, Закревского, Вяземского, Алексеева и других; приведу по частям в порядок, а, может, и переплету. В старости приятно будет это перечитывать. После то же сделаю с батюшкиными бумагами. Твоих писем у меня такое множество, что не перечитать их в месяц. Их бы достаточно было, чтобы написать полную твою жизнь.
Александр. Сельцо Семердино, 14 июня 1821 года
Ты знаешь, что моя мысль была отдать Костю Сергею Глинке; но пожалование его в пажи и расстройство, происшедшее в заведении Глинки по злобе, зависти и интригам, которые, заставив многих взять детей своих обратно, уменьшили тем и средства его, – все это заставило меня переменить мысли. Есть здесь пансион, составленный Муромцевым по какому-то сильному побуждению заниматься таким упражнением; тут и его собственные дети, и 25 чужих, все под его надзором. Тут и Волкова Паша, дети Волконского, зятя графини Пушкиной, Четвертинского, Ралля и проч.; все очень хвалят, и я верю; но дело в том, что это заведение началось едва год. Как ручаться в успехе? Кто кончил там свое образование? Разве Муромцев не может умереть (чего Боже сохрани), разве Ришельевский лицей не рушился от того, что аббат Николь отошел? О других пансионах в Москве и говорить не стану. К Пажескому корпусу, по всему, что мне говорили о нем, и именно Брокер, от которого я слышал, что не было недели, чтобы пажи не попадались на съезжие, не был я никогда расположен. У нас у обоих была, стало, одна мысль – то есть Царскосельский лицей. Узнав от тебя, что Вася [князь Василий Сергеевич Голицын] туда решился отдать братьев своих, я еще более держаться стал этой мысли; твое мнение, будучи то же, меня совершенно в ней утверждает.
Костя преисполнен и способностей, и похвального самолюбия. Он захочет тем более отличиться, что будет знать, что учится почти под глазами своего государя, коему может иметь счастие сделаться известным лично и с хорошей стороны, а впечатление сие остается долго и полезнее нам всех просьб, протекций и старательств родных. Лицей – творение государя, и он как человек не может не жаловать тех, кои будут ему приносить честь. Я не знаю, зачем ты думал, что Наташа этому не будет рада. Напротив, она теперь признается, что всегда этого желала сама, но не говорила, зная мое намерение вверить Костю Глинке. Она сама хотела тебе писать. Я тебе вверяю с сердечной радостью Костю, а взяв его на свои руки, ты избавляешь меня от значительных издержек: я, право, не знаю, как буду жить, когда все это подрастет. Куда бы я девался с восемью человеками детей? Сколько я горевал об умерших, а выходит, что Бог все премудро устраивает. Ежели все это устроится, как мы желаем, то тогда два Константина будут меня тянуть в Петербург; но поселиться там мне все и подумать нельзя. Я не знаю, учат ли в Лицее музыке и танцеванию, а мне этого хочется очень; у него же большие способности к тому и другому. Танцы покидают нас с летами, но нет причины бросать музыку: это отрада большая, и мне помнится, что старик граф Вельгорский, дед нонешних, играл изрядно на скрипке и в 84 года.
Смотрели мы теперь на работу почти самую тяжелую, то есть унавоживание полей. Этот год навозу множество на скотных дворах: это обещает хороший хлеб на будущий год. Мы не в Сицилии, где без навозу на одной и той же земле собираются три и четыре разные жатвы. Когда я поехал из Палермо, плакали помещики, что голодный год, нечего будет продавать, пшеница родилась только сам-шесть, ни больше ни меньше. Но я что-то далеко заехал, из Семердина попал в Сицилию.
Вчера получил я письмо от Василия Львовича Пушкина, и он описывает мне историю Вяземского еще подробнее, сожалея, как и мы все, что это последовало. За Вяземского сердце я поручусь, но голова – дело другое. Я сказал Пушкину, что Вяземский захотел получить свою долю похвал, расточаемых в Собрании депутатов Лафайетом и иже с ним уму и опытности нынешней молодежи.
«Что с тобою? – спросила жена, видя, что я смеюсь, читая твое письмо. – Скажи же!» А я не мог не захохотать, читая рассказы о моем неапольском короле, который выезжал из Лейбаха в шестиместной карете, имея при себе все свое министерство, то есть капуцина, собаку и двух медвежат в корзинке; недоставало шута, обезьяны и попугая.
Уваров поехал в Рим! Но который, генерал или пиит? [То есть Федор Петрович или граф Сергей Семенович. В Италию лечиться поехал тогда первый из них.]
Александр. Семердино, 15 июня 1821 года
Чтобы поквитаться с тем, что сообщаешь мне от Меншикова, выписываю из письма графа Ростопчина то, что говорит он о французах, над коими не перестает подшучивать при всякой оказии: «Французы, – говорит он, – оставляют песенки и безумства только для того, чтобы заниматься глупостями. Эти господа смогут похвастаться представительным правительством, только когда научатся молчать и слушать кстати; они станут опорой монархии, только когда отбросят выражение «приносить присягу», чтобы делать это лояльно; они станут республиканцами, когда у них не останется уже 120 блюд рестораторов и они будут есть чечевицу и пить воду». Говорит, что Корсакова уехала, промотавшись так, что не заплатила Орлову Грише, который за нее поручился у банкира. Потье переходит опять в варьете и проч. Очень хвалит Шредера, чему я очень рад.
Тесть пишет, что дочь Щербатова, князя Александра Александровича, бежавшая с кем-то из дому отцовского, с ума сошла.
Теперь и умри бессмертный Наполеон, мало будут говорить; а я помню, что в 1813 году, во время блокирования Дрездена, где он был, писали, что он опасно болен, и это произвело страшную тревогу во всей Европе. Другие времена, другое лечение. Корреспонденцию этого бывшего проказника, обещаемую тебе давно Сенфлораном[46]46
Известным петербургским книгопродавцем. Почтовые сношения были в то время так медленны, что А.Я.Булгаков в июне еще не знал о кончине Наполеона, последовавшей весною этого же года.
[Закрыть], буду ожидать с нетерпением.
Александр. Семердино, 17 июня 1821 года
Худо жить патриархам в нонешнем веке, в коем завелась мода нападать на все, что бывало наисвященнейшего в мире. В Царьграде говорят о срубленной голове так, как у нас здесь о срубленном дереве, да еще и менее, потому что патриарха забыли; а я третий день жалею о двух деревах 20-аршинных, кои срубил у меня в лесу Филат на мостик, который мы строим в рощице, с одного берега пруда на другой. Он будет точно наподобие мостика в батюшкином саду, на островке, и будет называться Братнин мост. Я буду им хвалиться, как французы Аустерлицким; но этот поставлен был гордостью, высокомерием, а мой воздвигнула братская любовь.
Ай да французы! Овечки по-неаполитански – мысль пресчастливая, хотя так бывает со всеми овечками: их всех забивают еще прежде, нежели они увидят костер. Мы над этим посмеялись от всей души с моей женою.
Пожалуй, себе, визирю голову руби, но этим несчастного патриарха не воскресишь. Подлинно справедливо говорит Сабанеев, что это первый пример, чтобы сняли с виселицы тело, чтобы отдать ему всякие почести, пушечную пальбу и проч., как то было в Одессе с телом бедного патриарха.
Очень я рад, что княгиня Воронцова, моя фаворитка, родила благополучно в Лондоне. Ему и отцу его дан орден Гвельфов английским королем; но отчего также Убрию? Видно, по стараньям графа Нессельроде. Поздравь Воронцова, когда будешь ему писать. Я, признаться, не совсем был покоен насчет родин сих.
Александр. Семердино, 22 июня 1821 года
От Вяземского писем не жду. Он был ленив и в Варшаве, а у вас едва станет у него времени разъезжать по дачам и театрам; я буду ему рад, когда приедет в Москву. Василий Львович обещал тотчас меня известить о приезде его. Твои хлопоты серьезнее моих, то есть с Чижиком, и не очень было бы забавно платить за него 5000 рублей; но я рад, что ты передал это все Васе, которому честь и слава, ежели он отца выпутает и успокоит. Не всякому дано это счастие.
Перечитывая письма батюшкины к Алексееву и к нам, вижу, как он горевал о долгах своих; но мы были в чужих краях, да и слишком молоды и неопытны, чтобы быть ему полезными. Главное зло было то, что управляющие батюшку обкрадывали, он сам об хозяйстве не имел понятия, и прекрасное имение не приносило ему никакие, или ничтожные доходы. Батюшка продал тогда барону Ашу Любашковское имение почти за ничто. Аш получает доходу 60 тысяч рублей. Азанчевский купил за 22 тысячи рублей Жельцы, которые не давали ничего; вечные были недоимки, а старый этот … выручил деньги свои на одном лесе и имеет лучшие озера в Белоруссии. Но мало ли кого обогатил наш батюшка! Утешение и то велико, что худого слова никто не произнес никогда на его счет. Он умел выслуживать, а не наживать.
Батюшка подлинно был должен Татищевой 2000 рублей. Сто раз была речь о заплате, и я не виноват, что это не кончено. Всему причиною взаимная деликатность. Я просил много раз старуху сделать счет, по коему был готов заплатить; она отвечала, что полагается на меня; мне было совестно положить, как должно, указные проценты, а она по 10% тоже совестилась, я думаю, просить. Так и оставалось все. Деньги были взяты через Фавста, коего я тоже сто раз просил переговорить; у него был один ответ: скажу! Я ему напишу, чтобы непременно хоть с Урусовым кончил бы; а по моему мнению, одно средство и легчайшее: так как уже прошел и десятилетний срок, то отдать, вместо 2000 рублей, 4000 рублей. Я раз самой старухе говорил; она отвечала: «Это деньги дочери моей; все равно, что у вас деньги эти, что у меня». Мы и не с такими долгами да честно расплатились, а для меня мать Дмитрия Павловича особа священная.









































