Текст книги "Музей «Калифорния»"
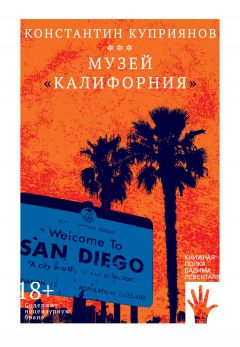
Автор книги: Константин Куприянов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Серое, все серое и как будто показанное еще и через линзу солнцезащитных очков. Серо-затемненное. И этого живого человека я не попытаюсь сделать живым. Честно скажу: я понятия не имею, что и как привело ее к L. Нет, есть история об этом, он скажет мне, когда через пару лет на пирсе Санта-Моники мы будем идти через толпу, пожирающую жирные дисконтные котлетки, о том, что написал бота для тиндера и что бот отлавливал тестовыми десятью репликами женщин среди куриц (так мерзко и скажет, от этого я чуть не подавлюсь котлетой), но поскольку отсюда мне видно и известно, что все, сказанное L, – сказки для простаков, – я думаю, что и бот – брехня, что он обычный мужчинка, как я, только убийца, что в соцсети он со всеми честно, напористо, назойливо переписывался. А как еще? Таково наше, мужчинок, бремя в двадцать первом веке.
Тем более я не видел у него ни одного бота, ни одного автоматизированного процесса. Он все делал руками и голосом. Кажется, он очень тащился от возможности голосом обратиться, приказать что-то роботу. Мы-то знаем теперь (так говорят), что голосом надо в основном пользоваться для молитв, но L мастерски управляет роботами. В Предчувствии человек чаще обращается к машине, чем к другому человеку, потому что, живя в новом царстве, – ведаешь, что у другого в сердце, и нет нужды употреблять слова для лжи и искажений. Добыл ее из соцсети, она прошла некий тест и показала себя не пустой. «Он взвесил их и нашел слишком легкими…»
«Как тебе идея о самом искреннем американском романе о превращении в американца?» – спросил ее. Это единственное, что я могу довольно подробно, с деталями и без ухода в философию или молитву, сочинить. «А для „структуры“, которой иначе так не хватает, у меня есть твоя история с L. Подари мне ее?..» Безусловно, она возмутится: гном, вообще-то, стоял на самой обочине, нет у гнома права и инструмента копошиться в их истории, но… еще была же моя окропившая их кровь, разве недостаточно?.. и Дамиан, полностью восстановившийся, сильный, как никогда, подначивает и поддерживает меня. Он знает меня лучше кого бы то ни было и никогда не отречется от меня.
«Ну, заобщались, стали созваниваться», – говорит L опасливо, с паузами, словно подбирает нужный проводок посреди минного поля. Он пытается нащупать, что мне известно, а что нет. А я шерстью чую, что он убийца… Его слова и выражение личика, квадратного, увенчанного рыжими бровями, отточенно верные. Был бы я детективом, то признал бы, что тут не к чему придраться, что с парня надо слезть, – но в глубине души я знаю, что он знает, что я знаю, что он лжет. Дамиан, это наш парень.
«А потом она приехала к тебе», – подсказываю я. «Нет, это она к тебе приехала», – очень редко в его речи появляются человеческие интонации: например, насмешка, укор, подначка – как сейчас. Обычно он разговаривает как ошпаренный робот, как будто боится быть таким же человеком, как я, с недостатками и пошлой глупостью. Мне, конечно, тоже передается это отточенное стремление выглядеть не тем, кто ты есть – как будто совершенством, – но я и так унижен своим бубнящим внутренним унизителем. Если ты хочешь казаться не тем, каков ты есть, если ты мечтаешь быть персонажем литературного произведения rather than парнем, который знакомится и влюбляется в девчонку, а у нее оказываются месячные, а у нее оказывается молочница, а у тебя оказывается маленький член, а у нее оказывается бывший муж, а у тебя оказывается аллергия на ее духи из хвойного Мэйна, и так далее, и тому подобное, и все это мелочно, пошло и смешно, но это-то и будет вашей историей во всей ее неприглядной, не переписываемой в историю на бумаге красоте, – то ты глубоко, подлинно болен.
Я еще понял, что все сказанное нами вслух исчезает. Это другое свойство памяти: там все немые, и все общаются на уровне эха. Вроде бы там двигают губами и передают, как тени во снах, свои мысли, и ты вроде бы знаешь, что было сказано, но доподлинно обозначить это буквами уже невозможно. Поэтому в моем Музее не будет диалогов, и даже смотрителям, если честно, надо запретить говорить что-либо, кроме заранее записанных монологов. Поэтому я запоминаю самое острое, когда осторожно спрашиваю: «Ну ты же понимаешь, что она прилетела-то к тебе? Что-то, может, и не сложилось, и ей понадобилось взять меня в попутчики, но она летела к тебе. Бро, она летела к тебе. Ты что, бро, совсем не врубаешься в женщин?!
You fuckin’ not realizing that she’s been living with the idea of you?!. Getting this fucking visa thing and then buying these ridiculously expensive tickets, which were like… Idk, like thousand bucks or something and she was taking this fucking short as fuck vacation to just fly over the continents and fucking insane ocean to just spend miserable three days here in Cali. But she couldn’t know what it was like here, so the only true reason must have been you, you!» – Выкрикивая ему это в самодовольную песью, соколиную рожу, я чувствую острый укол ревности. Пожалуй, впервые мы меняемся местами: странно, это он должен был ревновать ее ко мне, а ревную я. Столько усилий, столько чертовой унизительной ненависти к самой себе и любви к нему, к роботу – Попутчица не заслужила этого. Кроме самодовольной, спрятанной в неподвижном взгляде усмешечки, он никак не реагирует, но я кажусь себе вставшим на его место в Фениксе, и наоборот, что это он привез ее ко мне. Но он насмешлив, будто мы говорим не о живом человеке – не о живой чертовой Вселенной, впихнутой в маленькое совершенное тело, – а о другом таком же роботе, запрятавшем всю свою искренность в чертовы формы абзацев и букв. «Как-то в голову не приходило», – пускает беспечное дымное колечко, пожимает плечами. Убийца в своем праве.
Выходит, в моей Вселенной только я бы умолял женщину приехать ко мне, совершить чудо, побыть со мной, вынуть меня из болота смерти, из эмиграции, из неродной уродливой страны, из неродной, прожженной дьяволовым огнем реальности, стать ведьмочкой для меня, утешить огонь в нас… Он сокол, он пес в хорошем смысле слова «пес» – он бог псов, машина, он Цифра, по крайней мере, молится цифре. У той все okay. У нее нет колебаний, или двух возможных мнений, или парадоксов. Цифра – это цифра: если исключен ноль, значит, единица; если исключена единица – значит, ноль; если исключить не выходит – нужно больше данных, но не бывает квантовой все-возможности. Красота цифры (опасная – потому что с этого начнутся с нею парадоксы) в том, что ее можно разложить на десятые, сотые, тысячные, миллиардные. Но, как бы то ни было, в цифре живешь на освещенной, доказанной стороне бытия.
В конечном счете, как и всему вне себя, я начинаю завидовать L, и зависть скручивает меня в желчный ядовитый ком. Всех нас, пожалуй, в той или иной мере, Америка приманила завистью. А чем еще?.. Невозможно представить полноценного, полной грудью вдыхающего и в достаточной мере выдыхающего, который бы сорвался и помчался, полетел, поплыл через полмира, разорвав пуповину, чтобы стать эмигрантом или тем более американцем. «Американец» – мы и не знаем, что это. Любитель сигарет camel, бейсбола, бранчей, йоги, жареных крылышек, бесконечных прерий, ситкомов? Он вообще не вид. Он – это я, а быть мной, я тебе скажу, такого врагу не пожелаешь, даже рептилоиду… Конечно, в конце пути ты попадаешь в край несказанной красоты. Этот континент божественен, божественная сила и красота. Недаром тут полмиллиарда человек и все возносят ему молитвы. Уж что-что, а Землю любить мы даже отсюда еще не разучились (в массе своей). Например, среднеамериканская равнинная пустошь. Например, Небраска. Мне говорили, что через нее ехать хороших восемь часов.
Я уезжаю в Небраску, чтобы смыть с себя L, Попутчицу, зависть, найти новую точку сборки. Мне звонит Дамиан, но рассказать ему нечего. Раз я в Небраске, значит, если начать ехать, например, зимним утром с восточной стороны, из Омахи, то до Пайн Блифс, на западе, доедешь как раз к сумеркам, и всю дорогу тебя сопроводит лишь одна бескрайняя выстеленная гладь скудной белой и бурой земли. И сказать об этом нечего, слова делаются плоскими, выстилают пейзаж. «Чем не Россия, – спросит другой, – ну, кроме дороги, возможно?..» Дело в зависти.
Здесь, в пустоте ровной серой бесконечной пологой пустынной оставленной Небраски, я складываю уравнение про L, как будто по возвращении я положу расследование на стол и доложусь саблезубым начальникам, что главный маньяк Калифорнии – вычислен, и взвешен, и найден легким – нами с Дамианом. Наш парень. Но увы… Может, и был он затем, чтобы испытать нас, но Предчувствие жило в нас с самого начала. Во мне так точно. Мы слишком крепко должны были полюбить друг дружку, чтобы не расстаться, а когда целых шесть человек вдруг влюбляются, когда между ними вспыхивает смерч вдохновения, то они решают: мы никому не расскажем об этом, и нашей темной страстной любви будет довольно, чтобы менять мир, – и когда действительно поменяли его… – то к этому времени не осталось уже самой молекулы. Она расцепилась и стала шестью отдельными (впрочем, насчет лично себя я так до конца и не уверен. Эти «мы» теплой приветливой тоской еще живут во мне) новыми историями. Увы. Саблезубым начальникам лишь остается покрутить пальцем у виска.
Я помню нас… Скудная почва Небраски дает хороший корм памяти, тут не выжить без памяти. Тут впасть в беспамятство легче легкого, ядовитое однообразие повсюду, только по догорающему на западе закату узнать, куда держишь путь и почему: потому что начал с востока, начал с начала, начал с первого удачного превращения женщины в Ведьму, начал с неблагодарного проклятия, и катишься теперь полный сил в ночь, в небытие, крутишь без помощи цифр жизнь, как кубик Рубика: может, цель ее в полном насыщении собою всей пустоты долины, а может, в том, чтобы сгинуть в долине, не удостоившись насыпи с медным крестом – катишься, в общем… мышечная память: как давить на педаль, как подправлять руль, как пить из бутылки, выведет, даст бог, тебя из пределов полной Небраски в знание, что есть сила вне тебя, глубинное знание, смысл, о котором и не мечтал еще утром.
Я помню сентябрь, дождливые часы пересадки в Нью-Йорке; но дождь уже мне нипочем, я знаю: со мной других пять человек, и если каждого лично я не способен любить одинаковой мерой, – то даже это не страшно, любовь остальных всегда поможет, сбалансирует меня, сделает вновь пропорциональным. Темна работа пропорций. Я расправил крылья, начал оттаивать понемногу, выбираться из заколдованного прямоугольного штата вечной степной тоски, из ощущения, что моя любовь ни к чему и напрасна. И этот сентябрь две тысячи семнадцатого был мне нужен, чтобы вспомнить, что у любви есть не только слабость, но все-таки и сила.
Я помню нас: прямоугольник стола, прямоугольники света, приветливый, не для людей построенный, но для исполинских идей ВДНХ, московское последнее летнее тепло, не таящее никаких обещаний неисполнимых, или угроз, или гроз. Я помню, что мы протянули друг другу руки – словно одновременно – кто-то со скепсисом, а кто-то с надеждой, как волшебные палочки. Я помню, как наколдовал эту минуту и как беспомощен оказался, чтобы создать ее один. И другие должны были соучаствовать в волшебстве, чтобы оно вспыхнуло и сказало мне: писатель несет тяжелое бремя. Никогда не суди его в себе.
Тем летом я поднял тяжелое бремя: накануне осеннего дождя в Нью-Йорке, снова в царстве одиночества, но уже неразрывно соединенный с пятью другими. С берега Бруклина за взвесью дождя кривой хребет Манхеттена – самый подходящий для больших городских осознаний. На миг – хотя город в осеннем дожде весь писан полутонами – не стало для меня никаких переходных оттенков, а только три слоя: город, вода, куда уйдет вся память, следующая спираль жизни, и третьим – собственное тело. Я увидел вдруг, что, с друзьями или без друзей, с любимыми или с ненавистными, могу выжить в любом случае, только если буду особой красной краской среди мира, который мне выпал.
Это был уже третий год, как мой путь неизбежно заканчивался городом на краю американского запада и, шире – на краю западного мира. Нью-Йорк не годится – я пересяду на самолет дальше, в последний город. Говорят, лучше города на Западе нет, а почему бы не начинать сразу с лучшего, коль скоро лучшую землю – родную, русскую, русским родным языком залитую, – оставил из-за зависти и обиды. Перед глазами еще стоит взвесь и хребет великой столицы, но я сажусь в Сан-Диего, скольжу над городской верхушкой (аэропорт тут прямо в сердце города, самолеты вонзаются в него почти вертикально, мы дивимся, глядя в иллюминаторы, как грибами разрастаются японские небоскребы, тюрьмы, верфи), мимо собственного дома, – мне повезло иметь собственную крохотную хижину в самом подбрюшье тихом-сладком, где припасена свечка к моему возвращению, – и повезло иметь единственную попутчицу, сверхсилу одну-единственную, единственный талант.
Из шести создана молекула, которая после весны, после этой посадки, никогда снова не соберется, словно путь в превращение через время закроется для нее. Итак, Сан-Диего.
Вечное лето, последний огромный пирс, входящий в Тихий океан в жалкой попытке длить хоть чуточку царство. Дальше, за безбрежным Тихим, колышущимся в забытьи, уже Восток с его непонятной, отдаленной причудливостью, – отдельная жизнь уйдет, чтоб прожить его, – а я здесь, на западе, у самого края материального, накануне царства Предчувствия. Удочки рыбаков на самом длинном пирсе побережья заброшены, я меж ними стою без улова, бриз сушит кожу, выветривает сиреневые круги из-под глаз, унимает нервный тик жителя мегаполисов, и я проповедую, и никто не слышит. О, как сладко! И сладкое тепло ласкает, успокаивает проповедника во мне: ты дома, ты перед землей, что не даст урожая, ты вправе передохнуть, отдохни, никто не услышит.
Кажется, я и вырвался из Небраски, из Нью-Йорка, из Москвы, из дружбы, только чтобы отдохнуть наконец-то и пожить загорелым крестьянином. Праздную двадцать девять лет – сладкий предел молодости, невинности, простоты; но когда нервы излечены от травмы больших городов и пустошей, тело пора отравить, чтобы продвинуться вперед. Здесь всегда солнечно и прохладно, и я всегда начинаю описание города с его изменчивой, но одинаковой погоды.
Мы живем в шести состояниях: ранняя весна, цветущая весна, уходящая весна, затем первое лето, знойное лето и сходящее лето, балансирующее на грани того, чтобы вдруг, в самый холодный и темный месяц (обычно ноябрь-декабрь) впасть в хандру осени. Тут протекла моя эмиграция, которую я никогда так не называл. Я ехал к нему, заговоренному городу шести демисезонов (секстосезонов? – примеч. соавтора-Д), и мне хотелось, чтобы нашлось объяснение, стройное и внятное, как я здесь оказался.
Имена и поступки наслаиваются и должны рано или поздно превратиться либо в органическую картину, несколько смысловых уровней, слоев, градиентов, массивные предложения, либо вылиться в полную бессмыслицу, белую пургу, где утрачены все ориентиры. Я завидовал людям, верстовые столбы которых смела метель, и вот сам я здесь, ведь зависть страшная сила, получите распишитесь, товарищ гном-ведьмак, страшнее только Возмездие. Вот оно, забирай: право быть собой в своем внутреннем саду. В нем можно даже поставить клетку и запереться. Пройдет время, я сделаю ее из камышовых прутиков и еловых лап. Но я улетаю в Сан-Диего на пике формы, – мне двадцать семь, – веруя, что не только получится, но что это еще и шаг на ступень вверх. Без пространственного ориентира невозможно совершать шаги во времени. Если пространство не подчиняется – время кажется небезопасным и чудовищным.
Мне хотелось, помню, в самолете через мир, в самолете, застывшем над необитаемой североканадской бездной льда и гор, чтобы мы все взорвались там борту, лишь бы только не приземляться. Отправляясь на восток, ты делаешься странником, потерявшим день. На запад – ты удваиваешь свой день, удлиняешь жизнь, заискиваешь перед бессмертием. Я прилетал во вторник, улетая во вторник, я плакал, чтобы вторник не наступил. Сжал кулаки и порвал пространство, а заодно и время. Логично, что не взорвался, раз существует теперь вся эта память и вьющаяся тоска – бывшая боль побывших там «я». Я прилетел во вторник, двадцать седьмого числа, шел октябрь (в том году на октябрь пал пятый из шести типов лета), и я пришел сразу на две войны.
Одна была моей внутренней: ею я исписан изнутри, измалеваны мои тетрадки и черновики, в нее попадаю утром, с первым страхом, и выхожу ненадолго во время сна, по крайней мере, тогда она отступает и шумит, словно прибой за закрытым окном; вторая – война внутри самой Америки, кипучая и дикая, в которой я пристал к маленькому отряду, просто потому что совсем одному выжить невозможно, я сменил несколько отрядов, и всюду в той или иной степени видел нескончаемую войну и дивился: с дальнего русского берега выглядело так, что война и дичь только в моем отечестве, и о ней мало кто знает, хотя все и каждый – на ней, – а тут думал, что не будет никакой войны. И все же я здесь, и война двойной спиралью прострачивает пространство, и репродуцирует саму себя, и составляет меня.
Так я задумал и написал книгу о войне, проковыряв в себе до крови острое чувство войны. О нем не перестанут спрашивать, ему будут не доверять, но только на поверхности – изнутри каждому будет видно, что отпечаток ее подлинный, насколько подлинным вообще может быть знание сердца. Писатель идет на войну совсем один, и бремя его тяжелое. Ему некуда пригласить зрителя. Если же и приходит гость – автора давно нет. Часто оставленное собой он, оборачиваясь, ненавидит, и часто оно во всех смыслах не принадлежит ему, и тогда он вовсе не автор – исчезнувший мираж, который бы оставался, не узнай он об истечении своего времени. Автор работает в одном измерении, вернее дает чему-то своему работать посредством себя, а сооружение возникает в еще одном измерении, куда ему уж точно не поспеть – это слишком далеко в будущем. И обречено стать темной нефтью будущего, пространством царства Предчувствия; и от случая к случаю сооружение, будучи сотканным из подвижных волокон, проникает в дальнейший каскад измерений: на сцену, в кино, в широкий контекст, в политику, в общественную повестку… Ничего этого, конечно, мне не нужно.
Сооружение автора многомерно, но он не соприкасается с ним. Не знает, что получилось. Его давно нет, но мерить его можно столь пошлыми словами: «получилось», «удалось»… Важные вопросы, на которые он вынужден ответить: «Что именно это такое?», «Кому и как оно сказано?» Но ответы похоронены в его сердце, и останется ложь там же. Может возникнуть искушение сказать, например (если кто читает нынче описания экспонатов в музеях, то на втором этаже моего Музея найдет он следующее описание багровой, уставшей от времени книжки под стеклом):
«…прославившийся воин возвращается из карательной экспедиции и создает молекулу <…>, которая будет уничтожена наемником-демоном, а на пути <…> встают и исполняют свои роли препятствий и союзников. Но под давлением черной материи смерти и любви (все книги нового времени должны работать, приводимые в движение с помощью этих архисмыслов, оттеняющих блеклую плоть „настоящего реального“) воплощается фатум воина: всегда в том, чтобы умереть на войне – рукотворной ли, выдуманной или всеобъятной, привычной для века Возмездия».
Моя же плоская идея осталась в том, чтобы заземлиться на чужой земле. Мне надо было служить чему-то вне сиюминутной человеческой суеты (которой у меня вдруг не оказалось), чему-то, что никогда не породит энергии, денег, но ответит на мучительное, зудящее «Зачем?». Для этого годится работа при земле либо сосредоточенная медитация: обеими практиками получаешь смутное осознание, что же происходит.
Так я стал крестьянином и патрульным: присматривать за землей и ясно видеть сущность людей. Думал убить двух зайцев. Думал, если буду проницать умы и души, это даст мне ясность. Думал, есть некий универсальный код, способный вскрыть или настроить на один резонанс с людьми. Впрочем, кого я обманываю? (И вправду, кого?..) Первые два с половиной года из срока я провел в темном углу невежества. Вообще-то, это были пиковые годы.
Они затемнились и забылись настолько же, насколько сама Россия во мне теперь померкла. Это был русский американский период, когда ты совершенно русский и пересажен только головой, но не корнем. Каждый справляется с этим misalignment по-своему. Тут главное – четко объяснить себе причину. Тут лучше всего действуют логические стройные конструкции. Я работал составителем таблиц в департаменте убийств Сан-Исидро, и это в полной мере соответствовало стройности конструкции. Западная, калифорнийская Америка плохо годится для прозы, гораздо лучше для картинки, для кино.
Многие тащат за пазухой нож или камень, который затем превращается в орудие убийства. Я узнал, что вокруг разлито море смерти. Страшно: без петербургской влаги, или московской мороси, или хотя бы стандартной среднерусской долинной туманности смерть кажется куда более противоестественной, в ней нет второго дна, нет задумчивого осмысления, раскаяния. Как будто в сухости не должны умирать люди. А может, я просто никогда до этого не соприкасался со смертью, и только тут мне открылось, какой огромной силы она требует. Человек, конечно, невероятно крепко спаян: я видел переживших шесть пулевых попаданий, пять ножевых ударов, избиения толпой из десяти человек, выживших после пыток картеля, который отрезал им все, что можно еще было отрезать, и вырвал зубы, языки или глаза, и в некоторых сохранилась жизнь, и из чужой статистической таблицы они не перекочевали в мою.
Смерть уплотняется всего в двадцати милях от береговой линии, но значительно более разреженной делается вблизи океана. Вдоль океана теснятся города, я перечислю для удобства посетителя второго этажа.
Самый южный город американской Калифорнии – это Империал-бич. Когда я прибыл, он еще походил на деревушку серферов, но туда втекала цивилизация со всеми протекающими через нее… – силой, деньгами, бризом новой жизни…
Севернее, на отдельном острове, есть независимый городок Коронадо: богатые мамочки, адмиралы и капитаны, а еще, конечно, просто богачи без определенного источника богатства, зачастую сами позабывшие, откуда истекло их богатство. Это одно из первых прикосновений к чуждости Америки: здесь есть старые деньги в забытьи. Есть просто богатство, оно есть. И ты стоишь, в своем крестьянском рубище, человек напротив тебя может быть в точно таком же (по внешним признакам) наряде, а то и проще: сланцы, шорты, майка с дыркой и пятном, – но в рубище именно ты, потому что человек одевается в свой статус, не в шмотки, человек одевается в доставшуюся ему силу, а не в то, что застегивается или зашнуровывается. Уж если тело – истлевающая одежка, то что говорить о наших тряпках? – они только прикрывают самый явный срам и греют слабые кости. Женщина льнет к силе и спокойствию, а не к ткани. Мужчина расцветает, когда течение силы правильно установлено в нем и длится без сбоя.
Ладно, списки будут на втором этаже, а здесь задержимся.
Коронадо – это продолговатый с юга на север остров, загнутый, как жирный знак вопроса, с городом его соединяют всего две сухопутных ниточки: огромный мост, мечта самоубийцы, выгибающийся синей дугой над заливом. Дорога от моста делит рабочих по признаку: верфь или служба в конторе, а также насыпная дорога по малолюдной песчаной косе. Еще есть нитки паромных переправ и неисчерпаемая возможность пересечь залив вплавь (на самом деле нет) и на лодке. Слева от синего моста, если возвращаться в город, пузырится так называемый «американский даунтаун».
«Даунтаун» – звучит отвратительно, но неизбежно. Ты там окажешься, ты спустишься туда, этого не избежать. Пытаясь написать дюжину книг или рассказов об Америке, не нашел способа избежать встречи с этим словом, если только не писать про исключительно глубокую глубинку, природу (ее описания, говорят, всем опостылели, и зумеры такое уже пролистывают за неимением смысла) или не помещать текст в обстоятельства полнейшей фантастической альтернативы. Наш пузырится слева, когда мы пересекаем пролив по Коронадо-мосту, а справа входит в изумрудные волны верфь. Мост, кажется мне, слегка наклонен и наклоняется год за годом все сильнее, и в какой-то момент из левого окна начинаешь видеть одно только небо, а правое наклоняется к воде, и кажется, мы вывалимся вот-вот, разобьемся насмерть об эту беспечную воду, ничем ее невозможно одолеть, хотя она и самое податливое, что бывает, трупы станут бултыхаться между величественными фрегатами, сухогрузами и какой-то морской мелочью, напичканной оружием и радарами. На верфи стоят десятки судов, периодически одно уходит в рейд, и на его место моментально встает другое. Сутками идет ремонт, эти корабли величественны и бессмысленны, не считая их потенциала к убийству. Никто не хочет сражаться, тем более с помощью кораблей, тем более с помощью надводных судов. Говорят, подводники не понимают, зачем нужны надводные корабли, если они все могут быть вслепую уничтожены минут за тридцать в начале боя, но для чего-то это нужно. Никто не хочет войны, хотя город безмятежного непрерывного лета изрыт военными тоннелями, переполнен служивыми людьми и день за днем над ним барражируют вертолеты, странные гибридные машины из «Звездных войн», истребители режут сверхзвуковым клинком. Чем дальше от войны, тем война становится комичнее. Внутренняя война так и длится, но война обычная?.. Смешно и нелепо. Но военные тут не шутят: огромная машина оборудована и работает без перерывов, подобная гигантской сердечной помпе, прокачивающей деньги.
А даунтаун – чертово, тупое, акающее слово – вырос изрядно. Когда я сошел с поезда (заправский эмигрант), снял колоссальный чемодан-гроб на двадцать пять килограмм жизни с погрузочного механизма, – даунтаун Сан-Диего был еще подростком. Что-то торчало, но в старых, восьмидесятых годов постройки высотках было что-то наивное и невинное. Попытка быть великим городом, но, по правде, даже не подделка под него. Слишком местечково, провинциально – это и была дальняя провинция, поезд еле плелся последние километры пути, через туманную влажную ночь. Ведь был октябрь, когда поезд доставил меня.
Даже в том, что торчащая посреди даунтауна башня без окон – это одна из десятков наших тюрем, – есть что-то невинное. Как будто люди тогда верили в вину, и наказание, и исправление, тогда, в эпоху модерна, без приставок «пост-»; преступники и надзиратели хоть и менялись местами, не были еще безоговорочным единым целым. А сейчас все слиплось, и после долларового дождя выросло три десятка устойчивых к землетрясениям башен. Говорят, строили по японским технологиям, потому что плита Сан-Андреас под Калифорнией рано или поздно действительно разломится и значительная часть старой земли старого штата провалится в воду. Вспузырится новыми горами спящая долина. Сан-Диего с этой точки зрения – еще в условно выгодной зоне: говорят, он сделается островом, так что многие из нас выживут. Пусть в моем сказочном непреходящем лете ты представишь, что селятся здесь только отлетевшие: самая крайняя граница духовного и научного поиска: генетика, охота за бессмертием и браманическим раем, деревушка потерявших амбиции серферов – людей, познавших, что сколько ни обуздывай волну, она приходит тут же снова, та же, но другая, и у тебя никогда не хватит сил обуздать.
Однако все эти признаки мерцающей невинности, рая – в прошлом, проморгал я первые свои два года, а с две тысячи семнадцатого великое богатство (великое Возмездие, кажущееся в первом приближении «удачей») вошло в город. Он стал последним желанным мегаполисом перенаселенной, перетрудившейся Калифорнии. И пока я тут, на фоне устаревших башен восьмидесятых растопырились свечки кислотно-желтых японских небоскребов, все еще им до неба как до эпохи Предчувствия – дистанция понятна, но не пройдена, – с них вспыхивают шикарные городские закаты, с них сыплются шикарные наркоманки в золотых платьях. Они полнят сказку собой. Прозрачные неугасающие экраны 24/7 транслируют слова, лица, виды.
Когда-нибудь все даунтауны и сумасшедшие кварталы многоэтажек должны быть сочтены за безумие и диктат силы, и медленно их рассеет ненужность в дым. Прорастут сквозь асфальт деревья и кустарники, все позеленеет и будет оплетено птичьим щебетом, увенчано цветением. Когда-нибудь все, надеюсь, кроме сигнальных московских башен и редкого американского ар-деко, предадут забвению.
Неофит крестьянства, скучного провинциального края западной цивилизации, убедил себя, что лучше жить в приземистой хижине. Теперь, когда позади московская двадцатиэтажная панельная башня, я прихожу на пирс, чтоб говорить среди рыбаков, которые не слушают. Брожу одним из безумцев, которым принадлежит дно человейников, и кричу на рваном английском: «Hear me and behold! I proclaim this to be the ugliest of the cities! I hate to be down here. I am mad of being down here. I am a madman, give me some food, lady, please!.. Share some change, sir?.. Sir?.. Some change?.. Sir? Somechange? Smchange, sir?.. Smchangesir?..» Городское сердце принадлежит бездомным, потому что это public земля и результат публичной неустроенности, будто мутные социальные c(т)оки стремятся к подножию самой дорогой, переоцененной недвижимости, где им не могут отказать в праве быть. И это public burden содержать их в себе.
Да они и не завоевывают уже право, это ползучая черная война. Она проиграна населением квартир – в ней сразу выиграла бездомица.
Это грязная была война, короткая многодневная схватка-сходка, а бездомица – теперь долговечная грязь под ногтями общества. Хочется вычистить, а приходится не замечать. В бездомных я вижу наибольшее число своих братьев. Знаешь, был целый отрезок жизни, когда они мерещились мне постоянно. Ну, я ездил тогда в блядский даунтаун регулярно, у меня там друг-тибетец… Но списки-структуры пойдут позже, сейчас не о нем речь. Даунтаун всегда раскрывал передо мной объятия и подмигивал: вот тут бы был неплохой для тебя пятачок, займи его палаточкой до наступления темноты: здесь и достаточно тихо-безлюдно, и есть укрытие от дождя, и, кажется, неподалеку станция, с которой ты мог бы отправиться в странствие, если завтра внезапно – день откровения и проповеди. А если спуститься в общественный парк или пойти вдоль малопопулярной реки… – там целые города-туалеты;
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































