Текст книги "Музей «Калифорния»"
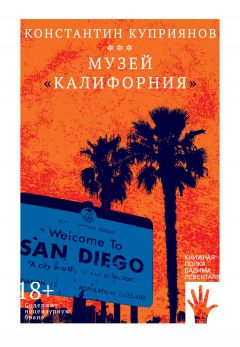
Автор книги: Константин Куприянов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Я повстречал ее: она села бесстрашно в мою прокуренную старенькую машинку – старый владелец прокурил ее и просмолил своей энергией. Каким он был?.. Это все равно что знать, кто жил прежде в твоем доме, кто и о чем плакал в нем, с кем спал и о ком думал, засыпая. До Даши я всегда засыпал с одним именем на губах, а тут увидел ее: острые скулы, острый нос, большие удивленные зеленые глаза, и доброта, плавность, плеск веселья. Я растерялся. Что, интересно, увидела она? Старающегося не показать, как ему жутко, паренька с кудряшками?.. Прячущегося за напускной уверенностью, улыбающегося, но на исходе дня – несчастного?.. Я люблю, когда авторы точно знают, что и как испытывали молодые люди, впервые встретив друг друга, впервые уронив себя в омут страсти, впервые испытав острую несправедливость и боль разделенности… А чем был я?.. Она наверняка тоже задала этот американский первый вопрос, который протыкал меня, как бабочку: «Кто ты?»
А потом еще: «Чем занимаешься?» Повезло. Тогда я уже сел в какой-то запыленный офис, в какое-то продавленное кресло, видевшее, видимо, больше задниц, чем эта машина, в которой происходило дело. Она что, не чувствовала, насколько в ней воняет куревом? Отчего так спокойно и весело говорила? «А мне говорили, – скажет, – тут самые лучше бургеры в In’n’out», – попросит накормить ее самой дешевой поганой едой, и мы едем. Я на первом свидании угостил девушку бургерами, с жирной подливой жира и жареного лука. «Иннаут» – это штука с западного побережья – в ней есть обычное меню и меню для патронов. Мы всегда заказываем из второго, мы же не тупые приезжие гуки. До того, как я перестану есть мясо по хорошим объяснимым причинам, протянется четыре года, все раны, воспоминания заветрятся, сравняется с землей и уголок, где мы ели, поглядывая друг на друга через ночь с непосредственным детским любопытством, исчезнет в горе строительного мусора скамейка, сидя на которой я прикоснулся к ее руке, и она не оттолкнула меня.
С ложью одна проблема – она забывается, а если врешь в книге и пишешь не сердцем или если сердце твое занято, пока пишешь книгу, – напишешь вранье, исчезающее быстрее самой бумаги, где это по ошибке напечатано. Сохраниться нет никакой надежды, но продлить себя чуть дольше можно лишь верой в собственную правду. И чтобы говорить правду, надо постоянно оглядываться в основу и начало, где просто не могло остаться обмана, ведь все в начале было правдой и невинностью. Мог же сказать Дашечке, что я на практике в полицейском участке, мог сказать, что я – юрист и пока тут «осматриваюсь»; единственное, чего я еще точно не мог позволить себе, так это сказать: я – автор текста или тем более – писатель. Она пришла, когда я только закончил повесть, в которую наконец-то, как в патрон, вложил всю правду жадного на солнце декабря: тоску по России и весь смрадный ужас предыдущих пяти лет, мне между две тысячи одиннадцатым и две тысячи шестнадцатым стало все ясно.
Знаешь, бывает, проснешься, а твоя страна – это ад, и ты в аду. Это легкое объяснение, сейчас-то я пришел к тому, что ад всюду – достаточно слово «ад» написать. Я и со своей головой могу так сделать: сказать ей, что здесь ад – ничего этого нет вне сознания. Пустота для потенциала вещества – это самое главное. Например, гончар думает, что материал для горшка, идеальность формы, соразмерность пропорций – ключевое, но мы-то теперь понимаем, в час перед эрой Предчувствия: пустота главней всего. Это ее окружат, и вберут, и вместят в себя стенки горшка, но стенкам разбиться, истлеть и исчезнуть, а пустота захочет новой формы и вдохновит следующего гончара, когда уж и памяти не станет о слове «гончар». Без пустоты горшок нахер никому не нужен.
И также никому нахер не нужен мой скучноватый вторичный сюжетец о высланных на севера зумерах, где постепенно им сворачивают шейки и где они превращаются в тех, кто гнал их на север, где постепенно срастаются с вечным императором, имя которого от случая к случаю может меняться, но суть одна – что ей-богу похуй, как его там зовут. Главное, пустота внутри моего северного ходока. Главное – оглушающая боль отсутствия. Меня больше нет, я умер, и при этом я должен как-то вставать и включать свет и идти с открытыми глазами на улицу, видеть облака, соучаствовать в том, что остальные видят: новый день и непременное движение. Смерть эту нельзя воспринимать слишком всерьез, слышишь? Смейся и играй. Движение, как и пустота, – это единственное, что точно произойдет, а формы горшка и формы форм пусть сменятся, а только неуловимое, неназванное вещество, которое в них, останется неуловленное, непознанное, и, значит, оно бессмертное, моя смерть не в силах с ним встретиться. Так, может, поэтому и говорят, что смерти нет?.. Есть исчезновение иллюзии, а смерти…
И я написал. Там, в Америке, я стал автором, действительно стал. Только еще не понял, не ощутил на языке это сладкое слово. Меня еще не рвало от парадокса, что главное, о чем можно сказать, всегда останется не названным, мои слова только очерчивают вокруг него формы-вместилища, тогда как то самое, ради чего все создается, не может быть поймано и уловлено… И максимум – на эту удочку можно ловить возвышенных девочек двухтысячного года рождения (в две тысячи шестнадцатом году – еще скучноватые, по-детски нелепые шестнадцатилетние, а сегодня уж самые лучшие взяты замуж или отданы в монастырь своему будущему), а я ловил женщину постарше себя. Даша была постарше, недели три не признавалась, я целовал ее, наугад, думал: хорошо я делаю или плохо? Смеялась – говорила только, что весьма нежно. Ну, значит, сойдет, для чего еще поцелуй? Нежностью следует гордиться, ей должна быть посвящена отдельная религия, когда-нибудь, когда будет больше жизненного пространства и меньше заботы о выживании; мы станем нежнее, мы построим алтарь богу нежности: пустую скамью, где любовники должны предаваться чувственному ласканию; нежность там будет священна, ею надо окружать то несказанное, что люди не могут поместить в форму, в структуру, в секс, требующий всегда насилия. Так и в доме – ценное только то, в чем существует человек, хотя человеку кажется, что ценное – это стены, предметы, картины и скульптуры или хотя бы жители. Нет. В пустой комнате я тщетно вспоминаю Дашечку и наши три попытки быть вместе.
Трижды пытались. Она давно не здесь, давно ее вернула себе черноземная Европа, но, благодаря попыткам и искренней любви, так и осталась жительницей Сан-Диего, нимфой Оушен-Бич, героиней моей невинной не-зимы две тысячи шестнадцатого, где я остался мальчиком с ней, а она призналась мне. Увы, но настоящая попытка любить бывает у людей одна, дальнейшее – умственные подделки, желание выдать невозможное за все еще допустимое…
Заблуждения всегда будут сменяться, да и дома не вечны, сами города, где были мы счастливы, нежны, влюблены, когда-нибудь уйдут под землю; мы заблуждаемся, что будет новая попытка, археологи будущего назовут их диковинными, когда за нами вослед спустя десятки тысяч лет прорастет уж два-три слоя реальности. Кстати, тут, в Сан-Диего и в Оушен-Бич, все очень любят сходить с ума по экологии. Думают, это поможет удержаться на плаву, не уйти так рано в небытие… Меня даже не запихнули чуть было в самом-самом начале в департамент по защите окружающей среды, но вовремя очухались: вся эта свистопляска насчет человека, уничтожающего природу… Понимаешь, если он что и может уничтожить – то это самого себя. И то займет целый lifetime – весь этот кусочек от общего пирога, который тебе отрезали вначале, его на саморазрушение и трать. Зачерпнешь сколько-то материи и потратишь ее всю на обуздание пустоты и пространства. Окружающая среда будет в порядке, заверил я полицейский участок, дайте мне лучше разобраться со смертью. Смерть – это очень противоестественно, а еще это самый важный образчик формы, на втором месте после рождения. Пустите меня к ее подножию. Так я оказался в своей позиции. А природа (махнул рукой) как-нибудь разберется.
Природа невинна, в ней забываются вчерашние темные мгновения, вчерашняя ночь страсти. Да, боль зверя такая же настоящая, как и моя, но нет по ней рефлексии. Кстати, у меня был однажды ученик, я так ему и сказал: «Есть всего одна „настоящая“ вещь – это боль», – и потом я ударил его.
Ударю, доведется, и свою Дашечку (не буквально ударит – примеч. соавтора-Д – для современников‐повесточников). Всегда встречается кто-то слабее тебя, и вы временно, очень ненадолго распределяете роли: учитель, ученик, любовник, проситель, жена, муж… Потом десять раз меняетесь местами и, когда все уроки выучены, расходитесь, как потухшие искры над огнем. Учитель не приходит раньше, чем готов ученик. Даша работала уборщицей на острове Коронадо, в доме, который стоит больше, чем все наши продовольственные пайки предков, вместе взятые. Помню вечер, когда я забрал ее с другой работы (как белка в колесе, крутилась между кучей работ и без устали, без ропота, скорее в шутку, приговаривала: «Зачем я все это делаю?..»), мы поехали на остров. Через синий мост, потом дорогой направо, в пустынный парк, оставили там машину и, взявшись за руки, забрались на задний двор дорогущего дома, внутри она смахивала пыль с никем не используемых часов, клавесинов, кресел, ковров, котов (из черного дуба) и так далее. Трудилась под строгим надзором глазниц видеокамер, выводивших изображение за тысячи миль отсюда, в бункеры и другие гостевые дома, где семейство старых денег коротало срок, а во дворе камеры давно ослепли: садовнику пожадничали заплатить, и листы магнолии закрыли глазки, и мы могли предаться страсти в тайне, ночью, невидимые, неслышимые. Там люди жили раз в году – один месяц между февралем и мартом, в сумме у них было двадцать четыре дома по всей Америке, треть из них здесь, в Калифорнии: в мегаполисах, в горах, в пустынях, на побережьях… и, говорят, тридцать или сорок домов в других странах мира, они даже по неделе в году не могли жить на одном месте – метались, как сумасшедшие, только бы заглотить побольше вещества перемен.
А у нас с Дашей на двоих не было и одного дома – я жил на диване, угол мне принадлежал в стремном районе, зип-код (индекс) 92102, там тогда еще оставалось неблагополучие, не добралась лапа левацкой (благословенной) джентрификации; а Даша жила в трейлере, в трейлерном парке, у друга по секте, который страшно гордился, что ему принадлежит клочок грязной земли, воняющей бензином, и полтора раскоряченных трейлера, которые никогда уж не уедут из этой ямы – в них он вселяет трех-четырех работяг за сезон и тем кормится год от года, пребывая в праздном меланхолическом созерцании веры. У нас не было дома – нашим домом была странная влюбленность, которой я так и не доверился. И я ударил ее: «Понимаешь, с тех пор, как Женя предала меня, никому я больше не могу доверять». Понимаешь, любовь же не к человеку, любовь – это просто огромное сердце, которое заманивает тебя в лоно, и ты узнаешь эту душу и понимаешь, что точно есть душа. Все остальное – это как моя похоть к Ведьме: ярко, взрывоопасно, но пустотело и на исходе дня остаются только проклятия. Их нельзя не произнести, подобие исповеди, чтобы вычиститься и заявить, что я невинен, и ждать следующую Ведьму, и заново превращать, и заново превращаться. А в общем сердце, как в общем доме, не остается проклятий.
Поцелуй похож на отдельный вид разговора, на самостоятельный язык, мы так и называли это – «наш язык» – и учились понимать, ласковыми, нащупывающими прикосновениями, мне хотелось ей объяснить:
«Видишь ли, это первый мир, требуются огромные жертвы, и я на них пошел. Я думал, нельзя мне больше сидеть во втором мире. Россия – это вчера, в рамках превращения цивилизаций – отнюдь немало, но в рамках скоротечного меня, умеющего только языком плести узоры, – недостаточно и поздно, поэтому надо сбежать оттуда. Еще немного они похорохорятся, но история всех расписала, а другую мне жизнь не скоро доведется примерить, да и легче не будет. И я все бросил, включая родной свой язык, и поехал. Я очень мечтал о первом мире. В любом крупном городе есть в него лазейки: Интернет, финансы, язык, литература. Но все-таки то, где ты засыпаешь, гуляешь, влюбляешься – имеет огромную значимость, это и есть твой мир».
Убедительно… Но Даша не осталась. Надо было просить остаться для себя, а я по дурости плел ей: «Останься ради жизни в первом мире, а мне не доверяй, как я не доверяю никому». Я тогда еще не понял, что любимые так и станут уезжать отсюда постоянно. Я тогда еще был вшит в московское постоянство. Все-таки Москва – это предел русского мира, мозг и сердце, и отсюда крайне редко уезжают, это великий имперский город. Без шуток и пафоса, это так. Сюда сходятся колониальными придатками неизмеримые версты русских земель, но вся эта земля в целом никакое не государство, это метрополия Москвы-Петербурга, двух имперских городов, с окружающей их сочной зеленоокой пустотой, обязанной сделаться пустой, чтоб напитать последние города. А Сан-Диего, Калифорния – это ветер, человеческая фантазия, предельный край мечты Запада о бессмертии, вне своих лабораторий и секретных бункеров – один из множества полупровинциальных городков, с налетом пижонства, культом серфборда и косяка, научного таинства в спокойном сердечке, но можно прожить там и не прикоснуться к великим тайнам ни разу, не узнать, что ты у порога вечной жизни, разыскиваемой хозяевами мира, можно прожить в своем саду, на грядках, и на волнах прокачаться. Никаких проблем.
Но мечтают люди недолго: час-два в день максимум, остальное – работа, способность твердо стоять на ногах; а Южная Калифорния не про это, тут тяжело дается труд, тут тяжело метаться и работать на трех работах, смахивать пыль с предметов, стоящих дороже, чем все твое состояние и состояние твоего рода за последние пять – пятнадцать поколений. Тяжело… И тут, я писал уже вроде, не даешь корней – здешние корни обречены расти десятилетиями и пасть жертвой очередной восьмилетней засухи, не дотерпеть… А Даша была любовью, ей незачем было жить там, где тяжело.
Я понимаю, да и я ничем не позвал ее. Не сказал: «Пойдем со мной, пойдем в эту историю, ведь погляди на эти бесконечные цветы и цветения: цветет в саду этого дома, который мы теперь грабим своей любовью, розовый куст, и розовое цветение оплетает нас и остается на кончике языка». Я поцеловал ее в нижний край нижней губы, мол: «Позволь?» Даша была любовью, она склонила ко мне голову, у нее были широкие плечи и радостные большие глаза. Она была любовью.
Странно оказываться в тех местах, где нет ничего от этой любви: вот этот дом, в котором она работала, вполне неплохо сохранился (и переживет меня), и все, что мы умудрились из него украсть для своей любви – запахи, силуэты цветов и флигель ночной пустынный, куда забрались без стука и приглашения, чтобы предаться любви, – на месте. Пугающим кажется впечатление, что это материальное, твердое, дорогое – переживет нас, такую мелочь, как подростковая человеческая любовь. А на самом деле даже этот роскошный особняк беспомощен и слаб! В нем нет пространства, нужного людям, а в любви – все про пространство для людей, – любовь возможна только потому, что есть зазоры между людьми, это такая насмешка конструктора: погрузить куколок в жидкость, где разрежено чувство, чтобы им искать приходилось и хлопотать о поиске, и за азартом поиска медленно дряхлеть и становиться вот этим – цветами да черным дубом, из которого опытный резчик на исходе дня вырежет черного кота.
Строго говоря, давно идет следующий день. Тут я стал страшным соней и жаворонком. Думал, эти виды привычек не меняются, но Сан-Диего – город стариков: тут рано ложатся и поздно встают. Маленькая узкая полоска отдана молодым, которые живут на противоходе, и на своей особой волне обитают наркоманы и люди потерянных профессий – например, поэты. Тут они тоже есть, но сменяются быстро, посезонно. Полосы их обитания узки: тот же Оушен-Бич, да и то лишь самый босяцкий его хвост прибрежный – дома же на террасах холмов принадлежат старым деньгам, старым адмиральским, капитанским, офицерским семьям, старым индусам и туркам, португальцам и англичанам, американцам-торгашам и убийцам – всем, кто при деньгах решил перебраться сюда для затяжного сна посреди нескончаемого лета, на последнем побережье наконечника западной империи.
Зимой город спит особенно долго. Утро – самое ценное его время. После утра я особо не существую. Днем наступает солнечное забвение, приходится Дамиана спрашивать: «Чего делаем, куда идем?..» Мы едем кого-то опрашивать, допрашивать, прислуживать бумажкам. Думал, моя некомпетентность и медлительность будут заметны, но по местным меркам я оказался профессионалом высшего класса. Только не пей, не кури, не коли больше, чем можешь переработать – и ты уже специалист. Америку разъедают наркотики: кофе, алкоголь, мет, героин, кокаин, травка, работа, отчужденность, индивидуализм, эгоизм, отсутствие друзей, натренированное с детства умение выставлять себя как лучшее, чему доводилось появиться на земле. Болезненное откровение, что ты слаб и беспомощен, что ты болен и подвержен закону Возмездия, что ты крайне слабо предчувствуешь и любишь, что бывают спады и они неизбежны, и они длинны и мрачны… – настигает немногих и запоздало, и то, с чем русские растут и борются с детства, порой приходит в американца на сороковом-пятидесятом году жизни. Слишком легкая жизнь, слишком легко насажденная уверенность в своем индивидуальном превосходстве.
Впрочем, вряд ли я когда-то узнаю, оттого это, что я с другой планеты или просто они и впрямь не умеют. В моей версии эмиграции – не умеют. Другие рассказывают, что умеют. Ладно, бывают всегда разные люди и исключения, но в мою вторую осень все немногочисленные друзья внезапно, one by one, испарились. Кого-то увела ностальгия по родине, кого-то сманила жадность, я вдруг остался накануне самого темного месяца, декабря, совсем один. В разгар ноября ты не хочешь быть в Америке один. Ноябрь-декабрь – это месяцы семьи или, на худой конец, дружбы. Ты хочешь иметь кого-нибудь рядом, кому-нибудь хочешь принадлежать, к какой-нибудь касте, группе, секте.
Моя личная версия эмиграции в две тысячи шестнадцатом – семнадцатом, год-два спустя после переезда, – это гниение и оставленность. Я даже не оценил, что ровно в день годовщины переезда мне со строгой радостью написали о рукописи: «Принято к публикации в старейшем русском журнале, в столичном имперском городе, который ты покинул легкомысленно и бессмысленно». Ровно год спустя после того, как сел в самолет и умчался от престола непоколебимой империи, протекающей из Древнего Рима, через древний Византий. Но меня уже не беспокоило год спустя достижение в дальней отвыкающей от меня земле. Беспокоило, что новые свои слова – Thanksgiving и Christmas – встречу один, что люди оставляют меня, что все, созданное мной за четверть века, испарилось, и, кажется, дошел скудным своим умишком – никогда-то оно мне, это «все», и не принадлежало…
Это первое условие взросления за границей: вокруг тебя гниет жизнь, нет никакой коннотации в слове «гнить». Гнить – нормально. Мы существуем за счет того, что что-то переваривается и затем гниет в наших тканях, мы высасываем полезные вещества из другой энергии и пускаем себе на пользу. От течения энергий не укрыться, и оно никогда не прервется. Летом две тысячи шестнадцатого я попробовал встать на доску, и океан рассказал, что единственная постоянная в нем величина – это дыхание; вдох-выдох, волна за волной, океан вздымается и опускается. Я говорил, что книгу полностью можно заменить записью дыхания океана, даже Библию? Что случается с человеком, который читает нон-стоп, 24/7? Twenty four/seven? – думаю, сходит с ума, ровно так же, как если усадить меня перед океаном на долгие недели и погрузить в созерцание. Я потеряю ум. Ум вытечет целиком, вольется в биение волн, поймает ритм, никогда не меняющийся поспешно, но всегда меняющийся, и вернется в меня уже шепотом, плеском, накатом и откатом волны.
Терять ум – это не сцепляться с прожитым и грядущим. Обитать в пределах секунды, в чистом восторге. Животное живет без ума, и ему вполне нормально. Ум – это цепляние за кучу крючков, которые он постоянно производит и потом сам в них зацепляется. Ум – это фабрика по переработке знаний. Словом, ничего возвышенного, одна механическая суета да гниль на исходе жизни. Летом две тысячи шестнадцатого я падал с доски каждые выходные, а к декабрю впервые стоял уверенно, но вокруг никого не осталось. Маленький кружок, сколоченный за первый год переезда в вечное лето, развалился, мне пора было познакомиться с настоящей, подлинной глубиной одиночества. Я помню, что меня поразило тогда: ты весь состоишь из социальных связей. Даже связь с Богом, в которую многие уходят на этапе вынужденного или естественного одиночества, – это социальная связь. Ты вынырнул из огромного моря единства, где все было слито, все было бульоном радости и любви, а на этой планете оставляют тебя наедине с телом, со смыслом, с умом – короче, с целым набором инструментов, каждый из которых напоминает лишь о том, что ты один и ты отделен.
Я не хочу, не желаю никакой личности – помню, взорвался у меня на глазах горизонт, и вода стала кровью. Никогда я не видел заката красивее, чем в декабре две тысячи шестнадцатого на берегу Оушен-Бич, и никогда не хотел умереть сильнее. Работа отвлекала, работа поглощала, я написал к тому времени три повести, и, хотя одну вот-вот обещали напечатать, это все происходило словно не со мной и не казалось чем-то, что я смогу натянуть на себя, как новую кожу. Я привык быть хорошим другом, подчиненным, сыном, родственником, любовником – чтобы принять теперь роль тухлого одиночки, который будет гонять весь этот заряд наедине с собой, и увидел, что ушел куда-то совершенно не туда.
Возникает ли еще такое ощущение неверно выбранной дороги на очередной развилке в краю предчувствующих?.. Мне интересно было бы узнать у будущего поколения, которое начнет распознавать жизнь как куда более понятные и очевидные течения времени и энергии: то, что мы называем (не)удачей – на самом деле лишь узкое горлышко, через которое ты точно, волей-неволей, должен пройти? Узкие горлышки расставлены на твоем пути, как намеки Бога на собственное существование, и ты проходишь их, овеянный славой или позором, вдохновленный любовью или видом смерти – не суть, что ты будешь испытывать, ведь ты так или иначе обречен испытывать, – главное, что эти горлышки расставлены и ты пройдешь через них.
Так переезд – мое горлышко, которое надо было преодолеть? Я все еще гадаю. Мне мерещится за гаданием причина, пресловутый ответ на немое от страха «зачем?», когда речь идет о присоединении в двадцать восемь к «клубу двадцати семи». Действительно, той зимой я впервые начал думать о суициде не как о вещи невозможной и почувствовал себя старым и взрослым – именно в такой последовательности. Я почувствовал, что за текстами, которые писал все эти годы, прятал стремление написать идеальную сказку, за которой можно спрятать свое настоящее чувство растерянности, хаоса и ужаса перед одиночеством, и несправедливостью, и отделенностью. Вот такое тупое и простое прозрение, но писать о нем уже не было сил. Все вымышленные сюжеты стали бессмысленными и зачастую, доползая до двух пятых истории
[любой, кто профессионально пытался заниматься прозой, знает, что примерно в этой части лежит самое сильное разочарование и «темный час» истории – обычно здесь развилка, где узнаешь, что первоначальная вседозволенность сужена до последствий нескольких выборов, которые ты сделал в начале: герой уже не может просто так – хлоп – и оказаться на Марсе, не может умереть, не может убить, – много клубков драматургии уже заплетено и завязано, – и история катится дальше по пути разматывания их драм, но история уже так или иначе предопределена – это и называют «кризисом середины романа»], я думал: «Что толку, зачем?..» В «зачем?» лежит темная сторона времени, «зачем?» – это вопрос, встающий в четыре-пять южной темной ночи, когда восход все еще не близко, а вчерашний день далеко и луна давно закатилась либо ей ты наскучил. Ее любовный морок не действует, и ты просто в сырой негостеприимной тьме, и нет этому достойных причин, нет надежд найти их в том, что приходит, нет ничего, кроме неловкости, необустроенности.
Я понимаю, что ни на какую историю уже не могу запрыгнуть без изрядного скепсиса, не могу вскочить в нее, не сознавая, что слова только окружат подлинное чувство, которое высказать словами невозможно, что за пределом любой истории разлита подлинная жизнь, в которой самое главное – способность постоянно длиться, заходить плитой на плиту, погружать свое прошлое в недра, откуда, словно ископаемое, ты для будущего извлекаешь опыт и всегда ощущаешь вчерашнего себя недостаточно снаряженным. Книга не дает ни ответа, ни освобождения, ни возможности перемещений в пространстве, слова не дают забытья, и никакие вещества тем более. Той зимой и следующей весной я безропотно сдался новому escap’y – стал постоянно курить. Без курева теперь не начинался и не кончался день. Утром он должен был начаться с того, чтобы проклясть себя за вчерашнее, а вечером упрямое желание удушья возвращалось и вело по известному маршруту: шишечка травки, ножницы или триммер, трубка, или косяк, или длинная водная трубка, затяг – …
Этот кайф, тупой, но добрый. Если не борщить, он не требует от тела напряга и не оставляет похмелья. У тебя в бронхах, легких, впрочем, скапливается слой гари – вещь не самая приятная, годы спустя она напоминает о себе, но конкретно там, в кайфе… Марихуанный кайф делает тебя тупым и мягким.
Поначалу он также способен впечатлить. Где-то первые полгода – изысканное наслаждение, с которым по-новому звучат книги, сияет кино, даже секс приобретает особые очертания. Это такое пробуждение синестезии, отдаленный намек на ее чудеса. И не надо мне рассказывать о том, что за год-два-три можно скурить себе память или интеллект – если знать меру, то с памятью ничего не приключится, разве что забудешь неважное. Но ты скуриваешь свою дорожку к обыкновенному счастью и теперь уже не уверен: бывало ли оно за пределами косяка? Это и есть тошнотворная сторона зависимости. Помню, Даша приехала вновь (наш с ней второй заход) и нашла меня уже таким. Она не поняла, что изменилось, но я не нашел никакой старой любви к ней, потому что любовь больше не была самым острым, желанным переживанием, под которое мог бы подстраиваться день. Все можно закурить и приглушить – тогда зачем ждать зыбкой, подверженной стольким испытаниям любви?..
Зато мне уже наплевать. Помню, в две тысячи семнадцатом все понемногу вставало на места. Я понемногу перешел на следующую ступеньку – личный постмодернизм. Все смыслы умерли, и тебе осталось лишь высмеивать оставшееся. Да что там, я полюбил это место. У нас же была экскурсия! Продолжим?..
Дальше, к северу от Оушен-Бич, лежит подростковый Пасифик-Бич – полностью новый район, насыпь, удлиняющая город в океан, с безнадежно отвратительными дорогами, шумный, тесный, тусовочный, и там после легалайза стало возможным накуриться всласть всегда. О, я еще и застал, зацепил, так сказать, по краешку, тот час, когда в Калифорнии не было легальным покупать и забивать… Месяц спустя стало это казаться невозможным и смешным: трава всегда была с нами, трава – это трава, растет прямо под ногами, мы должны доверять ей, иначе какой смысл?.. Какой смысл жить и не доверять веществу, которое прямо под ногами колосится и которое точно было и будет тут задолго до и долго после тебя?.. Бояться травы – это нонсенс, бояться своего тела, бояться своей обезумевшей головы…
Обкуренным, молодым и чуточку влюбленным – вот такое лето надо прожить в Южной Калифорнии. Лето две тысячи семнадцатого. Какое же это было потрясающее лето! Как будто дурной морок, плохая цветокоррекция – выветрилась сама проблематика суицида, одиночества и тому подобного. Я не знал лучшего наслаждения, чем после хорошенькой разминки, после океана, после душа припасть-таки к трубке, пока по тебе бродит сладкий летний сквознячок в прогретой, не остывающей за ночь квартире; все в ней сделано из говна и палок – этот дом может не выдержать дуновения штормового вихря, этот дом сложится, как картонка, стоит только волку броситься в погоню за Ниф-Нифом, но в его трещинах дремлют и ждут, пока я затянусь, жуки, и я держу в легких зеленовато-синий дымок, выпускаю его, прокашливаюсь как следует, и омут счастья роняет меня в свой центр, все наполняется сладкой влюбчивой истомой; и в кровати еще лежит Даша-лежебока, она старше меня на семь лет, невинность ее позади, как и моя, и мы взрослые, но снова юные (она выглядит на восемнадцать) любовники; я бужу ее любовью и думаю: а зачем вообще книги про все это? Зачем сочинять какой-то бред, типа драмы или комедии, наращивать высосанный из пальца конфликт? Лопнуть надо от истомы в женщине – это максимум, зачем ты просыпаешься, в отпуске, посреди калифорнийского лета, с непрерывно чирикающей стаей за окном, с апельсиновым соком из плодов апельсинового дерева, выросшего прямо в твоем дворе, и во дворе всегда будет зеленое и что-нибудь цветущее, и даже деньги тут почти не имеют веса, это действительно рай, ты просто не трезвей, не взрослей, не переставай быть тупым и легким, не возвращайся в русскую хтонь, не вспоминай, что ты русский, что двадцать семь лет жил в русском топленом болоте, что оно намазано на тебя, как свежий хумус на бутерброд…
Да, мысли и фантазии во время секса под травой – это что-то особенное, а потом этот приятный зеленоватый взрыв, легкий хлопочек счастья. Душа в душе, тело в теле – я понимаю, почему Бог придумал все эти пространства и препятствия для нас: хотел, чтобы мы повеселились и во вторую смену.
А Даша в сердце носила другого, она как-то там даже называла его и советовалась со мной. Это такой постмодернизм в отношениях: уехать на край света, обкуриться, трахаться с бывшим и совещаться с ним о своих чувствах к невинному «нынешнему», застывшему в болотах большой далекой России. «Не напоминай мне о России, я в отпуске», – просил я.
Наш домик в Пасифик-Бич стоил две тысячи в месяц (последний год перед взрывом цен в Южной Калифорнии – последний год невинности капитализма… последний ли?..): был тесным и душным, прокуренным и продуваемым ночью океанским бризом, но мы заперлись в нем от всех суицидов и прочей внешней вчерашней хуйни; и поднялись на облако, чтобы быть наивысшими людьми – зачем игры эти мрачные с несчастной влюбленностью, с неопределенностью: любит / не любит?.. Травка проста как палка: покури и будет хорошо, никакой двусмысленности, а кто говорит, что его «не берет», – просто не курил нужного и в нужном объеме, ну либо перекурил свое, тут уж извини, братец; в таком мозгу просто нечему стало соединяться с нехитрыми травяными мозгами. Easy as that.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































