Текст книги "Времетрясение. Фокус-покус"
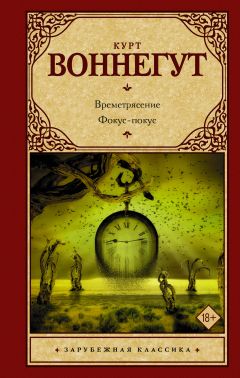
Автор книги: Курт Воннегут
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Эта девица была венгеркой. Как говорится в старинной пословице: «У кого есть в друзьях венгр, тому уже не нужны враги».
Потом Элли сфотографировалась рядом с могилой Диллинджера на Краун-Хилл, недалеко от кладбищенской ограды на Тридцать восьмой улице. Я сам иногда приходил туда стрелять ворон из полуавтоматической винтовки 22-го калибра, которую наш повернутый на огнестрельном оружии отец подарил мне на день рождения. В то время вороны считались врагами рода человеческого. Им только дай – поклюют весь урожай.
Один мой знакомый мальчишка подстрелил беркута. Вот это был размах крыльев!
Элли ненавидела охоту такой лютой ненавистью, что я бросил это занятие, и наш отец – тоже. Я уже где-то писал, что папа увлекся оружием и охотой, чтобы доказать всем и вся, что, несмотря на свою сопричастность изящным искусствам – он был архитектором, живописцем и гончаром, – он настоящий мужик, а не какой-то изнеженный, женоподобный хлюпик. Я сам не раз говорил на своих выступлениях: «Если вам хочется по-настоящему расстроить родителей, но у вас не хватает смелости заделаться гомосексуалистом, вы всегда можете стать человеком искусства».
Папа нашел другой способ продемонстрировать свою мужественность: стал ходить на рыбалку. Но потом Берни, мой старший брат, испортил ему и это удовольствие тоже. Он сказал папе, что с тем же успехом можно было бы заколачивать гвозди микроскопом или расплющивать молотком швейцарские часы.
На пикнике в 2001 году я рассказал Килгору Трауту, как мои брат с сестрой довели отца до того, что тому стало стыдно за свое увлечение охотой и рыбалкой. Траут в ответ процитировал Шекспира: «Во сколько раз острей зубов змеиных неблагодарность детища!»[4]4
Перевод Александра Дружинина.
[Закрыть]
Траут был самоучкой, он даже не окончил среднюю школу. Я слегка удивился, что он цитирует Шекспира, и спросил, много ли фраз из работ этого замечательного драматурга он знает вот так – наизусть. Траут ответил мне: «Да, уважаемый коллега, включая и фразу, которая дает нам настолько исчерпывающую характеристику человеческой жизни, что после нее можно было вообще ничего не писать».
Я спросил: «И что это за фраза, мистер Траут?»
И он ответил: «Весь мир – театр, а люди – лишь актеры».
11
Прошлой весной я написал письмо одному старому другу. Я попробовал ему объяснить, почему у меня больше не получается писать более или менее пристойные вещи, годные для публикации – хотя я честно пытаюсь, уже много лет. Этого друга зовут Эдвард Мьюир. Он мой ровесник, поэт и рекламный агент из Скарсдейла. В романе «Колыбель для кошки» я говорил, что если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека без особых на то причин, этот человек скорее всего член вашего караса, команды, которую создал Бог, чтобы люди, входящие в эту команду, выполняли Его божью волю, не ведая, что творят. Эд Мьюир, несомненно, член моего караса.
Судите сами: когда я учился в Чикагском университете после Второй мировой войны, Эд там тоже учился, хотя тогда мы не встретились. Когда я переехал в Скенектади, штат Нью-Йорк, и устроился на работу в рекламный отдел «General Electric», Эд тоже приехал в Скенектади – его пригласили на должность преподавателя в Колледж Союза. Когда я ушел из GE и перебрался в Кейп-Код, он появился в Кейп-Коде – приехал туда набирать людей для участия в программе «Великие книги». Там-то мы наконец и встретились, и уж не знаю, была ли на то Божья воля, но мы с Джейн, моей первой женой, возглавили проект «Великие книги».
Потом Эд уехал в Бостон и устроился в рекламное агентство. В то время я тоже работал в рекламном агентстве, причем не зная о том, чем занимается Эд. Когда он развелся со своей первой женой, у меня тоже как раз был развод. А теперь мы оба живем в Нью-Йорке. Но я сейчас говорил о другом: когда я написал Эду письмо, жалуясь на затяжной творческий кризис, он переделал его в стихотворение и отослал мне обратно.
В стихотворение не вошла фраза приветствия и первый абзац из письма, в котором я всячески расхваливал книгу «Читательский кризис» Дэвида Марксона, бывшего ученика Эда в Колледже Союза. Помнится, я еще высказался в том смысле, что Дэвиду не за что быть благодарным Судьбе: да, он написал отличную книгу, но в наше время хорошими книгами уже никого не сразишь. Что-то типа того. У меня не сохранилась копия моего письма в прозе. Но вот его стихотворный вариант:
Не за что быть благодарным Судьбе.
Когда мы уйдем, не останется уже никого,
Кто способен испытывать бурный восторг
От слов, расположенных на бумаге.
Никого, кто способен понять, как это классно.
Похоже, я болен. Моя болезнь
Чем-то сродни амбулаторной пневмонии.
Амбулаторный творческий запор —
Назовем ее так.
Каждый день я пытаюсь писать,
Но это напрасная трата чернил и бумаги.
Ничего стоящего не выходит.
Из «Бойни номер пять» сделали оперу —
Постарался какой-то молоденький немец.
В июне в Мюнхене будет премьера.
Я туда не поеду.
Мне неинтересно.
Мне нравится бритва Оккама,
Или закон экономии, согласно которому
Из всех объяснений какого-либо явления
Самым верным следует считать
Самое простое.
Дэвид мне подсказал объяснение.
И теперь я уверен, что творческий кризис —
Это то же бессилие, которое вдруг накрывает,
Когда понимаешь, что жизнь наших близких
На самом деле закончилась вовсе не так,
Как мы им желали – и так отчаянно болели за них…
Литература – это лишь вопли болельщиков на трибунах В поддержку проигрывающей команды.
Вот как-то так.
* * *
В общем, Эд переделал мое письмо, и это было действительно мило с его стороны. Кстати, вот вам еще одна замечательная история из жизни Эдварда Мьюира – из тех времен, когда он разъезжал по стране, набирая участников в проект «Великие книги». Эдард – малоизвестный поэт, время от времени его стихи публикуют в «The Atlantic Monthly» и в еще нескольких подобных журналах. Однако он почти полный тезка очень известного шотландского поэта Эдвина Мьюира, умершего в 1959 году. Люди, не особенно искушенные в литературе, иногда спрашивали у Эда: «Так вы тот самый поэт?» – имея в виду Эдвина.
Однажды какая-то женщина тоже спросила его: «Вы тот самый поэт?» – и ужасно расстроилась, когда Эд ответил, что нет. А расстроилась она потому, что ей очень нравилось стихотворение «Поэт укрывает спящего ребенка» – одно из самых ее любимых. А теперь внимание: это стихотворение написал американец Эд Мьюир.
12
Жалко, что это не я написал «Наш городок». Жалко, что это не я изобрел роликовые коньки.
Я спрашивал Э. Э. Хотчнера, друга и биографа ныне покойного Эрнеста Хемингуэя, было ли такое хоть раз, чтобы Хемингуэй стрелял в человека (самоубийство не в счет). Хотчнер сказал: «Нет».
Я спрашивал ныне покойного Генриха Белля, великого немецкого писателя-романиста, что ему больше всего не нравится в немцах. Он сказал: «Их послушание».
* * *
Я спрашивал одного из моих усыновленных племянников, как, с его точки зрения, я танцую. Он сказал: «В общем, сносно».
Когда я устроился в агентство промышленной рекламы в Бостоне – я в то время сидел без гроша и был согласен на любую работу, – тамошний бухгалтер спросил меня, что за странная фамилия Воннегут. Я ответил, что это немецкая фамилия. Он сказал: «Немцы убили шесть миллионов моих соплеменников».
Хотите знать, почему я в отличие от многих не болен СПИДом? Все очень просто. Я не сплю с кем попало.
Траут придумал историю, почему вирус СПИДа и новые штаммы сифилиса, триппера и прочих венерических «радостей» в последнее время как будто взбесились.
1 сентября 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны, представители всех химических элементов провели общее собрание на планете Тральфамадор. Они собрались, чтобы выразить свой протест против того, что некоторым из членов их дружного братства поневоле приходится составлять из себя тела этих больших, неопрятных, вонючих, донельзя тупых и жестоких живых организмов, именуемых человеческими существами.
Элементы, никогда не входившие в состав человеческих организмов – к примеру, полоний и иттербий, – все равно были до крайности возмущены, что кому бы то ни было из химических элементов приходится терпеть подобное издевательство.
Углерод, повидавший на своем веку немало зверских расправ и резни, каковыми отмечена вся человеческая история, обратил особое внимание собравшихся на одну-единственную публичную казнь. Казнили человека, обвиненного в предательстве. Дело было в Англии, в пятнадцатом веке. Этого человека повесили, но не дали задохнуться до смерти – привели в чувство и вспороли ему живот.
Палач вытащил наружу кишки казнимого и прижег их факелом в нескольких местах. Причем человек все чувствовал, поскольку ему хоть и вырвали кишки, но не отделили их от тела. Потом палач и его помощники привязали несчастного за руки и ноги к четырем лошадям.
Лошадей пустили вскачь, и они разорвали беднягу на четыре куска. Эти куски насадили на крюки для мяса и вывесили на всеобщее обозрение на рыночной площади.
По словам Траута, еще до начала собрания элементы договорились, что никто не будет рассказывать о тех ужасах, которые взрослые человеческие существа вытворяют с детьми. Некоторые делегаты пригрозили бойкотировать совещание, если им придется выслушивать подобную мерзость. Да и какой в этом смысл?
«То, что взрослые делают со взрослыми, уже само по себе служит достаточным основанием для того, чтобы полностью истребить род человеческий, – говорил Траут. – И ни к чему пересказывать все ad nauseam[5]5
До отвращения (лат.). Здесь – мерзости, отвратительные вещи.
[Закрыть], которые взрослые вытворяют с детьми. Зачем наводить на лилию белила[6]6
Аллюзия на фразу из исторической пьесы Шекспира «Король Иоанн». Выражение «наводить на лилию белила» вошло в английский язык как идиома, обозначающая склонность к пустым излишествам или стремление украсить что-то, что и так достаточно красиво. – Примеч. пер.
[Закрыть]?»
Азот, чуть не плача, говорил о том, как во время Второй мировой войны он стал невольным помощником нацистских охранников и медиков в лагерях смерти. Калий рассказывал страшные истории об Испанской инквизиции, кальций – о гладиаторских боях в Древнем Риме, кислород – об издевательствах над чернокожими рабами.
Натрий высказался в том смысле, что дальше можно не продолжать. Все и так ясно, как день. Он предложил всем элементам, задействованным в медицинских исследованиях, по мере возможности объединиться и создать еще более сильные антибиотики, что, в свою очередь, ускорит мутацию вирусов и появление новых штаммов, невосприимчивых к антибиотикам.
И уже в скором времени, предсказывал натрий, любая болезнь человека – даже легкое недомогание, даже прыщи и раздражение кожи в паху, – станет не только неизлечимой, но и смертельной. «Человечество вымрет, – заявил натрий в передаче Килгора Траута. – И все химические элементы снова будут чисты и безгрешны, как это было вначале, при рождении Вселенной».
Железо и магний одобрили предложение натрия. Фосфор поставил вопрос на голосование. Предложение было принято единогласно.
13
Килгор Траут находился буквально в двух шагах от Американской академии искусств и литературы – в тот вечер, в сочельник 2000 года, когда парализованный композитор Золтан Пеппер сказал жене, что сейчас мы работаем с мозгами, которые приходится брать пинцетом, и разразился гневной тирадой насчет всеобщего помешательства, выражающегося в стремлении заставлять людей соревноваться с машинами, которые заведомо их умнее. Но Траут не мог его слышать. Их разделяла толстая каменная стена.
Пеппер задал риторический вопрос: «А это вообще обязательно – унижать нас с такой изощренной изобретательностью? Да еще при таких затратах? Мы, собственно, и никогда не считали себя шибко умными».
Траут сидел на своей койке в приюте для бездомных. Возможно, самый плодовитый за всю историю литературы писатель, работавший в жанре рассказа, был задержан полицией при облаве в Нью-Йоркской публичной библиотеке на углу Пятой авеню и Сорок второй улицы. И самого Траута, и еще три десятка бездомных, живших в библиотеке – Траут называл их «священным скотом», – загнали в черный школьный автобус и сдали в приют, располагавшийся у черта на куличках, на 155-й улице в западном Манхэттене, в здании бывшего Музея американских индейцев.
Сам музей еще пять лет назад переехал в более безопасный район вместе со всеми детритами практически уничтоженных аборигенов и диорамами, изображавшими жизнь индейцев до того, как все встало раком.
11 ноября 2000 года Трауту исполнилось восемьдесят четыре. В День труда в 2001 году ему все еще будет восемьдесят четыре. Но к тому времени землетрясение подарит ему – и всем нам – неожиданный бонус, если можно его так назвать, в виде еще одного десятилетия, прибавленного к времени жизни.
Когда закончатся эти повторные десять лет, Траут напишет в своих мемуарах под названием «Мои десять лет на автопилоте», в книге, которая так и останется незавершенной: «Слушайте, что-то же тащит нас через эти колючки. Если не времетрясение, значит, что-то другое – не менее мощное и пакостное».
«Этот человек, – писал я во «Времетрясении-1», – был единственным ребенком в семье. Когда ему было двенадцать, его отец, университетский профессор в Нортгемптоне, штат Массачусетс, убил его мать».
Я писал, что с осени 1975 года Траут пустился бродяжничать и взял в привычку выбрасывать свои рассказы на помойку вместо того, чтобы предлагать их издательствам. Это случилось после того, как Траут узнал о смерти своего единственного сына Лиона, дезертира из Корпуса морской пехоты США. Я писал, что Лиону отрезало голову в результате несчастного случая на верфи в Швеции, где тот получил политическое убежище и работал сварщиком на судостроительном заводе.
Я писал, что Траут стал бомжом в пятьдесят девять лет, и с тех пор у него больше не было дома, и лишь незадолго до смерти ему дали номер люкс имени Эрнеста Хемингуэя в доме отдыха для престарелых писателей «Занаду».
Когда Траута привезли в бывший Музей американских индейцев – бывшее напоминание о самом длительном и широкомасштабном геноциде в истории, – «Сестрички Б-36», так сказать, жгли ему карман. Траут закончил рассказ еще в публичной библиотеке, но не успел от него избавиться – из-за полицейской облавы.
Так что он, не снимая матросской шинели, которой разжился на благотворительной раздаче излишков военного имущества, сказал клерку в приюте, что его зовут Винсент Ван Гог и что у него не осталось вообще никого из родных – и сразу же вышел обратно на улицу, где стоял настоящий дубак. Холодрыга была такая, что даже у бронзовых памятников отморозило яйца. Так что Траут не стал отходить далеко от приюта и выкинул рукопись в мусорный бак, прикованный цепью к пожарному гидранту перед зданием Американской академии искусств и литературы.
Когда он минут через десять вернулся в приют, клерк сказал: «Где же вы были, Винс? Мы скучали по вам», – и показал ему его койку. Койка стояла впритык к стене, примыкающей к смежному зданию академии.
На другой, академической стороне этой стены, над столом Моники Пеппер висела картина Джорджии О’Киф. Выбеленный коровий череп на некрашеном голом полу. На стороне Траута, прямо над его койкой, висел плакат, призывавший его не совать свой прибор для «динь-диня» куда бы то ни было, не надев предварительно презерватив.
Потом Траут и Моника познакомятся, но уже после времетрясения, уже после того, как закончатся повторные десять лет, и нас всех опять пришибет свободой воли. Кстати, письменный стол в кабинете у Моники когда-то принадлежал писателю-романисту Генри Джеймсу. А стул – композитору и дирижеру Леонарду Бернстайну.
Когда Траут потом узнал, что его койка и ее письменный стол стояли так близко друг к другу в течение пятидесяти одного дня, остававшихся до времетрясения, он высказался примерно в таком ключе: «Будь у меня базука, я бы пробил большую дыру в этой стене между нами. Если бы мы оба остались живы, я бы спросил у тебя, что такая хорошая девчонка делает в таком мрачном месте?»
14
Там, в приюте, бомж с соседней койки пожелал Трауту счастливого Рождества. Траут ответил: «Дзинь-дзинь!»
Да, ответ вроде бы подходил к празднику: «дзинь-дзинь», «дин-дон» – напоминает перезвон колокольчиков на санях Санта Клауса. Но это было случайное совпадение. На самом деле Траут отвечал «дзинь-дзинем» всякий раз, когда к нему обращались с пустым дежурным приветствием типа «Как жизнь?», «Как дела» и тому подобное, независимо от времени года.
В зависимости от сопутствующих обстоятельств, от выражения лица, от того, каким тоном были сказаны эти слова, ответ Траута и вправду мог означать: «И вам тоже счастливого Рождества!» Но мог означать и прямо противоположное, как гавайское слово aloha, которое значит и «привет», и «пока». Старый фантаст вкладывал в этот «дзинь-дзинь» самые разные смыслы: «Пожалуйста» или «Спасибо», «Да» или «Нет», «Я полностью с вами согласен» или «Будь у вас вместо мозгов динамит, его бы вряд ли хватило, чтобы сорвать шляпу у вас с головы».
В «Занаду», летом 2001 года, я спросил у Траута, что это за странное словечко, «дзинь-дзинь», прямо-таки аподжатура, или мелизм его речи, и откуда оно взялось. Его ответ, как потом оказалось, был не более чем отговоркой. «Я в войну так кричал, – сказал он. – Когда артиллерийский снаряд попадал точно в цель по моей наводке, я вопил: «Дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!»
А через час после нашего разговора, незадолго до начала пляжного пикника, Траут поманил меня пальцем, приглашая войти к нему в номер. Он закрыл за мной дверь и спросил: «Тебе действительно интересно, откуда взялось это самое «дзинь-дзинь»?»
Вообще-то мне вполне хватило и первого объяснения. Но Траут сам хотел рассказать больше. Мой невинный вопрос разбередил воспоминания о его страшном детстве в Нортгемптоне. И чтобы изгнать этих бесов, ему нужно было кому-то о них рассказать.
«Когда мне было двенадцать, – сказал Килгор Траут, – мой отец убил мою мать».
«Ее тело он спрятал в подвале, – продолжал Траут, – но я, конечно, об этом не знал. Я только видел, что мамы нет. Отец божился, что вообще ничего не знает. Не знает, куда она делась. Как часто делают женоубийцы, он сказал, что, наверное, мама уехала в гости к родственникам. Он убил ее утром, когда я ушел в школу».
«В тот вечер он сам приготовил ужин. Сказал, что если мать не объявится до завтрашнего утра, он заявит в полицию о ее исчезновении. Он сказал: «В последнее время она была сильно уставшей и жутко нервной. Ты не замечал?»
«Он был совершенно больным человеком, – продолжал Траут. – В смысле, психически ненормальным. Он пришел ко мне в комнату посреди ночи. Разбудил меня и объявил, что ему нужно сказать мне одну очень важную вещь. Это был всего-навсего пошлый анекдот, но в больной голове отца эта история сделалась притчей о жестоких ударах судьбы, которые сыплются на него градом. Это был анекдот про беглого преступника, который спрятался от полиции в доме одной своей знакомой».
«У нее в гостиной был высокий потолок с деревянными балками перекрытий». – Тут Траут помедлил. Мне показалось, что он полностью погрузился в рассказ, точно так же, как это было, наверное, с его отцом.
Там и тогда, в номере люкс, названном в честь самоубийцы Эрнеста Хемингуэя, Траут продолжил: «Эта женщина, знакомая того человека, была вдовой. Он разделся догола, а она пошла подобрать ему что-нибудь из одежды покойного мужа. И тут в дверь постучали. Это пришли полицейские со своими дубинками. Беглый преступник не успел даже одеться и, как был голый, забрался на балку под потолком. Женщина открыла дверь и впустила полицейских. Только тот парень спрятался неудачно. У него были просто огромные яйца, и эти яйца свисали с балки, как говорится, во всей красе».
Траут снова помедлил.
«Полицейские спросили у женщины, где парень. Та ответила, что не знает, о каком парне речь, – продолжал Траут. – Кто-то из полицейских заметил огромные яйца, свисавшие с балки, и спросил, что это такое. Женщина сказала, что это китайские храмовые колокольчики. Он ей поверил. И сказал, что всегда мечтал послушать, как звенят китайские храмовые колокольчики».
«Он ударил по ним дубинкой, но не раздалось ни звука. Тогда он ударил сильнее, гораздо сильнее. Знаешь, что закричал этот парень, чьи были яйца?» – спросил меня Траут.
Я сказал, что не знаю.
«Он закричал: «ДЗИНЬ-ДЗИНЬ, МУДИЛА!»
15
Академии надо было перевезти штатных сотрудников и все самое ценное имущество в более безопасный район еще тогда, когда Музей американских индейцев вывез из старого здания свои геноцид-сувениры. Но академия по-прежнему располагалась на мрачной окраине – у черта на куличках, где на многие мили вокруг обитали никчемные люди, жизнь которых не стоила того, чтобы жить, – потому что у ее павших духом и впавших в уныние академиков не было ни сил, ни желания затевать переезд.
Сказать по правде, за судьбу академии тревожился только служебный персонал: конторские служащие, уборщицы, сотрудники отдела технической службы и службы охраны. Их совершенно не волновало, что станется со старомодным искусством. Им нужна была работа – пусть даже самая дурацкая и бессмысленная. В этом они мало чем отличались от людей из тридцатых годов, которые во время Великой депрессии хватались за любую работу, какая была, и считали, что им повезло.
Траут рассказывал, что в то время с работой действительно было туго. Если ему и удавалось куда-то устроиться, это была работа из категории «вычищать птичий помет из часов с кукушкой».
Ответственному секретарю академии работа была, безусловно, нужна. Моника Пеппер, так похожая на мою сестру Элли, была единственной кормилицей семьи: содержала и себя, и мужа Золтана, которого сама же и искалечила неудачным прыжком с вышки. Она укрепила вход в здание, заменив деревянную дверь стальной, в полдюйма толщиной, с узким «ктотамом», то есть смотровой щелью, которую можно было закрывать и запирать на отдельный замок.
Моника сделала все возможное, чтобы здание академии смотрелось таким же заброшенным и разграбленным, как и живописные руины Колумбийского университета в двух милях к югу. Окна, как и входная дверь, были наглухо закрыты стальными листами, скрытыми под фанерными щитами. Эти щиты, выкрашенные в черный цвет, были густо исписаны граффити, которые шли по всему фасаду. Настенной росписью занимались сами сотрудники. Моника лично вывела «НА ХУЙ ИСКУССТВО!» ярко-оранжевой и красной краской прямо на стальной входной двери.
Случилось так, что охранник, афроамериканец по имени Дадли Принс, выглянул в этот самый «ктотам» в стальной двери как раз в тот момент, когда Траут выбрасывал «Сестричек Б-36» в мусорный бак, стоявший перед входом. Вообще-то бомжи взаимодействуют с мусорными баками постоянно, видит Бог, в этом нет ничего необычного, но Траут, которого Принс принял даже не за бомжа, а за старенькую бомжиху, являл собой зрелище весьма колоритное.
Вот как Траут выглядел издалека: вместо брюк на нем были три пары теплых кальсон, и из-под матросской шинели торчали тощие икры как бы в обтягивающих рейтузах. Вместо ботинок он носил сандалии – еще одна деталь, усугублявшая его сходство с женщиной, – а голову повязывал платком на манер русских бабушек, причем раньше этот платок был детским одеяльцем с рисунком из красных воздушных шаров и голубых медвежат.
Траут стоял перед мусорным баком и что-то доказывал ему, размахивая руками, как будто это был никакой не бак, а редактор в старомодном издательстве – а четырехстраничная рукопись, только что выброшенная на помойку, была гениальным романом, который, вне всяких сомнений, пойдет нарасхват. Траут вовсе не спятил. Позже он скажет об этом своем представлении: «Со мной-то все было в порядке – это мир тихо рехнулся от нервного расстройства. Лично я замечательно развлекался посреди всего этого кошмара, спорил с воображаемым редактором по поводу бюджета рекламной кампании, и кто кого будет играть в экранизации романа, и как меня пригласят выступать в телешоу. Ну, так. По приколу».
Его поведение было настолько из ряда вон, что проходившая мимо настоящая старенькая бомжиха спросила его: «Лапуль, у тебя все хорошо?»
На что Траут ответил с глубоким, искренним чувством: «Дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!»
Но когда Траут вернулся в приют, охранник по имени Дадли Принс отпер стальную дверь, вышел на улицу и от скуки и любопытства вытащил рукопись из мусорного бака. Ему было интересно, что именно эта старенькая бомжиха, у которой наверняка были все основания покончить с собой, похоронила в помойке с таким исступлением.
16
Не знаю, надо это кому-нибудь или нет, но я все-таки приведу здесь отрывок из «Времетрясения-1», в котором я цитировал избранные места из незаконченных мемуаров Килгора Траута «Мои десять лет на автопилоте», где тот рассуждает о времетрясении и его последующих толчках – повторном десятилетии.
«Времетрясение 2001 года – это космический мышечный спазм, судорога Судьбы. В этот год, 13 февраля, ровно в 14.27 по нью-йоркскому времени у Вселенной случился приступ неуверенности в себе. Надо ли продолжать расширяться бесконечно? Какой в этом смысл?»
«Вселенная фибриллировала в нерешительности. Может быть, стоит вернуться к той точке, откуда все начиналось, а потом снова устроить Большой Взрыв?»
«Вселенная неожиданно сжалась на десять лет. В результате нас всех перебросило обратно в 17 февраля 1991 года. Лично я в это время, а именно в 07.51 утра, стоял в очереди перед входом в банк крови в Сан-Диего, штат Калифорния».
«По каким-то известным лишь ей причинам Вселенная решила повременить с возвращением к истокам. И продолжила расширяться. Я не знаю, что именно определило ее решение. Хотя я прожил на свете восемьдесят четыре года – или даже девяноста четыре, если считать повторные десять лет, – у меня нет ответов на многие вопросы касательно Вселенной».
«Теперь кое-кто утверждает, что сама продолжительность этого временного повтора – без четырех дней десять лет – есть доказательство, что Бог существует и что Он оперирует в десятичной системе счисления. У Него десять пальцев на руках и ногах, в точности, как у нас, и Он использует их при счете».
«Лично мне это сомнительно. И это не моя вина. Я таким уродился, и тут уже ничего не попишешь. Даже если бы мой отец, Реймонд Траут, орнитолог, преподаватель в Колледже Смит в Нортгемптоне, штат Массачусетс, не убил мою мать, домохозяйку и поэтессу, я все равно был бы таким, какой есть. Но опять же я мало смыслю в религиях, я никогда их серьезно не изучал, и мое мнение по данному вопросу будет явно некомпетентным. Единственное, что я знаю наверняка: правоверные мусульмане не верят в Санта Клауса».
* * *
В тот первый из двух сочельников 2000 года тогда еще истово верующий охранник, афроамериканец по имени Дадли Принс, решил, что «Сестрички Б-36» – это, возможно, послание Академии от самого Господа Бога. В конце концов то, что случилось с планетой Бубу, мало чем отличалось от того, что происходило сейчас с его собственной планетой, и особенно – с его работодателями, Американской академией искусств и литературы, а вернее, с жалкими остатками академии, располагавшейся у черта на куличках, на 155-й улице в западном Манхэттене, в двух шагах к западу от Бродвея.
Траут потом познакомился с Принсом – так же, как с Моникой Пеппер, так же, как и со мной, – уже после времетрясения, уже после того, как закончились повторные десять лет, и нас всех снова пришибло свободой воли. После времетрясения Принс разуверился в существовании мудрого и справедливого Боженьки. Сама идея такого Бога ничего, кроме презрения, у него не вызывала. Точно так же, как у моей сестры Элли. Однажды Элли сказала вроде как про свою жизнь, но на самом деле – про жизнь каждого человека: «Если Бог существует, Он ненавидит людей, это точно. И мне больше нечего добавить».
Когда Траут услышал о том, что Принс так серьезно воспринял его рассказец «Сестрички Б-36» в тот первый из двух сочельников 2000 года – а Принс был уверен, что старая бомжиха, когда выбрасывала на помойку исписанные страницы, устроила такой экспрессивный спектакль исключительно для того, чтобы привлечь его, Принса, внимание: чтобы он заинтересовался и вытащил эти странички из мусорки, – так вот, когда Траут об этом услышал, он сказал: «Это и неудивительно, Дадли. Если кто верит в Бога – а ты тогда верил, – тот запросто сможет поверить в планету Бубу».
А теперь я расскажу, что произойдет с Дадли Принсом, этим монументальным образчиком добропорядочного гражданина и стража порядка – при оружии, все как положено, – облеченного властью и облаченного в форму охранной фирмы, которая круглосуточно караулит издыхающую академию, я расскажу, что случится с ним через пятьдесят один день после первого из двух сочельников 2000 года. Времетрясение перебросит его обратно в одиночную камеру, в мешок, в колонии особо строгого режима для совершеннолетних преступников в городе Афины, штат Нью-Йорк, в шестидесяти милях к югу от его родного Рочестера, где у него когда-то был свой собственный маленький пункт видеопроката.
Ну, да, после времетрясения он стал моложе на десять лет, только радости с этого было мало. Для него это значило только одно: он опять отбывал свои два пожизненных срока, безо всякой надежды на условно-досрочное освобождение, за изнасилование и убийство Кимберли Вонг, десятилетней девочки китайско-американского и итало-американского происхождения, в наркоманском притоне в Рочестере – за преступление, которого не совершал!
Утешало одно: в начале повторного десятилетия Дадли Принс, как и каждый из нас, помнил все, что с ним будет в ближайшие десять лет. Он знал, что через семь лет его оправдают на основании ДНК-экспертизы засохшей семенной жидкости, оставшейся на трусиках жертвы. Результат экспертизы, подтверждающей его невиновность, вновь найдут спрятанным в плотный конверт в сейфе у окружного прокурора, который осудил Дадли Принса по ложному обвинению, надеясь тем продвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах.
Кстати, еще через шесть лет этого самого прокурора найдут на дне озера Кайюга с цементными башмаками на ногах. А Принс тем временем снова получит аттестат о полном среднем образовании, снова уверует в Бога и т. д., и т. п.
А потом, когда Принса вновь выпустят из тюрьмы, его опять пригласят выступать в телевизионных ток-шоу вместе с другими людьми, которые были несправедливо осуждены, а потом справедливо оправданы, и он будет рассказывать о том, как ему повезло, что его упекли в тюрьму, потому что именно там он обрел Иисуса.
17
В какой-то из двух сочельников 2000 года – не важно, в который именно, если не принимать во внимание представления людей о том, что происходит – бывший зэк Дадли Принс принес «Сестричек Б-36» в кабинет Моники Пеппер. Ее муж Золтан, сидя в своей инвалидной коляске, предсказывал скорый конец всеобщей грамотности – уже в самом что ни есть обозримом будущем.
«Пророк Мухаммед не умел ни читать, ни писать, – разглагольствовал Золтан. – Иисус, Мария и Иосиф наверняка тоже были неграмотными. Мария Магдалина уж точно была неграмотной. Король Карл Великий признавался, что не владеет грамотой. Ведь это такая хитрая премудрость! Во всем Западном полушарии не было ни одного человека, который умел бы читать и писать. Даже мудрые майя, инки и ацтеки не знали грамоты, пока не пришли европейцы».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































