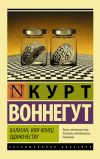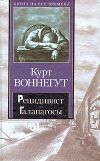Текст книги "Синяя борода"

Автор книги: Курт Воннегут
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
8
Первый, кому я рассказал о потрясающем предложении, был старик издатель газеты, для которого я рисовал карикатуры, звали его Арнольд Коутс, и он мне сказал:
– Ты настоящий художник и должен удирать отсюда, а то высохнешь, как изюминка. Не беспокойся об отце. Прости, но он вполне благополучный псих, который ни в ком не нуждается.
– Нью-Йорк должен стать для тебя только перевалочным пунктом, – продолжал он. – Настоящие художники были, есть и будут в Европе.
Тут он оказался не прав.
– До сих пор никогда не молился, но сегодня вечером помолюсь, чтобы ты ни в коем случае не попал в Европу солдатом. Мы не должны снова дать себя одурачить и превратить в пушечное мясо, на которое такой спрос. Там в любой момент может начаться война. Посмотри, какие у них огромные армии, и это – в разгар Великой депрессии!
– Если, – говорит, – города еще сохранятся, когда попадешь в Европу, и будешь сидеть в кафе, попивая кофе, вино, пиво и обсуждая живопись, музыку, литературу, не забывай, что окружающие тебя европейцы, которых ты считаешь гораздо более цивилизованными, чем американцы, думают только об одном: когда можно будет снова легально убивать друг друга и разрушать все вокруг.
– Будь по-моему, – говорит, – назвал бы в американских учебниках по географии европейские страны их истинными названиями: «Империя сифилиса», «Республика самоубийств» и «Королевство бреда», а рядом – еще замечательнее.
– «Паранойя».
– Ну вот! – воскликнул он. – Предвкушение Европы тебе испортил, а ты еще ее и не видел. Может, и предвкушение искусства тоже, но, надеюсь, нет. Думаю, художники не виноваты в том, что их прекрасные и чаще всего невинные произведения по каким-то причинам делают европейцев только еще несчастнее и кровожаднее.
В те времена американцы из патриотов обычно так и рассуждали. Трудно представить, какое отвращение прежде вызывала у нас война. То и дело мы хвастались, какие маленькие у нас армия и флот и до чего мало в Вашингтоне влияние генералов и адмиралов. Фабрикантов оружия называли «торговцами смертью».
Представляете себе?
Теперь, конечно, наша чуть ли не единственная процветающая индустрия – это торговля смертью, в которую вкладывают капитал наши внуки, и поэтому главное, что твердят искусство, кино, телевидение, что бубнят политики и пишут газеты, сводится вот к чему: война, безусловно, ад, но юноша, чтобы стать мужчиной, должен немножечко пострелять, и по возможности, хотя это и не обязательно, – на поле боя.
И я отправился в Нью-Йорк, чтобы заново родиться.
Для большинства американцев было и остается привычным куда-нибудь уезжать, чтобы начать все сначала. Да ведь и я не такой, как родители. Никакого места, почитаемого священным, для меня не существовало; не было скопища друзей да родственников, которых я покидал. Нигде число ноль не имеет большего философского смысла, чем в Америке.
«Здесь ничего не выходит», – говорит американец, и раз! – головой в воду с высоченной вышки.
Так вот и я тоже ничем был не обременен, словно на свет и не появлялся, когда пересекал этот великий континент зародышем в утробе пульмановского вагона. Будто никогда и не было Сан-Игнасио. А когда чикагский экспресс «Двадцатый век лимитед» ворвался в опутанный проводами и трубами туннель под Нью-Йорком, я выскочил из утробы в родильный канал.
Десятью минутами позже я родился на Центральном вокзале, одетый в первый в моей жизни костюм, а в руках у меня был фибровый чемодан и портфель с моими лучшими рисунками.
И кто же пришел на вокзал приветствовать это очаровательное армянское дитя?
Ни души, ни души.
Я был бы великолепной иллюстрацией Дэна Грегори к рассказу о деревенском подростке, оказавшемся в полном одиночестве в незнакомом огромном городе. Костюм на мне был дешевый, купленный по почте у Сирса из Робука, а никто лучше Дэна Грегори не умеет рисовать костюмы, выписанные по каталогу. Ботинки, старые и потрескавшиеся, я начистил до блеска, сам поставил новые резиновые набойки. Вставил и новые шнурки, но один порвался где-то около Канзас-Сити. Зоркий наблюдатель заметил бы на шнурке уродливый узел. Никто лучше Дэна Грегори не умел описать материальное и душевное состояние героя по виду его ботинок.
Правда, для журнального рассказа о деревенщине мое лицо тогда не подходило. Грегори пришлось бы сделать меня выходцем из англосаксов.
Мое лицо он мог использовать для рассказов об индейцах. Из меня получился бы приличный Гайавата. Грегори как-то иллюстрировал дорогое издание «Гайаваты», и моделью для главного героя служил сын повара-грека.
Тогда любой носатый человек, выходец с Ближнего Востока или из Средиземноморья, имевший хоть каплю актерских способностей, годился на роль кровожадного индейца из племени сиу или любого другого. Зрителей это более чем устраивало.
Теперь я мечтал снова оказаться в поезде! Господи, как там было хорошо! Я прямо влюбился в этот поезд. Сам Господь Бог, наверно, был в восторге, когда люди ухитрились так соединить железо, воду и огонь, что получился поезд!
Теперь, конечно, все следует делать из плутония с помощью лазерных пучков.
* * *
А как Дэн Грегори рисовал поезда! Он пользовался синьками, которые брал на заводе, так что каждая заклепочка была на своем месте и не придрался бы никакой железнодорожник. И если бы понадобилось ему нарисовать «Двадцатый век лимитед», которым я прибыл в Нью-Йорк, то каждое пятнышко, каждую пылинку на вагонах он бы воспроизвел так, как они должны были выглядеть, если состав прошел от Чикаго до Нью-Йорка. Никто не умел изобразить паровозную копоть лучше Дэна Грегори!
А теперь он где? И где Мерили? Почему не послали кого-нибудь встретить меня на роскошном «мормоне» Грегори.
Он точно знал, когда я приеду. Сам же назначил день и выбрал такой, чтобы легче запомнить. Я приезжал в День святого Валентина. Столько сердечности проявил он в письмах – и не через Мерили или кого-нибудь из прихлебателей. Все письма были написаны им самим, от руки. Короткие, но такие великодушные и щедрые! Писал, чтобы я купил себе теплый костюм, и не только себе, но и отцу, а он заплатит по счету.
Сколько в его письмах было понимания! Он боялся, что меня обидят или одурачат в поезде, объяснял, как вести себя в купе и в вагоне-ресторане, когда и сколько давать чаевых официантам да носильщикам и как сделать пересадку в Чикаго. К собственному сыну не был бы он внимательнее, имей он сына.
Побеспокоился даже о том, чтобы послать деньги на дорогу почтовым переводом, а не чеком, – знал, стало быть, о банкротстве нашего единственного банка в Сан-Игнасио.
Одного я не знал, когда получил от него телеграмму, – что тогда, в декабре, Мерили лежала в больнице с переломами обеих ног и руки. Грегори так ее толкнул в студии, что она упала навзничь и скатилась с лестницы. Слуги, случайно стоявшие внизу у лестницы, решили, что она мертва.
Грегори был напуган и раскаивался. Первый раз навестив ее в больнице, совершенно пристыженный, он извинялся и говорил, что так любит ее – готов исполнить любое ее желание, ну любое.
Он, видно, думал, что она попросит бриллианты или что-то подобное, а она попросила живое существо. Она попросила меня.
Цирцея Берман сейчас высказала предположение, что я должен был заменить армянское дитя, которое выскребли из ее утробы в швейцарской клинике.
Может, и так.
Мерили сказала Грегори, что написать в телеграмме и в письмах, сколько послать мне денег и так далее. Когда я приехал в Нью-Йорк, она еще находилась в больнице и, конечно, не ожидала, что Грегори бросит меня одного на вокзале.
Но он именно так и сделал.
Опять плохое брало в нем верх.
Но это еще не вся история. Всю ее я узнал только после войны, когда навестил Мерили во Флоренции. А Грегори уж десять лет назад погиб и был похоронен в Египте.
Только после войны Мерили, заново родившаяся в качестве графини Портомаджьоре, рассказала, что это из-за меня Грегори тогда, в 1932 году, спустил ее с лестницы.
Она скрывала это, не желая смущать меня и расстраивать, скрывал и Грегори, но, разумеется, по другим причинам.
В тот вечер, когда он чуть ее не прикончил, она пришла в студию, чтобы уговорить его наконец-то посмотреть мои работы. За эти годы я послал в Нью-Йорк много работ, а он и не взглянул на них. Мерили выбрала время удачно, потому что Грегори в тот день был счастлив как никогда. Почему? Утром пришло письмо с благодарностью от человека, которого он считал самым выдающимся политическим деятелем в мире, от итальянского диктатора Муссолини, того самого, кто заставлял своих врагов пить касторку.
Муссолини благодарил за свой портрет, который написал и подарил ему Грегори. Муссолини был изображен в форме генерала Альпийской дивизии, на вершине горы при восходе солнца, и уж будьте уверены, все – ремни, галуны, канты, складки, знаки отличия и все украшения – было в точности как положено. Никто не умел рисовать военную форму лучше Дэна Грегори.
Через восемь лет Грегори, облаченный в итальянскую форму, погибнет в Египте от руки англичанина.
Вернемся к главному: Мерили разложила мои работы на длинном обеденном столе в студии, и он их с первого взгляда оценил. Как она и ожидала, он просмотрел их благожелательней некуда. Но потом вгляделся внимательнее и впал в бешенство.
Но не из-за самих картин он так разъярился. Он разъярился из-за качества материалов, которые я использовал. Все понятно – Мерили взяла их из его кладовой.
Тут он ее и пихнул, да так, что она скатилась с лестницы.
Пора рассказать о костюме, который вместе со своим я заказал для отца в фирме «Сирс, Робук». Мы с отцом обмерили друг друга, что само по себе уже было необычно – не припомню, чтобы мы раньше касались один другого.
Но когда костюмы прибыли, оказалось, кто-то сместил десятичную точку в размерах отцовских брюк. И хоть он был коротконогий, но брюки были еще короче. И хоть он был очень тощий, пуговицы на талии не застегивались. А пиджак сидел прекрасно.
– Какая жалость, – сказал я. – Надо отослать брюки обратно.
Он ответил:
– Нет. Они мне нравятся. Великолепный костюм для похорон.
– Какой еще костюм для похорон? – переспросил я. И представил себе отца идущим без брюк на чьи-то похороны, хотя, насколько я помнил, ни на каких похоронах, кроме маминых, он не был.
А он говорит:
– На собственных похоронах брюки не нужны.
Когда пятью годами позже я приехал на похороны отца, он лежал в пиджаке от того костюма, а нижняя часть гроба была прикрыта, и я спросил владельца похоронного бюро, есть ли на отце брюки.
Оказалось, есть и сидят прекрасно. Значит, отец позаботился получить от фирмы «Сирс, Робук» брюки нужного размера.
Но когда владелец похоронного бюро объяснил про брюки, оказалось, у него есть для меня два сюрприза. Маму, кстати, хоронил не он. Тот разорился и уехал в поисках удачи в другие места. А этот, наоборот, приехал искать удачу в Сан-Игнасио, где тротуары, понятно, вымощены золотом.
Так вот, первый сюрприз: отца будут хоронить в ковбойских сапогах собственного изготовления, тех самых, которые были на нем, когда он умер в кинематографе.
И второй: владелец похоронного бюро решил, что отец магометанин. И очень разволновался. Для него было событием, что приходится воздать должное чужой вере в этой до безумия плюралистичной демократической стране.
– Впервые в жизни взялся хоронить магометанина, – сказал он. – Надеюсь, все пока делаю правильно. У нас тут не с кем посоветоваться, ни одного магометанина нет. По идее надо было бы съездить в Лос-Анджелес проконсультироваться.
Я не хотел портить ему удовольствие и сказал, что, по-моему, все в точности как надо.
– Только нельзя есть свинину, особенно рядом с гробом, – сказал я.
– И это все?
– Все. И, закрывая крышку, вы, конечно, должны сказать: слава Аллаху.
Так он и сделал.
9
Хороши или не очень были мои картины, на которые Дэн Грегори едва успел взглянуть до того, как спустил Мерили с лестницы? Если не по духу, так в смысле техники чертовски хороши для мальчишки моего возраста, да еще самоучки, который просто копировал штрих за штрихом иллюстрации Дэна Грегори.
Я, несомненно, от рождения был наделен способностями рисовать лучше других, как вдова Берман и Пол Шлезингер от рождения способны лучше других писать романы. А есть люди, которые от рождения могут лучше других петь, или танцевать, или разбираться в звездах, или делать фокусы, или в политике многого достичь, в спорте и так далее.
Думаю, так повелось еще с тех времен, когда люди жили небольшими группами, состоящими из близких родственников, – человек по пятьдесят – сто, не больше. А эволюция, или Бог, или не знаю что генетически регулировали порядок вещей так, чтобы сохранить и поддержать эти семьи, чтобы вечерами у огня один рассказывал истории, другой делал на стенах пещеры рисунки, а еще кто-то отличался храбростью, и тому подобное. Так я думаю. А теперь, конечно, подобный уклад совершенно не имеет смысла, ведь из-за прессы, радио, телевидения, спутников и всего прочего умеренные способности обесценились. Человек, имеющий умеренные способности в какой-то области, тысячу лет назад был бы для общества сокровищем, а сейчас ему со своими талантами делать нечего, и приходится заняться чем-то другим, так как из-за современных средств коммуникации он вынужден ежедневно вступать в соревнование с мировыми чемпионами.
Сейчас для всей планеты достаточно десятка чемпионов в каждой области, где требуются человеческие дарования. Человеку, у которого умеренные способности, лучше их держать при себе, в рукаве, так сказать, пока он или она не напьются где-нибудь на свадьбе и не спляшут чечетку на кофейном столике, подражая Фреду Астору и Джинджер Роджерс. Мы и название придумали для таких людей – эксгибиционисты.
И как же мы вознаграждаем такого эксгибициониста? На следующее утро мы говорим ему:
– Ну и ну! Набрался же ты вчера вечером!
Став учеником Дэна Грегори, я вышел на ринг против мирового чемпиона по коммерческому искусству. Многие молодые художники, глядя на иллюстрации Грегори, наверно, бросали живопись, думали: «Господи, я никогда ничего такого прекрасного не сделаю».
Теперь я понимаю, что был тогда жутко самоуверенным мальчишкой. С того самого момента, когда я начал копировать Грегори, я не переставал повторять себе: «Если буду трудиться как следует, ей-богу, тоже смогу так сделать!»
* * *
Итак, я одиноко стоял на Центральном вокзале, а вокруг меня, как полагается, все обнимались и целовались. Я сомневался, что Дэн Грегори приедет встретить меня, но где Мерили?
Вы думаете, она не знала, как я выгляжу? Конечно, знала. Я послал много автопортретов и фотографий, которые сделала мама.
Отец, кстати, к фотоаппарату не прикасался и считал, что фотографии передают только безжизненную кожу, ногти да прическу, которую человек уже давно сменил. Видимо, он думал: какая же эти фотографии жалкая замена людям, погибшим в резне.
Да если бы Мерили и не видела моих портретов и фотографий, меня все равно легко было различить в толпе, потому что я был самый темный, намного темнее других пассажиров пульмановских вагонов. Любого пассажира, который оказался бы еще темней, по обычаям того времени в пульмановские вагоны просто бы не пустили, как, впрочем, и в отели, театры и рестораны.
Был ли я уверен, что узнаю Мерили на вокзале? Как ни странно, нет. За годы переписки она прислала мне девять фотографий, сейчас они переплетены вместе с ее письмами. Фотографии делал сам Дэн Грегори, который фотографировал профессионально, причем на первоклассном оборудовании. Но каждый раз он наряжал ее в костюм и придавал позу героини книги, которую в тот момент иллюстрировал: то императрицы Жозефины, то ветреницы из романа Скотта Фицджеральда, то первобытной женщины, то жены американского пионера, а то русалки с хвостом и всем прочим… Не верилось и до сих пор верится с трудом, что это фотографии одной и той же девушки.
Казалось, на платформе одни красавицы, ведь «Двадцатый век лимитед» был в то время самым шикарным поездом. И я переводил взгляд с одной женщины на другую, надеясь вызвать у них в голове вспышку узнавания. Но добился, боюсь, только того, что все эти женщины укрепились в своем мнении насчет темной расы, которая, дескать, и впрямь сексуально разнузданная, потому что ближе, чем белая, находится к гориллам и шимпанзе.
Сию минуту ко мне без стука вошла Полли Медисон, она же Цирцея Берман, прочла текст прямо с машинки и удалилась, даже не спросив, не возражаю ли я. Еще как возражаю!
– Я на середине фразы! – запротестовал я.
– Все – на середине фразы, – ответила она. – Я только хотела знать, не бегут ли у вас мурашки по спине, когда вы пишете о событиях и людях такого далекого прошлого?
– Не заметил, – говорю. – Многое, о чем годами и не думал, меня и правда расстраивает, но не так чтобы слишком. Мурашки? Нет.
– Подумать только, – сказала она. – Ведь вы же знаете, какие неприятности ждут их, и вас тоже. Неужели вам не хочется вскочить в машину времени, вернуться назад и предупредить, если бы было можно? – И она, возвращаясь в 1933 год, описала жутковатую сцену на вокзале в Лос-Анджелесе.
– Армянский мальчик держит в руках картонный чемодан и портфель, прощается с отцом-эмигрантом. В поисках счастья он едет за две с половиной тысячи миль в огромный город. На машине времени из 1987 года прибыл пожилой господин с повязкой на глазу и незаметно пробирается к мальчику. Что он ему скажет?
– Нужно подумать, – ответил я. Покачал головой. – Ничего. Отмените машину времени.
– Ничего? – переспросила она.
И я сказал:
– Пусть мальчик как можно дольше верит, что станет большим художником и хорошим отцом.
Прошло всего-то полчаса, и она опять меня тормошит.
– Мне сейчас пришла в голову мысль, которая, возможно, вам пригодится. А пришла она в голову, когда я прочла, что вы взглянули в глаза отцу – после того как он начал делать замечательные ковбойские сапоги, – а они такие отрешенные, и вы взглянули в глаза вашего друга Терри Китчена – после того как он начал писать разбрызгивателем свои знаменитые полотна, – а они такие отрешенные.
Я сдался. Выключил электрическую печатную машинку. Когда я научился на ней печатать? На обычной – сразу после войны, я собирался тогда стать бизнесменом и посещал курсы машинописи.
Глубже уселся в кресло и закрыл глаза. Ирония, особенно касающаяся права на невмешательство в личные дела, ее не берет. Но я все-таки попробовал.
– Я весь внимание.
– Я никогда не говорила вам, какие были самые последние слова Эйба? – спросила она.
– Никогда, – согласился я.
– Я как раз о них думала, когда вы спустились на пляж в тот первый день, – сказала она.
– Отлично.
Перед смертью ее муж, нейрохирург, уже не говорил, только левой рукой мог нацарапать несколько слов, хотя вообще писал правой. У него только левая рука работала – и то чуть-чуть.
И вот, по словам Цирцеи, последнее, что он сообщил: «Я был радиомонтером».
– То ли его больной мозг понимал это буквально, то ли Эйб, всю жизнь оперируя на мозге, пришел к заключению, что это, по существу, только приемник сигналов откуда-то извне. Мысль доходит?
– Думаю, да.
– Если из коробочки, которую мы называем радио, слышна музыка, – тут она подошла и постучала костяшками пальцев мне по темени, словно это радио, – это ведь не значит, что внутри коробочки сидит симфонический оркестр?
– Какое отношение это имеет к отцу и Терри?
– Когда они вдруг стали заниматься совершенно новым делом и их индивидуальность тоже начала меняться, – сказала она, – может, они вдруг начали принимать сигналы с новой станции, у которой совершенно другие идеи насчет того, что они должны думать и делать.
Теорию, что человек – просто-напросто радиоприемник, я опробовал на Поле Шлезингере, и он обыграл ее так и сяк.
– Значит, кладбище Грин-Ривер – свалка ломаных приемников, – задумчиво сказал он, – а передатчики, на которые они были настроены, все работают и работают.
– Такая вот идея, – сказал я.
Он сказал, что последние двадцать лет его голова принимает одни помехи и что-то вроде прогноза погоды на иностранном языке, какого он и в жизни не слышал. А его жена, актриса Барбира Менкен, незадолго до развода начала вести себя так, будто надела стереонаушники и слушает увертюру «1812 год». Как раз тогда она из обыкновенной хорошенькой статистки, любимицы публики, превращалась в настоящую актрису. Даже перестала быть Барбарой. Вдруг сделалась Барбирой.
Пол говорит, что впервые узнал об ее новом имени на бракоразводном процессе, когда адвокат назвал ее Барбирой, по буквам продиктовав имя стенографистке.
Позже, в коридоре суда, Шлезингер спросил ее:
– А что случилось с Барбарой?
Она ответила, что Барбара умерла!
И Шлезингер сострил:
– Тогда, черт возьми, зачем же мы столько денег на адвокатов извели?!
Я уже говорил: нечто подобное случилось и с Терри Китченом, когда, забавляясь с пульверизатором, он впервые выпалил струей красной автомобильной краски в кусок старого оргалита, который прислонил к стене картофельного амбара. Он тоже вдруг стал похож на человека, через наушники вслушивающегося в удивительно прекрасные сигналы какой-то радиостанции, которой я не слышал.
Ему нравилось возиться только с красной краской. Две банки красной краски и пульверизатор мы купили несколько часов назад в авторемонтной мастерской в Монтоке.
– Нет, ты только посмотри! Посмотри, как выходит! – восклицал он, пульнув еще разок.
– Как раз в это время он собирался покончить с живописью и вместе с отцом заняться юридической практикой, и тут мы купили пульверизатор, – вспоминал я.
– Барбира как раз собиралась бросить театр и завести ребенка, – сказал Шлезингер. – И тут ей дали роль Аманды в «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса.
Теперь задним числом я понимаю: радикальное изменение личности с Терри Китченом произошло не тогда, когда он направил на доску первые струи краски, а в тот момент, когда он увидел продающийся со скидкой пульверизатор. Пульверизатор случайно заметил я и сказал, что он, наверно, из военных неликвидов, потому что в армии мы такие же использовали для маскировочных работ.
– Купи мне его, – сказал Терри.
– Зачем?
– Купи мне его, – настаивал он. Нужен ему, и все тут, хотя Терри даже не знал, для чего он, пока я не объяснил.
Он был из очень богатой старинной семьи, но денег никогда не имел, а мои предназначались для колыбельки малышу и кроватки старшему сыну в новый дом, который купил я в Спрингсе. Вопреки желанию домочадцев я как раз собирался перевезти семью из города в сельскую местность.
– Купи мне его, – снова попросил Терри.
И я сказал:
– Ладно, успокойся. Куплю. Сказано – куплю.
А теперь прыг в нашу добрую старую машину времени, и назад в 1932 год.
Думаете, я себя обиженным чувствовал, когда одиноко стоял на Центральном вокзале? Ничуть. Раз я считаю Дэна Грегори величайшим художником в мире, значит, он во всем прав. И пока я не покончил с ним, а он со мной, придется мне прощать ему поступки и похуже, чем то, что он не встретил меня на вокзале.
А почему никаким великим художником он не стал, хотя по технике был непревзойденным? Много думаю об этом, и каждый ответ, который даю, подходит и ко мне тоже. По технике я сам намного превосходил всех абстрактных экспрессионистов, но не больно-то высоко поднялся, да и не мог бы подняться – не говоря уж о провале с «Сатин-Дура-Люкс». Я много картин написал до «Сатин-Дура-Люкс», достаточное количество после, но все они не бог весть что.
Ладно, оставим меня в покое и сосредоточимся на работах Грегори. Они точно передавали материальные предметы, но ложно – чувство времени. Он воспевал всякие торжественные моменты: будь то первая встреча малыша со стоящим в универмаге Санта-Клаусом, победа одного гладиатора над другим в Римском цирке, или, допустим, момент, когда в честь окончания строительства трансконтинентальной железной дороги забивают золотой костыль, или, например, влюбленный падает на колени, умоляя избранницу стать его женой. Но у него не хватало зрелости, мудрости, а может быть, просто таланта, чтобы передать в своих работах ощущение, что время быстротечно, что отдельный момент ничуть не важнее другого и что все они мимолетны.
Попробую выразить это иначе: Дэн Грегори был великолепным чучельщиком. Начинял, монтировал, лакировал, покрывал средством от моли возвышенные, как он считал, моменты, а все они тут же покрывались пылью и начинали наводить тоску, как оленья голова, купленная на деревенской распродаже, или рыба-парусник, из тех, что висят в приемной дантиста.
Поняли?
Попробую выразить по-другому: жизнь, по определению, не стоит на месте. Куда идет она? От рождения к смерти, и по пути нет остановок. Даже в изображении вазы с грушами на клетчатой скатерти ощущается быстротечность жизни, если нанесено оно на холст кистью большого художника. И удивительно: ни я, ни Дэн Грегори не могли достичь этого, а наиболее талантливые абстрактные экспрессионисты смогли – на действительно великих полотнах всегда присутствуют рождение и смерть.
Присутствуют рождение и смерть даже на старом куске оргалита, который Терри Китчен совершенно беспорядочно, казалось, поливал краской из пульверизатора в те далекие времена. Не знаю, как рождение и смерть там оказались, да и он не знал.
Я вздохнул.
– О боже, – все, что может сказать старый Рабо Карабекян.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?