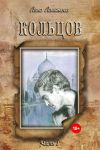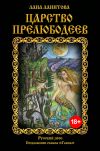Текст книги "Блуждание во снах"

Автор книги: Лана Ланитова
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 4
Макар Тимофеевич, купец третьей гильдии, родом из Рязани, воодушевленный своим товарищем и чуть осмелевший от выпитой Шустовской рябиновки, покачал головой, поерзал, откашлялся и приступил к рассказу.
Рассказ Булкина Макара Тимофеевича, купца третьей гильдии.
Как только тебя, Владимир Иванович, унесла какая-то чертовка в кружевах и вуалях, патрон обернулся ко мне и ехидно так, как он один умеет, и говорит:
– Ну что, господин Булкин, теперь и ваша очередь.
– Я не готов никуда идти. Я и туточки могу посидеть.
– А вам, господин Булкин, и не придется далеко ходить, – рассмеялся он и хлопнул три раза в ладоши.
Дверь открылась, и из коридора выкатился его слуга и кастелян[38]38
Кастелян – смотритель укрепленного замка, общественного здания.
[Закрыть], карлик Овидий. Гляжу: а в руках у него поднос со стаканом. Подает он мне стакан этот и говорит: «Пейте, господин Булкин!»
– Зачем это? Я не хочу пить. Отравить желаете? – догадался я.
– Дурак ты, Булкин, – устало возразил хозяин.
И тут смотрю: стакан-то оторвался от подноса сам по себе, и вжик – в момент подлетел к моему рту. Опрокинулся так, что я и глазом моргнуть не успел. И словно против воли сам его и выкушал. Да с такой жадностью, будто и впрямь пить-то хотел. А что в нем налито было, я не разобрал: то ли вода, то ли что иное. Помню, во рту привкус какой-то диковинный: словно сливу вяленную разжевал.
И тут началось: сам сижу, к скамье от страха приклеился, а возле меня круговерть какая-то занялась. То ли ветры подули, то ли вихри затейные, то ли пыль клубами вместе с листьями опавшими – как по осени, в непогоду взъярилось. Чую, аж волосья на голове дыбом встали. А в ушах гул покатил: будто пароход на Волге гудок прощальный ахнул. И тут оторвало меня от скамьи, почувствовал я себя легоньким, словно перышко гусиное. Взлетел я над залом учебным, сделал пару кругов над головами патрона и Овидия, чуть башмак с ноги не потерял. И понесло меня, лихотного, в махонькое, круглое оконце, что под самым потолком располагалось. В паутине измарался, чихнул пару раз. И ахнуть не успел, как вытянуло меня наружу – только мыши летучие, да вороны матерые в стороны от крыши шарахнулись, мной потревоженные. Закурлыкала вся эта нечисть так тягостно, что я чуть не поседел от страху. Думал, покусают меня, али глаза выклюют. Ан нет: адская свора темной тучей опала к земле, словно подбитая, а после взвилась с плачем и клекотом и полетела в сторону Черного леса. А я в другую сторону кувыркнулся. И да… Виктор мне на прощание только ручкой снизу помахал.
И понеслось. Под ногами поля какие-то вроде мелькали, леса, земля за шиворот сыпалась, вода хлестала, как из кишки пожарной. Сначала, братцы, я летел, а потом будто на лошади рысью скакал. Инда лошади-то я не видел под собой, но знаю точно, что на ком-то скакал. Пару раз по морде ладонь чья-то хлопнула, опосля прямо ниоткуда баба незнакомая сотворилась. Да как… на пустом месте в небе иголочка ушком серебряным сверкнула, а к ней ниток шелковых моточек подкатился. И принялась та иголочка двигаться быстро так, легко, да ловко – будто чья-то искусная рука ею правила-водила. Однако самой вышивальщицы и в помине не было, хоть все гляделки прогляди – ан пустое место пред тобой. А иголка сама собой, окаянная, движется. Глянул: мать честна – баба из ниток вышилась и ожила, будто отклеилась от полотна невидимого. На голове платочек гороховый, сарафан красный. А ликом вышла баба неказиста – нос курносый, рожа кривая. Видать, иголочка не так края сметала, что физиономию у бабы скособочило и рябью повело. Заморгала бабища глазами, от стыда потупилась, дескать, не виновата, что так получилась. «Вот, дьявольщина, – думал я. – Вроде как живая баба, но опять-таки из ниток шитая». Все мне тряпки, да нитки мерещатся. Доторговался придурь суровским товаром! А бабу ту еще сильнее повело, скомкало всю, нитки треснули. Кто-то невидимый холстинку на клочья изорвал. Пропала вышивка, будто и не было ее.
Опосля поволокло меня ниже: к самым деревьям и кустам. Руки ветками оцарапало, в рот листья попали, и даже птаху какую-то заглотнул ненароком. Насилу выплюнул, чуть не задохся. Все плевался, да кашлял, словно чахоточный. Уж и духом травяным в самое лицо пахнуло. Смотрю: луг ночной предо мной, туман стелется. Впереди лес еловый. Навозом потянуло, по ноге что-то шоркнуло: чья-то корова рыжая, с рогом обломанным, мимо прошагала. Траву ела. Я было за ней, дурень, кинулся, так она замычала протяжно и в тумане скрылась. Колокольчик ее еще долго тренькал в полнейшей тишине.
Спустя время совсем отяжелел, ноги в землю уперлись. «Ну, наконец-то, причалило», – подумал я. Осмотрелся: куда идти – не знаю. Впереди лес темнеет, в стороне луг. Вроде и светать стало, и туман растаял, а яснее обстановочка не стала. Пошел я в сторону ельника. Пару верст отмахал, а лес тот ближе не становится. Кажется, что не иду я, а на одном месте топчусь. Устал, сел прямо в траву высокую. Сморило, повалился набок и снова задремал. Чую, кто-то за плечо трясет легонечко – будит. Открыл глаза – рядом бабка старая сидит. Такая уж ветхая бабка – сгорбленная, словно коряга лесная, в рванине, али во вретище[39]39
Вретище – рубище, одежда из грубой, толстой ткани.
[Закрыть] и платке черном. А я ей: «Бабушка, ну, слава богу, хоть одна жива душа. Скажи, голуба, куды меня занесло?» А бабка молчит, да супится. Смотрю: она из-под подола вытащила котомочку дорожную, веревки развязала, ручонка трясется худая, краюшку хлеба выудила.
«Ну, – думаю, – бабка, видать, глухая совсем. Побирается, горемычная, по миру».
Молчит, а сама ртом беззубым хлебушко жует. Недолго это длилось, развернулась бабка, пальцы черные, с ногтями острыми, протянула и этими самыми пальцами мне в рот мякиш грязный запихнула – я снова чуть не подавился. Пока плевался, она прыгала и скалилась, словно бесовка. Откуда-то и прыть у старой ведьмы взялась. Как наскакалась, так оторвало ее, болезную, от земли – вжик, и тоже в небе пропала. Снова стемнело вокруг, и ветер поднялся. Кто-то невидимый бубном шаманским зазвенел, и монисты медные перед глазами засверкали. И кинул мне кто-то в лицо горсть этих монист, а может, монетки-то были. Не знаю, не помню. А после снова в сон меня ухнуло…
Чую, опять за плечо трясут.
– Господин хороший, просыпайтесь. Скоро ваша очередь в кабинет заходить.
Я глаза-то открыл. И сызнова не разумею ни шиша. Глядь, сижу я в каком-то коридоре. Головой тряхнул: то ли я проснулся, и владения Виктора, и замок, и все вы мне приснились, то ли, наоборот, в какой-то новый сон нырнул. Но вокруг все явное, не как во сне деется. Пахнет канцелярией: гуталином, сургучом, бумагой писчей, чернилами, деревом, сукном пыльным. Я снова огляделся: по виду, вроде, сижу я в каком-то месте присутственном. То ли «отделение» какое, толи «департамент» – шут его разберет. По коридору ходят господа важные, чиновники, да все с бумагами, на бумагах гербы синеют, да с печатями. А у кого и папки цельные подмышками торчат, снурками гарусными перевязаны. Все, как один, в зеленых мундирах, воротники малиновые, нитью золоченной листья на них вышиты, пуговицы серебром отливают, а кто и без мундира, так в сюртуках ладных – хорошего сукна, сразу видать. Лица у всех сурьезные – ни на какой кобыле не подъедешь. Все говорят тихо – головы друг к другу наклонят, словно китайские болванчики, бровки поднимут и что-то важное шепчут. Что? – не разобрать. Не иначе, как тайны государственные обсуждают. Посекретничают, зажмурятся от удовольствия, друг дружку за локоток подержат, ножкой шаркнут для политесу, и пойдут далее бочком, бочком. Думаю: «Как спросить-то у кого, где я нынче очутился? Погонят еще чего доброго. Скажут: а ты-то, как сюда попал, дуболом рязанский? Ступай, свиное рыло, на улицу. И вытолкают в шею. Ну, уж нет. Я и сам отсюда потихонечку смоюсь».
И только я привстал, как шасть, невесть откуда, рядышком со мной, на свободный стул, плюхнулся какой-то невысокий господин, наружности неприметной и одет неряшливо.
– Ах, Макар Тимофеевич, насилу я отыскал вас, дорогой вы наш.
– А чего меня искать? Вот, он я…
– Помилуйте-с, я уж, почитай три месяца, как вас ищу, – противным голосом затараторил он.
– Кто три месяца? – спрашиваю я и таращусь на него, как баран на новые ворота.
– Как кто-с? Да я, – отвечает незнакомец.
– Зачем?
– Макар Тимофеевич, дорогой мой, дело собственно, вот в чем: дядюшка ваш, Пантелеймон Захарович Булкин, полгода тому назад преставился и завещаньеце на вас оставил.
– Как так преставился? Когда?! – выпалил я и соскочил со стула.
– Тише, Макар Тимофеевич, вы присядьте, голубчик, я по порядку вам все изложу.
Какое там – по порядку! Я чуть с ума не сошел, узнав о кончине моего дяди. Он ведь и был единственной душой ро́дной после смерти батюшки. А тут такие новости, будто обухом по голове, слезы закипают, глаза света белого не видят. Сижу весь в смятении, а незнакомец ручонку махонькую, да короткопалую мне на колено положил, глаза потупил, перекрестился и вздохнул тяжко – будто горю моему сочувствует от души. И только тут я сумел разглядеть внешность того господина. И до сих пор вспоминаю, что каждый раз он по-разному выглядел… А в тот раз, при первом знакомстве, он поглазился мне обычным мелким стряпчим, чинушей низкого пошиба. И сюртучок-то на нем поношенный, на груди коробом дыбился, и брючишки мятые, из сукна дешевого, и штиблеты стоптанные, словно тысячу дорог ножки короткие протопали. А с лица был он бледен, губы тонкие, глазки мелкие, выцветшие – даже цвета не запомнил. Нос туфелькой, черт знает, какой формы – то ли короткий, то ли длинный, не разберешь толком. Голова, словно кочан капусты, да плешивая вся… Крапивное семя. Наружности мерзкой господин тот оказался. Я отчего так подробно рассказываю про него, потом уразумеете. Ибо, он и виноват во всей мерзости, что со мной приключилась. Но не стану вперед забегать.
И снова ручонка мелкая мне на колено легла, я дернулся. А он папочку картонную открыл и бумагу какую-то вынимает. Пред глазами почерк знакомый мелькнул. По буковам круглым я тот почерк из тысячи узнаю. Это была рука дядюшки моего – Пантелеймона Захаровича.
– Макар Тимофеевич, для начала, я хотел бы представиться. Меня зовут Гришкин Лука Никанорович. Я судебный исполнитель, назначенный нотариусом по завещанию вашего покойного дядюшки.
– Вы мне толком-то скажите, что с дядей моим стряслось?
– Ах ты, батюшки, а вы чай и не знаете? Неужто не слыхали? Ну, хорошо-с. Дядюшка ваш, Пантелеймон Захарович Булкин, умер от ножевых ранений, кои были нанесены злодеями, что его обоз с товаром ограбили. Ехал ваш дядюшка торговать в Москву по дороге из Рязани, и такое несчастье с ним приключилось… По делу о разбойничьем нападении на него и друга его, купца Мартына Иванова, прошло следствие, но, увы, душегубы до сих пор не найдены. Было подозрение на беглых крепостных князя Михайловского, что уже два года по лесам рязанским скитались, думали и на олончан бродяжьих, но явных улик сыщики так и не сыскали, да и разбойники те с места насиженного снялись и уехали в неизвестном направлении. Двух беглых с завода все-таки поймали, допрос учинили, ноздри вырвали, клеймили, но правды так и не дознались. Они только мычали в ответ. Ни вещей, ни денег дядюшки вашего при них не оказалось. Грешили и на татарина одного бедового, дебошира и воришку Мустафу, по кличке Беспалый. Дескать, видел кто-то в его доме два отреза шерстяной ткани, выделки нижегородской. Но и тот – в означенное время у околоточного за дебош пьяный сидел. – Гришкин вздохнул уныло, шмыгнул носом для порядку и продолжил: – к счастью для вас, Пантелеймон Захарович аккурат за месяц до оного происшествия, успел составить завещаньеце, будто предчувствовал сердешный погибель свою скорую.
– Вон оно что, – выдохнул я.
И такая жалость меня взяла, как вспомнил я родственника своего, что не смог сдержаться – слезы так и хлынули потоком из глаз. Я же плоть от плоти его, кость от кости. А судебный исполнитель Гришкин пуще прежнего принялся утешать меня.
– Не стоит так горевать, Макар Тимофеевич. Оно, конечно, родство – дело святое, однако же, дядюшку вашего уже не вернуть, а вам меж тем о делах надобно-с подумать, в права собственности вступить, деньги в банке принять. Почти, без малого, четыре миллиона ассигнациями, векселя казначейские, пай в купеческом банке, хозяйство, фабрику суконную, фабрику ситценабивную и шелковую, три текстильных магазина, галантерейный магазин, две маслобойни, склады с товаром, три парохода, солеварню близ Астрахани, три дома каменных, конюшню с рысаками, я еще не все, кажись, назвал.
– Чего, чего? – я будто поперхнулся, и слезы вмиг высохли. – Какие еще миллионы? Какие пароходы? Какие рысаки? Вы что-то путаете. Не было у моего дядюшки отродясь такого богатства. Три лавки суконные были в торговых рядах на Ильинке, да мастерская по пошиву одежи рабочей, да склад с тканями, дом под Рязанью. Скотина, правда, была кой какая, три лошади. Но что бы рысаки… Какие еще рысаки?
Мне даже полегчало немного. Ну, думаю, ошибаешься ты, крыса канцелярская. Может и помер чей дядюшка миллионщик, однако же, не мой. Я аж рассмеялся от радости, словно дурачок.
– Нет, братец, иди-ка ты подобру-поздорову, покамест не огрел я тебя от избытка чувств. Путаешь ты меня с кем-то… Чай, фамилию убитого купца перепутал, суматошная твоя душонка. Ходишь, людей без толку волнуешь, – уж я и встал, да выйти захотел, будто разговор-то окончен.
– Присядьте, Макар Тимофеевич. Никаких ошибок нет, – возразил этот Гришкин голосом решительным. Сказал, как отрезал. – Посмотрите завещание и убедитесь, что ваш дядюшка самолично эту бумагу выправил.
Эх, думаю, вот же, снова не сходится: почерк-то и впрямь дядюшкин.
И тут кто-то в глубине коридора выкрикнул мою фамилию, очередь взволновалась, и все людишки подневольные разом ко мне поворотились. Ага! Гляжу, будто и не лица то вовсе, а рыла свиные, да песьи и куньи, и даже птичьи клювы али рты жабьи на меня глядят, сопят, гудят по-звериному. И все дружненько кивают, шикают: иди, мол, твоя очередь в кабинет-то ступать. И Гришкин этот шепчет в самое ухо: «Макар Тимофеевич, вот и наш черед пришел. Если позволите, я с вами зайду – подпишите и мои бумаги от нотариуса о наследстве вашем – вашем-вашем».
По коридору дым откуда-то синий повалил. Облака мудреные возле рожи загустели, словно лохматые куски сала топленого, али воску пчелинного, гуталином запахло, дегтем. Все вокруг замедлилось, закуржавело, стало каким-то кондовым. Глянул на Гришкина, а он будто окунь, глазки выпучил, рот разевает, а звуки не идут. И меня от всех этих паскудств снова дрема одолела.
Спустя пару минуток на ухо конь вороной ржанул, али сыч захохотал, и кто-то невидимый меня встряхнул за шиворот. Хошь не хошь – глаза-то я раскрыл. Гляжу, вернулось все разом: домина казенный тот же, с коридором узким, стенами белеными, да очередь и сутолока те же. Зверьё, однакож, пропало, а на их местах снова люди обычные сидят – чиновники мелкие, да торговые людишки, тетушки в чепцах – каждый ждет, когда его фамилию выкрикнут, да в кабинет пригласят. Ну и мне пришлось сызнова на скамеечку присесть. Чем я лучше-то? Все сидят, молча ждут. Видать, и мне ждать надобно. И Гришкин тут как тут, снова подсел тихонечко: «Хватит спать, Макар Тимофеевич, счастье свое проспите-с. Пора!»
И маета меня оставила, будто с запоя протрезвел. И туточки, как раз, двери дубовые распахнулись. И зовут меня в кабинет. А зашел внутрь и оробел. Кабинет-то огромный. На полу паркет палисандровый наборный, стены мраморные, всюду канделябры медные горят – по дюжине свечей каждый. Впереди стол блестит, глянцевый вощеный, орехового дерева. Вокруг стола стулья мягкие, гобеленом обшиты, со спинками резными. А с самого краю другой стол притулился – зеленым сукном покрыт. На нем приборы мудреные: чернильницы серебряные с перьями, нож для бумаги с ручкой малахитовой, пресс из яшмы, серебряный поднос для мелких донесений, печати деревянные и чугунные, папки кожаные, карандаш костяной. Вспомнил: еще часы старинные тут же стояли, с виньетками, да пастушками. А из-под стола, словно черт из табакерки, вылез господин важный, седой, с бакенбардами, в мундире зеленом с эполетами, да воротником малиновым, в золотом пенсне. Может, он до этого с полу что поднимал. Только когда зашел я в кабинет, за столом никого не было. А тут раз – и появился. Позади него будто пламя полыхнуло, и гарью запахло. Присмотрелся я, а это – камин высокий – в два человечьих роста, и дрова в нем жарко горели.
И никак я в толк взять не могу, что это? Куда я попал? То ли это повытчик[40]40
Повытчик – (устар.) – должностное лицо, ведающее делопроизводством в Приказе.
[Закрыть] какой, то ли начальник отделения, то ли начальник целого департамента, судя по важности и дороговизне обстановки…
Еще пуще я оробел. Чувствую, сзади меня снова Гришкин толкает в спину и шепчет: «Не бойтесь, Макар Тимофеевич, теперь ваше время пришло, господам диктовать…»
А начальник седовласый голову от бумаг оторвал, губами пожевал и говорит строго:
– Кто вы, господин хороший? По какому делу? Представьтесь, для начала, ибо времени нет у меня, в молчанку с вами играть.
Не успел я рта раскрыть, как Гришкин метнулся прямо к столоначальнику и зашептал тому что-то в самое ухо. Тот сразу в лице изменился, пенсне рукой оправил, физиономия в улыбке расплылась:
– Ах, это вы, любезный наш Макар Тимофеевич! Что же вы стоите, будто не родной? Милости прошу, – он соскочил с места, руки протянул и пригласил садиться прямо к его столу. – Располагайтесь, Ваше Степенство, располагайтесь.
– Помилуйте, какое ж я степенство? – прохрипел я, да видно покраснел, как рак в кипятке.
– Как это, какое? Самое, что ни на есть настоящее, – и засмеялся как-то гаденько. И Гришкин вместе с ним тоже засмеялся. – Я бы даже сказал Высокостепенство!
Я присел к столу на стул с резной спинкой. А столоначальник продолжил:
– Вот, Макар Тимофеевич, пришел ответ на ваше прошение о причислении вас к купечеству «Первой гильдии». Получите свидетельство.
И не успел я и глазом моргнуть, как он подает мне бумагу гербовую. Глянул я в нее, а пред глазами буквы прыгают, одно понял, что в свидетельстве значилось, будто теперь я – купец «Первой гильдии». Вон оно как! Из третьей сразу в первую шагнул. И за какие такие заслуги-то?
А седовласый застрекотал что-то важным голосом про купеческие династии, и про «Положение о товариществах по участникам или компаниям на акциях», и о каких-то акционерах, что ждут, мол, меня давно. И об акцизах, о торговых пошлинах, о мелкой и оптовой торговле, о гильдейских списках, в кои я непременно внесен буду, об именном реестре, о промысловых свидетельствах, о магазинах, казенных подрядах и прочей чепухе непонятной. Упомянул он какие-то прииски, и соледобычу, и дядюшку моего помянул не единожды. Сказал про мануфактурные торги и что, мол, я в них принимаю участие…
Много чего успел наговорить этот столоначальник. Я толком не понял ничего. А Гришкин в это время мне бумажки какие-то подсунул и велел всюду расписаться. А после они меня поздравили с получением наследства и вступлением в «Первую купеческую гильдию».
Столоначальник привстал слегка, живот толстый выкатил, а на животе пуговицы золотом горят, к сукну зеленому ладно приторочены. И цепочка от брегета тоже золотая, толстенная, через все пузо топорщится…Улыбается одобрительно, головой кивает. Но чую я: что-то неладное. Будто водой кто плесканул. От пола духом прелым понесло, словно из портомойни. Я голову-то наклонил под стол незаметно, гляжу, а ноги столоначальника не в сапоги обуты и не в штиблеты, а голые, да волосом длинным покрыты. Не человечьи ноги-то, а зверя какого, до того мохнаты. И держит он их в тазу, а вернее не таз-то вовсе, а лохань банная, грубая, плохо тесанная с ободом ржавым. Парит ноги, видать… И главное: с чего, прямо на службе? Да и запах не барский идет… А прямо скажу: вонь такая, что и не во всякой казарме такой дух-то тяжкий. Подивился я немало, но виду не подал.
А дальше что было? Дальше завертелась карусель еще быстрее. Вышел я из Присутственного места, а предо мной уж извозчик на пролетке новехонькой сидит. Лука Гришкин подскочил, плюхнулся на сиденье и мне кивает:
– Макар Тимофеевич, чего встали-с? Садитесь, это я велел подогнать. Сейчас к вашему дому поедем.
Проехали мы с десяток домов, церковку миновали. Я все в окошечко глядел и никак не разумел, что за город, что за губерния такая? Вроде как Рязань моя, а вроде и нет. Еще две улочки промелькнуло, прикатили мы к дому трехэтажному, кирпичному, белой побелки. Крыша красная, охлупень[41]41
Охлупень (шелом, конек) – деталь крыши в традиционном русском жилище. Охлупень изготовлялся из целого бревна в виде буквы V в сечении; конец бревна зачастую вырубался в виде головы коня.
[Закрыть] в виде коня с раззявленной пастью, окна большущие, веранда резная, палисадник, яблони цветут, сирень. Я о таком-то доме и мечтать не мог. Выскочила прислуга: все больше бабы, да все нестарые, бойкие и аппетитные на вид. Были среди них и три мужичонки, но все неказистые: рябой дворник, кривой истопник, да хромой кучер. Других, вроде, не наблюдалось. Но скумекал я сразу: жены-то нет, и детишками тоже не пахнет… Стало быть, холостой я тут. Это сейчас мне думается: «Как не смутился я от обстоятельства того? Как за должное принял холостяцкую жизнь свою? Грешен, други: вроде, как душонка моя даже обрадовалась вольной жизни. Мол, сам себе хозяин. Такой я, братцы, окаянный подлец на поверку вышел – забыл и о Груне и о доченьках своих пригожих. Обо всем забыл напрочь, как с Гришкиным этим связался…»
Ну, а дальше что? Дальше Гришкин Лука мне и говорит: «Если вы не против, Ваше Степенство, я готов пожить с недельку в вашем новом доме, ибо ехать мне по казенным делам еще рано – нотариус мой, Арон Фогельзанг, которому я служу, укатил на воды с супружницей. Меж тем у нас с вами еще кое-какие дела бумажные имеются. Если хотите, я вас и в курс дел дядюшкиного наследства введу, хозяйство новое покажу, на фабрики вместе съездим. И визиты к градоначальнику, судье и почетным жителям города у нас запланированы. Вам же обживаться надобно-с. А в этом деле я для вас и есть ныне лучший советчик.
Я глянул Гришкину в харю, а он изменился – то ли помылся, то ли переоделся. Где? Когда? Черт знает – вроде при мне все время находился. Подивился я чародейству такому: стоит предо мной молодец, а не плешивый чинуша. И у молодца этого лицо словно похорошело, плечи распрямились, и глаза не кажутся такими уж маленькими, и волосы чистые по голове закудрявились, будто в цирюльню успел сбегать, и сюртук клетчатый и брюки – все новое, все по фигуре, и кажется, росту и весу даже прибавилось. Прямо светский франт – ни дать ни взять.
Ладно, думаю, пущай поживет у меня. Я сам-то не все разумею, вдвоем легче разобраться будет: и с рангом новым, и с хозяйством, и с бумагами.
А дальше обед нам подали. Да еще, какой обед-то! Уху стерляжью, и пироги мясные, и паштеты пяти видов, и закусок до дюжины, и разносолов и водки немерено. Закусили мы плотно с Гришкиным и захмелели чуток. А Гришкин этот во время трапезы нашей пару анекдотцев рассказал, новости местные – откуда только ведал он про все. Рассказал мне о городском Голове, о членах городской Управы, о местном судье, о купцах и горожанах именитых. Я, конечно, не все сразу запомнил, но представление кой – какое получил, кто в энтом городе чем дышит, да кто самый знатный, да при средствах, а кто только форсит для виду, имея на поверку долги, да недоимки.
А во время обеда, скажу я вам, сидели мы в столовой. И мебель в доме дорогущая: стол круглый обеденный, стулья шелком полосатым обтянуты, диван такой же, канапе на кривых ножках. Камин с виньетками золочеными, канделябры по дюжине свечей, статуэтки фарфоровые. Шкап из дерева красного, а в нем фарфору севрского ни на одну тыщу рублей. А под ногами ковер персидский – ворсу в три вершка. На стенах картины с кралями румяными. А крали те в кружевах и кудряшках, с кошками, да с бантами на руках. Ё-мое, думаю: да, неужто мне такое богатство привалило?
Забыл сказать: за столом нам такие павы прислуживали. Одна лучше другой: спелые бабочки, как на подбор. Груди у всех, словно арбузы молодые с бахчи, зады тоже крепкие, глаза веселые, щечки алые, а уста сахарные. Насчитал я их с пяток. И черненьких две, и беленьких две, и рыжих, вроде, две. И одеты все чисто: в кофтах нарядных, юбках кумачовых, да плисовых. Девицы те на стол блюда подавали, и кажная смотрела не меня так ласково, будто любила больше жизни. Ажно кусок у меня изо рта вываливался от взглядов знойных.
– Не дивитесь, Макар Тимофеевич, вы теперь богач наипервейший в городе, миллионщик. Эти красавицы – горничные ваши. Они крепостные и оттого в вашем полнейшем распоряжении теперь. Это я их подобрал к вашему приезду. Любы они вам?
– Помилуй, Лука, да где ж ты столько красавиц-то набрал? В каких краях сыскал? Они же все, словно дочери царские, как на подбор. Неужто крепостные мои? И документы в исправности?
– Документы, купчие – все в порядке. Самолично потом убедитесь. Я за документами завсегда строго слежу. Я ведь до службы у нотариуса и маклером служил, и приказчиком у господ Шенкер. Да тут еще не все ваши крепостные. Там еще девы есть. Они в девичьей сидят. Не приказано было пока покидать.
– Слушай, Лука, я запамятовал, как тебя по батюшке?
– Никанорович, – отозвался Гришкин, глядя на меня ласково, мягонько, словно друг он мне давнишний.
– А ну, правда! Лука Никанорович. Слухай, Лука Никанорович, ты бы подольше пожил у меня? А? Мне же тепереча, ой, как приказчик толковый нужен. Мне одному-то не с руки разбираться во всем. Оставайся у меня насовсем. А?
– Макар Тимофеевич, ваше Степенство, я не могу… Вот вернется мой душеприказчик, Арон Фогельзанг, а меня на службе нет. У меня ведь, окромя вашего, еще есть пару делишек о наследствах. И не уговаривайте, я – человек долга. И права не имею, так поступать…
– Да, ты погоди, Лука, не отказывайся, – стал я его улещивать. – Ты какое жалование у Арона свого получаешь?
– Нет-нет, ваше Степенство, сие – тайна коммерческая. У меня прав-с нет посторонним докладать о суммах моих гонораров.
– Уж я-то тебе и посторонний? – не унимался я спьяну. – Разве не вместе мы сидим, пьем?
– Оно, конечно, так. И все-таки, я человек чести и права не имею…
– Молчи, Гришкин. А что, ежели, я буду тебе платить в три раза больше, чем твой Арон? А? Что ты на это скажешь?
– Помилуйте, ваше Высокостепенство… – забормотал Гришкин, но глазки у него вмиг сделались маслеными.
«Ага, – думаю, – врешь, каналья, про честность и неподкупность свою. Всё, милай, свою цену имеет».
– А сумму жалования потом сам назовешь, – ляпнул я сдуру.
– Ну, хорошо, Макар Тимофеевич, я подумаю, – скромно ответствовал Гришкин.
Незаметно сумерки наступили.
Потом мы на радостях выпили шампанского и разошлись по опочивальням. А надобно сказать, что в новом доме комнат у меня оказалось без счету. И обстановка всюду дворянская, али княжеская – мебеля дорогущие, диваны, этажерки, кресла, пуфики шелковы, гераниумы, да фикусы, клетки с канарейками, ковры затейные, картины с ангелочками кудрявыми, да с кошками разных мастей…
Зашел я в свою опочивальню. Гляжу: комната большая, да вся шелку. Шторы голубого шелка с кружевами белыми, кровать арабская с покрывалом атласным. Подушки пуховые в три ряда, и обычные с виду и круглые. И все-то дорогущее.
Не успел я нагнуться, чтобы сапоги-то стянуть, как из соседней светелки выплыли две девицы, красоты неописуемой, и одеты как-то модно, но вроде небрежно. То ли халаты на них шелковые заморские были надеты, то ли платья широкие, только вся одежа разъезжалась – то нога холеная обнажиться, то плечико, то рука по локоток. И стали мои горничные с меня сапоги сымать. А потом и кафтан и штаны. Раздели меня до рубахи исподней. Две другие бабы, что покрепче, занесли прямо в комнату лохань огромную, натаскали туда воды теплой, усадили меня в неё, намылили всего, да чистой водой окатили. Да и какие блудницы наученные. Каждая из баб так и стремилась в воде уд мой тронуть, тормошили перстами-то. Подняли меня во весь рост, а он, мерзавец, стоит уж оглоблей примерной. Да так, что обомлели мои банщицы и вытаращились, словно не видали никогда хозяйства мужеского на изготовке.
Две, что вначале сапоги снимали, засмущались и отскочили в стороны. Стоят и глаза поднять боятся. А та, что постарше, и говорит:
– Макар Тимофеевич, Варвара и Матрена еще девы, им в диковину такое счастье… Они уда мужеского живьем еще не видали. А я учить их приставлена. Меня Степанидой все величают. Я – вдовица. Мне уж тридцатый годок пошел.
Я аж крякнул от неожиданности. А Степанида крикнула девкам строго:
– Чего, дурехи, рты раззявили? Подите сюда: учить вас начну, как барина нашего ублажать. Вы сюда приставлены, чтобы не студиться, а кункой споро шевелиться!
Недолго думая, Степанида эта – а я скажу, что баба она крепкая была, сбитая, брови черные, глаза, что две вишни на ветке – подхватила пуфик шелковый. Взлезла на него коленками, привлекла меня умело, уста ее горячие, да жадные к уду моёму присосались, что пиявка трясинная. И хоть молодец-то мой не мал размером, однакож и глотка у Степаниды, что колодец – так весь уд и вошел до конца. А она головой задвигала ловко – девки аж ахнули… А для меня такое райское блаженство наступило, что и трех минуточек я не продержался… Грехом сладким изошел. Всю глотку энтой бабе, премудрой, залил. Чуть не поперхнулась. Встала, отерла губы и говорит:
– Вот так, девки, учитесь пока жива, как мужика ублажать надобно. Это лишь вам первый урок. Завтрева другие будут.
А я стою, аж голова кружится и коленки дрожат. Обсушили меня Варвара и Матрена полотенцами, надели рубаху чистую. И почивать уложили. А сами не уходят. То одна мимо пройдет – подушку поправит, то другая ночной горшок принесет, то третья квас тащит. Лежу я и чую, что снова приперло, да так, что аж одеяло приподнялось. А девки пялятся и в кулачки прыскают. Я думаю, а чего это мне, да в собственном доме, бояться? Гришкин сказал же, что то крепостные мои, значится в полном моем распоряжении девы эти…
* * *
В этом месте Булкин внезапно прервал свой рассказ, будто очнулся от дремы. Он смутился и огляделся по сторонам. Трое его собеседников, включая госпожу Худову, слушали рассказчика внимательно, полуоткрыв рты.
– Ты чего остановился, Макарушка? – спросил Владимир осипшим голосом.
– Продолжайте же, Макар Тимофеевич. Нам всем очень интересно, – поддакнул Травин.
А Худова только судорожно сглотнула и отпила глоток зельтерской из своего бокала. От «герцогинюшек» со сливками и шоколадных корзиночек на тарелке остались одни крошки.
– А может, ну его? Я с вами заболтался тут. Несу какие-то скабрёзности. Говорить начинаю и сам себя не помню. Срамота, похоже, да и только весь рассказ-то мой, – огромная ручища поскребла русый затылок рязанского купчишки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?