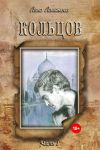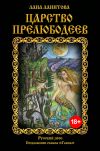Текст книги "Блуждание во снах"

Автор книги: Лана Ланитова
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Макар, а ты тут не в благородном собрании речи толкаешь. Я уж поминал, кто мы нынче. Здесь каждая тварь талдычит о том, что чем будем мы откровенней, тем, дескать, для нас же лучше. А потому не останавливайся, прошу тебя, – успокоил его Махнев.
– Макар Тимофеевич, а вы теперь и вправду купцом первой гильдии стали-с? И правда, вам дядюшка наследство оставил? – неловко поинтересовался Родион Николаевич.
На что Булкин прошил его огненным взглядом:
– Ну, ты дослушай, ученая твоя голова. А потом и вопросы свои глупые задавай, – он буркнул матерное слово, плюнул, покраснел, заерзал на стуле. А после соскочил, ударил себя по бокам. – Нет, не дослушал, а туда же – вопросики задает.
– Макар, сядь и успокойся. Чего ты кипятишься? Кому прок от твоих волнений? Третья или первая гильдия – не все ли равно? Мне это ровным счетом безразлично. А вы, господа, иного мнения?
Худова и Травин отрицательно мотнули головами.
– Макар Тимофеевич, просим вас, продолжайте, голубчик. Нам всем очень интересна каждая деталь вашего рассказа.
После этих слов Худовой Макар как-то успокоился, присел к столу. Он пододвинул к себе бутылку Шустовской, налил полную рюмку, выпил залпом. Бутерброд с ветчиной отправился следом за водкой.
Прожевав бутерброд, Макар вздохнул, взор его вновь сделался холодным, почти отрешенным, он будто снова погрузился в какую-то дрему.
– Черт с вами, расскажу. Одно не пойму, зачем мне все это…
* * *
Продолжение рассказа Булкина Макара Тимофеевича, купца третьей гильдии:
И вот, как только я осознал, что все в доме теперь моё: и девки, и бабы тоже по сути рабыни мои, я разом осмелел. Рука моя выскочила из-под одеяла и цапнула сначала Варвару. Она ойкнула и зарделась, что маков цвет, рукавом лицо прикрыла. А я, словно бы озверел: сорвал с нее одежу шелковую и бросил на кровать широкую. Как увидел перси ее медоточивые, живот круглый, ляжки сбитые, да глаза васильковые, бездонные – не стал долго ждать. Ноги длинные раздвинул, к себе подтянул и вошел в нее, в тугую… Сразу понял: дева она. И кровь на шелковой простыни показалась. Варвара опосля плакала по-девичьи. Я утешил ее, но без особого рвения.
А через пять минут зашла в комнату Степанида.
– Варвара, чего разлеглась, как коровища? Чай, не телилась ты ешо. Дело сделано, ступай в девичью. Там бабка Лексевна скажет, чего делать.
Варвара встала, словно пьяная, и в девичью удалилась. Я полежал с четверть часа. А Степанида тут как тут.
– Прикажете, барин, еще одну привести?
– Веди, коли не шутишь…
– Вам девку снова, али бабу умелую?
– У тебя сколько там девок-то непорченых осталось?
– Довольно ешо.
– А они, случаем, не чьи-то невесты? – обеспокоился я.
– Нет. Приказчик тщательно подбирал вам горничных и девок. Никаких проблем с имя не будет. Они в полном вашем распоряжении.
– Так, я что теперь, навроде султана иноземного?
– Слов таких я не знаю. И не слыхала, кто таки́ султане? Народ что ли, какой? Но по вашим деньжищам вам теперь многое позволительно и чести много, – молвила она и ручку мою поцеловала.
Я оконфузился немного.
– Ну… Веди тогда снова девку.
Степанида усмехнулась и воротилась со второй красавицей, Матреной. Матрена уже нагая была, волосами темными, шелковыми прикрывалась.
– Порти, батюшка, да так, чтобы другим не осталось, – хмыкнула Степанида дерзко. – Порченная девка хорошей бабой будет.
Я и вторую оприходовал, да так, что криком кричала бедная Матренушка. А вошел я в нее, раком поставив. И срамно это, но страсть зверская во мне еще пуще разгорелась.
Не поверите, за тот вечер я пять дев невинности лишил. Опосля дев, ко мне Степанида жаркая в постель нырнула, принялась молодца снова взбадривать. Уж она сосала его, да гладила, дергала, да дро́чила. Встал-таки, окаянный. И на Степаниду я залез, и ее нутро потешил. Баба она и впрямь матерая выдалась: полная, да пахучая – так меня подбрасывала на себе, так лисой вертелась – то сидя, то стоя, то на карачках, что семь потов с меня сошло. А Степанида как взвыла от радости бабьей, что мой уд в ней, словно в капкане замер… Я уж и не шевелюсь, а она все одно: блажит во весь голос. Аж девки любопытные из-за шторки выглянули. Опосля упал я, словно мертвый, и заснул крепко. Перед самым сном, в тумане, увидал я Гришкина. Тот стоял рядом с кроватью и хихикал одобрительно. А может, померещилось мне.
Утром проснулся я от щебета птичьего – это по всему дому канарейки пели. Да звонко так, переливчато. Я вообще птичек-то люблю. Ловил их много по младости лет: и щеглов, и галок, и соловьев. Помню, как садки, да приманки для птиц мастерил.
Ну, отвлекся я. Утром за завтраком Гришкин и говорит:
– Макар Тимофеевич, сейчас мы с вами поедем принимать товар. Пришел пароход с мануфактурой. Я вас с капитаном познакомлю, распорядимся и насчет тюков с грузом.
Прикажем все к буяну[42]42
Буян – торговые амбары на пристани, а также сама пристань.
[Закрыть] сгрузить. Я ластовому[43]43
Ластовой – чиновник по сбору налогов с купеческих судов.
[Закрыть] приплатил чуть более, – подмигнул он, – чтобы всю пристань нам отдали под грузы. Он похлопочет за нас… Надо, надо! Приходится и взятки совать. А то, как же? Потом сходим на фабрики, поговорим с цеховыми, съездим в банк, навестим членов Купеческой гильдии. Да много, куда съездить-то надо. Уж и карета подана.
– Ну, оно понятно, – важно вторил я, стараясь выглядеть как можно убедительней. – Ты суй взятки-то, ежели берут…
– Макар Тимофеевич, да кто же нынче не берет-с? Все берут, кто при должности. Я и суммы в расходники под отдельной графой вписываю. А как же-с? Везде свой порядок должон быть, даже в этом. Чтобы вы знали, что для Луки честность – превыше всего.
И поехали. Весь день в кутерьме прошел. Много, куда съездили.
И пароход я свой в тот день видал. Построен он был в Голландии, почти 200 лошадей силища его, 120 футов длиной. Он и баржу огромную с товаром мог тянуть. У меня аж голова от восторга закружилась, как я на палубу энтого зверя-то ступил. «Неужто это все мое?» – подумал я.
А Гришкин ободряет: «Ваш-с, как есть, ваш зверь этот. И еще два с Астрахани не вернулись».
Да и капитан мне сделал под козырек и поклонился: «Здравие желаю, ваше Высокостепенство! Примите ваш пароходик в целости и сохранности. Мы дядюшке вашему служили верой и правдой – упокой его душу. Хороший человек был, правильный. Лишь царствия небесного и достоин он. А теперь и вам, Макар Тимофеевич, готовы послужить. Котел, гребное колесо, плицы в исправности, палуба чистая, команда вышколена».
Капитан долго водил меня по пароходу, показывал рулевую часть, капитанскую рубку, каюты, трюм, казенку[44]44
Казенка – это отдельная жилая рубка на речном судне, используемая для надобностей команды.
[Закрыть]. Знакомил с лоцманом и матросами. Я всего и не упомнил, да и о судоходстве я разумения никакого не имел.
Вот сейчас я пытаюсь вспомнить, как пароход мой звали-величали. И верите? Словно память отшибло: какие-то буковки золоченые вертятся в глазах, а прочитать память не дает. Эх, бесовская-то забава, от того и не помню ничегошеньки…
Выпили тогда мы шампанского с капитаном для знакомства. А приказчик мой новоявленный, Лука, видя мое замешательство, рапортовал, что он вошел в курс всех ближайших перевозок и о товарах представление имеет. Даже бумаги показал – везде печати, подписи стояли – все чин чином. Успокоил меня, что и к ярмарке мы сукна вовремя доставим, и в торговые ряды, на Ильинку, и в магазины, и лавки галантерейные. И мол, скоро будем с немцами и англичанами торговлю вести – сырье для фабрик покупать. Я только рот открывал, да крякал от умиления, слушая резвые распоряжения Гришкина. И капитан его слушал и команда. А я думал про себя: «Как хорошо я придумал, молодца этого в приказчики к себе позвать. Где бы второго, такого толкового, я нашел?»
Сошли мы с мостков на причал, Гришкин куда-то к буяну бегал, хлопотал о выгрузке. А после поехали на фабрику. Трубы дымят, неба не видно. А в цехах хамовных[45]45
Хамовный – ткацкий (Примеч. автора)
[Закрыть] станки мудреные стоят. Тут и бархат лионским манером ладили и плюш, муары, тафту, сатины, атласы. Вот это уже было по моей части. Я и руками ткани пощупал, и понюхал, и спичкой жег, и плетение смотрел – все по нраву пришлось. А краски-то какие! И на склады сходили – там штабеля рулонов готовых хранились. Под самую крышу накатали. Такая красота, что дух у меня зашелся. Сел я посерёдке склада и аж всплакнул от умиления. Подозвал Гришкина и зачем-то, видно от жадности, велел ему пятьдесят рулонов сукна и шелку со склада извлечь и домой доставить.
– Помилуйте, Макар Тимофеевич, а где мы пятьдесят рулонов-то разместим?
– Гришкин, я тебя для чего нанял? Думай-кумекай сам, куды схороним. А хошь, в сарайке или в чулане сховай, да и комнат у меня сколько… Чего им даром-то порожними простаивать? Мебеля в сторону сдвинь – так не только пятьдесят, а все сто рулонов войдут.
– А зачем-с? Позвольте-с узнать. Отчего бы сукнам на складике фабричном не полежать? У вас еще таких складов до десяти штук наберется: и холодных и теплых.
– Ну, не пытай ты меня, – конфузился я. – А хоть бы и бабеночкам моим платьев пошьем. Их вона у меня скоко, да кажной по три аршина на юбки пойдет. Да ежели и не пойдет – пущай прозапас лежит. А чего? Есть, пить не просит. Схорони, а? Да гляди, ксандрейку-то не хватай… Ты там, того, получше присмотри. Самому-то мне неловко – вдруг худое обо мне, как о хозяине, говорить зачнут, а тебе – в самый раз. Поди, не впервой ловчить.
– С чего это не впервой?
– Ну как же? Сам рассказывал, каков ты молодец – и в пяле и в мяле[46]46
В пяле и мяле бывать – так говорили о бывалом, тертом человеке. Пяло(а) – чем растягивают сукно. Мяло – чем мнут лен, кожу.
[Закрыть], дескать, бывал.
Пятьдесят рулонов цветного шелку, бархата и шерстяного сукна в тот же день доставили прямиком к моему дому. Я ходил меж холодных, блестящих штабелей и гладил их, словно детей ро́дных.
В тот же день мы и по магазинам проехались. Накупил я там себе одёжи разной: сюртуков, фраков, пиджачных пар, рубах тонких – таких вон, как у Владимира Ивановича. Булкин чуточку смутился. Хотел форсистых фраков и сюртуков набрать, да Гришкин сказал, что такие не модно нонче носить, что, мол, моднее узкие, да темного сукна аглицкого. Будто, даже траурные. Ну, да ладно. Мне оно что? Я же не против моды. Галштуков набрал, ботинок с кнопками, с каблуками рюмочкой, две пары сапог опойковых. Да много еще всякого барахла. И Гришкину пару пиджаков в полоску серую прикупил. Потом мы с ним к цирюльнику заехали. Побрили меня, кудри завили, напомадили и припудрили.
Посетили банк. Там я почти ничего не делал. Лишь только на диване зеленом тафтовом сидел и кофий с главным банкиром распивал. А Гришкин все куда-то бегал по конторкам, билеты казначейские подписывал, бумаги какие-то…
Опосля поехали мы в Гильдию купеческую, на собрание. Там зала огромная была убрана богато, стол орехового дерева, канделябры со свечами, ливрейные с подносами в париках пудренных, словно в опере, вазы китайские фарфоровые, кадки с пальмами. Приняли нас почтительно, трости и цилиндры швейцар в красной ливрее у входа забрал. А надобно сказать, что Гришкин к этому визиту велел мне фрак надеть. И хоть непривычно мне было во фраке щеголять – галстук все горло сдавил. Однако таким важным я себя в нем почувствовал, и сидел фрак на мне ладно, по фигуре. Когда по широкой лестнице поднимались на второй этаж, там зеркало пятиаршинное, в бронзовой оправе висело. Как узрел я себя в нем, да во весь рост, то таким себе важным и пригожим показался. Вот думаю, когда она, жизнь-то, богатая началась. И денег у меня мульон. За меня теперь любая дворянка замуж пойдет. Да что там дворянка? Я и сам могу титул дворянский купить или «почетное гражданство». Чем я не князь или не граф? Неужто рылом не вышел? Да я посмекалистее иных господ вельможных буду…
Пришли, сели чинно вокруг стола. Я огляделся: рядом со мной еще кое-какие купчишки расселись: молодые и не очень. Кто-то хорошо был одет, как и я, а кто небрежно – особенно один мордатый – Кириллом Львовичем величали. Так от того овчарней за версту несло. Председатель, старик с белой бородой и в пенсне золотом, сначала меня представил всем остальным членам Гильдии, а после речь держал. Говорил о паях, о ярмарке губернской, о таможенных сборах и тарифах. Обсуждали все бурно. Даже я выступил. Сказал о необходимости защиты нашего брата, русского купца, от засилья товаров английских и немецких. Говорил я много, горячо. Помню, что слушали все меня внимательно. А под конец все зааплодировали, а я крикнул: «Даешь русское сукно и шелк! Долой басурманскую ветошь!». Тут и вовсе все «браво» закричали. А потом снова шампанское пили и тосты за русское купечество поднимали. А Гришкин мне на ухо шептал: «Макар Тимофеевич, да вы у нас какой толковый! И полгода не пройдет, как Председателем вас сделают. А там, глядишь, и до Городской Управы рукой подать. По вашим способностям я вижу вас товарищем Градоначальника, а через пару лет и самим Градоначальником. Местному-то два годика верховодить осталось».
Все эти речи так меня вдохновляли, что аж голова от гордости кругом шла.
А после мы с тем, разудалым Кириллом Львовичем, и еще двумя купцами, и с Гришкиным в местную ресторацию поехали. Заказали там закусок прорву, вина разного, водок фруктовых. Цыган позвали, а после и к девкам поехали, в нумера. Ну, это-то занятие привычно для моей утробы. Помню, мало мне одной-то оказалось. Я с тремя сразу грешил. Помню, что кричал им: «Эх, девки, поиграйте с бубенцами моими, а жеребец вас верхом прокатит». Помню, мамка ихняя сама как лошадь ржала и поперед девок на жеребца моего лезла. А Кирилла Львович, приятель мой новый, таким дураком спьяну вышел, что на шкап залез и лаял, словно пес цепной. Девки визжали, прятались от дурней его. Снизу дворник прискакал, водой колодезной окатил лихотного. Тот вначале затих, а после и выть зачал. Короче, хороши мы были – нечего сказать…
А поутру, с похмелья, я сидел ужо без фрака, в одном исподнем. Пил рассол огуречный и квас с хреном. Гришкин ко мне зашел. Девок я прогнал.
– Лука, а где я давеча фрак-то посеял? – спросил я его.
– Так вы вчера сами его сняли – душно, да туго вам стало. А потом отчего-то полезли к буфетчику, фрак за рукава узлом связали и конфеты с пряниками приказали туда сыпать.
– А для чего?
– Так цыганам отдать хотели-с. Вы и с запевалой ихним голосами мерялись. Оконфузил он вас немного, ибо спор вы вчистую проиграли. Вы сначала бить его хотели, а потом денег ему полный поднос отдали.
– Эвона как. Ну и дурак я.
Гришкин молчал для приличия, но физиономия его сияла, словно яйцо пасхальное, золоченое.
А на другой день снова – пьянки, да гулянки, и Кирилла Львович стал к нам каждый день визиты делать и другие купцы зачастили на обеды. А Гришкин этот все трезвым ходил. И рюмки лишней не выпьет. Все с бумагами моими возился, распоряжения давал, товар сопровождал.
А ночами я, когда дома ночевал, все своих крепостных бабеночек пользовал. Степанида мне каждую ночь по три девы водила. Откуда только брала? Одна краше другой. Да все откормленные – телеса, словно шаньги с творогом. А я знай, окаянный, все порчу их одну за другой – в раж вошел. Будто басурманин в гареме. И чем больше плакали они и боялись по девичьей скромности и невинности, тем похоть во мне еще сильнее разгоралась. А Степанида такая коварная и развратная оказалась, что от иных ее затей, у меня кровь в жилах стыла. Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. Стыдно признаться, бывало и так, что сама Степанида портила девушек у меня на глазах. У нее для того и приспособы греховные в арсенале имелись. Я таких штук там насмотрелся… Она девок моих иной раз так связывала, что всё девичество наружу. И оставляла так часами, в наказание. А наказывала она их по всякому пустяку придуманному. А если девки студились или плакали, она им рты тряпками затыкала….
Помню, читал в «Гиштории», что был такой правитель в Древнем Риме, Калигулой, кажись, звали. И вот, думаю, что тому супостату проделки Степаниды были бы по душе его дьявольской. А я словно заговоренный на все это глядел и попустительствовал. Иногда и Кирилла Львович мне в затеях советы мерзкие давал. Степанида моя и его приладила к разврату богомерзкому. А тот, некошный, и вовсе чудил так, что меня иной раз мутило от дикости его…
Помню, как однажды нажрался я с утра полугара, захмелел и уснул. Проснулся уже в сумерках от бабского гомона и возни. Гляжу, а распутная Степанида уготовила спектакль паскудный и ждала лишь моего пробуждения. Ставни все наглухо закрыла, свечей кучу зажгла. Тени, словно идолища страшные по стенам поползли. Кирилла в кресле засел, трясло его словно в лихоманке, от предвкушения. Буркалы его бычьи в центр комнаты, не мигая, уставились. А там табурет диковинный стоял – высокий, и из сидушки торчал округлый колышек – не малых размеров и толщиной чуть ли ни в руку…
Я со сна не сразу понял, что за штука такая. А Степанида вышла на середину комнаты и молвила торжественно:
– В ночь полнолуния, в честь священного бога Приапа, сына Диониса и Афродиты, мы приносим в жертву десять девственниц.
Какого такого Приапа? Откуда эта волочайка безграмотная могла о Приапе каком-то представление иметь? Что это было, братцы мои? Мне иногда казалось, что не Степанида то вещала, а будто вселялся в нее кто.
И вот дивитесь: комната вся огнем озарилась. По стенам языки пламени полыхнули, и стало мне так тревожно, что аж в горле пересохло. Я сижу на диване и на середину таращусь. А Степанида начала какую-то песню дикую петь и в ладоши хлопать. Словно шаман – камлать. Не по-русски… И, вроде, вообще не человечий язык тот был. А тарабарщина какая-то с заклинаниями. Она, то шипит что-то, то поет, то воет. Меня такая дрожь одолела – язык прикусил. А Кирилла вообще заскулил отчего-то. Степанида покамлала и молвит:
– Приведите ко мне первую жертву.
Смотрю, ведут к ней девушку, совсем молоденькую. Моложе тех, с кем я до того сожительствовал. И не видал я ее прежде в своих покоях.
– Готова ли жертва?
– Готова, матушка, – отвечают ей две бабы в черных платках и платья, словно монашенки. Они эту несчастную за рученьки крепко держали.
– Покажите мне ее готовность, – приказала Степанида.
Те сорвали с девицы покрывало. А под покрывалом голое тело – худенькое, беленькое. Груди маленькие. Но что нового я узрел? Лобок у этой девицы был безволос. И это сразу мне в глаза-то бросилась! А Степанида удовлетворенно крякнула: «Правильно, мол, подготовили!»
А дальше что было? Не могу рассказывать… Худо мне от этого. Эта лярва приказала девице ноги раздвинуть и самой сесть на колышек, что из табурета торчал. Девица дернулась, запричитала, а Степанида с бабами ее насильно усадили, да не один раз. На плечи давили руками крепкими, и вставать не давали раньше времени… Горемычная кричала от боли, пыталась соскочить, а Степанида только смеялась и удерживала ее силой, ударяя розгой по ногам, чтобы она колени не сводила… Дева от позора и боли сознания лишилась. Но ушлые бабы ее вмиг в чувства привели, окатив водой колодезной.
После тоже самое сотворили со всеми десятью жертвами, по очереди. И все десять были точно также «подготовлены» к этому ритуалу. Редкая дева не кричала от боли…
– Не своди ноги! – зверела Степанида и била девок розгами по голым ляжкам. Сама растрепалась, глаза почернели, губы трясутся, но смотрит пристально, как плоть тоненькая рвется в лоскуты. Смотрит и скалится…
Видать, хотелось ей видеть ближе все девичество обнаженное и поруганное.
После порчи каждой девы, она воздевала руки кверху и возвещала: «Приап получил свою жертву!»
Верите, к концу этого спектакля весь табурет и пол вокруг него были залиты девственной кровью и водой колодезной. Лужа кровавая и холодная собралась. Страшная лужа. И потекла она к моему дивану. И как только голых ног моих коснулась эта кровища, я заорал диким криком. И Кирилла заорал:
– Теперь я, теперь мне их давай. Теперь я Приапом буду! – и заржал Кирилла-остолбень, словно ирод.
А меня от крови так замутило, что я упал навзничь и сном забылся. Сквозь туман слышал еще крики, камлание, визги, хохот Кириллы и плачь девичий…
Утром я проснулся. Вокруг чистота, все прибрано. Ставни открыты, канарейки поют. Сиренью и ландышами пахнет. Тишь, да благодать. А Степанида кроткая и причесанная квас на подносе мне подает.
– Ты что же, срамница, вчера удумала? – увернулся я от ковша.
– Чего, батюшка? – отвечает она невинно.
– Как это чего? Что за спектакль устроила?
– Не ведаю, о чем вы вашество?
– Не лги мне! Где табурет твой изуверский? Ты зачем столько девок испортила? Где ты их только берешь!
– Наговариваете вы, барин. Я вчера весь вечер белье штопала. Вам, поди, приснилось чего.
– Как же приснилось, лгунья! Я все видел своими глазами. И где Кирилла? – я ухватил Степаниду за косу и дернул больно.
– Не было его вчерась! – завизжала она. – Меньше пить надо, еще не то приснится. Спи после обеда – увидишь медведя! Отпусти волосы!
Я прогнал ее с глаз долой. Лежал полдня и думал: то ли я сошел с ума, то ли Степанида лжет?
Уже и успокоился почти, свыкся с мыслью, что де приснилось… Но, спустя три дня полез за ширму дальнюю, что в кладовочке стояла. Глядь, а там этот табурет валяется, почернел, заскоруз от крови… Выругался я матерно. Но затаился на время.
Сейчас думаю: это сколько же всего дев я за это время невинности лишил? Сотни две? И подумать мне тогда, что не бывает столько девушек красивых и невинных в одном хозяйстве. Как сразу-то не скумекать, что бесовщина то!
Еще думаю: я сюда на исправление попал, а получилось, что еще больше грехов-то нахватал, словно пес блох.
А Гришкин, ого! О нем-то сказ впереди еще.
Он при пакостях этих тоже часто присутствовал. Смотрит жадно на все, улыбается, а после сделает физиономию важную, пенсне натянет и пойдет в конторку свою с бумагами возиться – круглые ноченьки что-то считал. К слову сказать, теперь он не кудрявым ходил и пиджаков клетчатых больше не носил. Теперь его физиономия более на немецкую походила. Прямо вылитый Ганс – щуплый, прилизанный, белобрысый, в жилетке с карманами, в рубашке дорогой, но не маркой. И даже слова по-немецки коверкать начал: «Дас ист хер Шульц, бите, данкен, гутен так».
И еще всякую неметчину. Я, бывало, спрашиваю: «Ты хто таков? Какого роду племени? Немец, жид, хохол, али просто жулик?»
А он на счетах все считает и лыбится гаденько: «Я, господин Булкин, и немец, и еврей, и хохол. Но более всего мордвин».
«Какой же ты, каналья, мордвин?» – спрашиваю я. – Да из тебя мокша, как из меня тунгус. Смотри у меня, Гришкин, я пропьюсь и того, начну твою канцелярию шерстить. Здесь дело такое. Хоть по-немецки гутарь, хоть по-татарски, а меня не проведешь. Здесь, брат, доверяй, но проверяй.
– Обижаете, Макар Тимофеевич, – смотрел на меня Гришкин чистыми, как небеса глазами. – Хоть нынче ревизию делайте. По всем чекам, по всем счетам отчет сделаю-с.
Погляжу на него с похмелья, плюну и уйду к бабам дальше блажить.
А тут он меня как-то заставил помыться в бане, причесаться, нарядиться.
– Сегодня, Макар Тимофеевич, мы с вами идем в гости к губернскому прокурору. Нам надо и с ним знакомство свести. На завтра у нас назначен визит к полицеймейстеру.
Послезавтра мы нанесем визит к Его Превосходительству, председателю казенной палаты. Пятого дня мы приглашены на званый обед к Его Сиятельству, графу Скобейде Александру Никандровичу. У него, кстати, дочки милые, обе на выданье. А в воскресенье вы идете на бал в Губернское собрание. На следующей неделе мы должны посетить дом секретаря палаты гражданского суда.
– Батюшки святы! А нельзя того, не ездить ко всем сразу? Может, ну их? – мне после ночных выпивок и оргий все время спать хотелось. Соображал я туго. И было отчего.
Бывало встану утром, квасу испить. С одной руки Степанида жаркая прикорнула, с другой еще какие-то бабы распластались – титьками белыми сверкают. На диване пузо волосатое горой высится – то Кирилла Львович дрыхнет. Храпит так, что на абажуре висюльки стеклянные дрожат – звякают. Вскочит, буркалы красные выкатит и ну выть – блажить. Я его шугну, огрею подушкой – он снова засыпает, аки младенец, аж слюну пустит. Так ведь и прижился у меня. Все норовил за мой счет нажраться, напиться, даром прокатиться. На дармовщинку-то и уксус сладок. Хотя у самого полные сундуки золота где-то закопаны были, да золотой прииск в Канске, в Сибири далекой. Мне Гришкин о том сплетничал и Степанида. А бывало и так, что в моей спальне и цыгане ночевали и дружки новые – торговые дельцы. Все вповалку. Так обнаглели, что стали со Степанидой грешить и с девками крепостными. Степанида напивалась иной раз крепко. Блажила до икоты. Заставал я ее и в дальних покоях, голую с мужиками. По трое за раз подпускала к себе эта профура. Мужиков прогонял. А ее бил крепко. Пару раз за распутство даже по харе двинул, с синяками неделю ходила. Под ноги бросалась и голосила: «Отец родной, прости меня, дуру окаянную. Бей ешо, ежели желаешь, – и оголяла афедрон предо мной. – Так мне, ярыге, и надобно. А в искус я не по своей воле попала – опоили меня гости твои, черти барыжные». А сама принималась ласкать меня и целовать жарко. В уши шептала:
– Макарушка, голубь ты мой, сколько лет живу я на свете, а слаще твоего уда ничего не ведала.
– Врешь, изменщица. Ты на любого мужика падка.
– Истинный крест, не вру! Только у тебя он такой большой, да сильный. У других-то сморчки по сравнению с твоим.
– Так уж и сморчки?
– Ей богу, не вру! С места не сойти, во всей губернии больше твоего не сыскать.
– Что ж ты, лярва, со всей губернией спала? – спрашивал я и затрещину ей давал.
Она только сплюнет, глаза вишневые выкатит и брешет дальше:
– Зачем спала? Я итак знаю. Слухами бабьми земля полнится. Одной кума скажет, да сватья подскажет, а бабка-повитуха присказку из тех сказок свяжет.
Ну, что с бабы возьмешь? Может и врала она, но я, дурак, гордился похвалами такими. Да так, что считал себя вроде Геракла, который должо́н всех баб покрывать.
Встану, бывало, поутру – аж совестно. А Гришкин зайдет в опочивальню, носом поведет брезгливо.
– Дас ист бардак.
Видать, и впрямь дух в комнатах тяжкий стоял. Он окна настежь откроет, ветер чистый пустит. Все и расползались восвояси, словно тараканы. Мужики сапоги искали, штаны, кто, где бросил, а бабы голые визжали и в простыни заворачивались. Мне и самому на весь этот вертеп тяжко было глядеть.
Короче, отрезвил он меня тогда – водой колодезной обливал, чаем липовым отпаивал, дабы харю мою распухшую в человеческий облик привести. Степаниду и девок урезонил. Велел сидеть всем в девичьей, и носа не высовывать. Степаниде его приказы поперек горла были. Той – день без греха – все равно, что время даром. Вот такая баба развратная была. Она от печали чуть было не увязалась за Кириллой Львовичем, но Гришкин велел ее высечь немного, дабы жар телесный унять. Пригорюнилась она, но присмирела – куда деваться?
И наладились мы с ним визиты деловые наносить. За неделю столько домов богатых посетили. Со столькими господами я знакомство свел. Были на балу у Его Сиятельства, графа Скобейды. Там я мазурку танцевал и с женой его и дочерьми.
И вот, к Его Сиятельству, графу Скобейде, мы стали захаживать чаще других. Гришкин меня к ним наладил – дескать, знакомство козырное, и партия, если что, выгодная, со связями – титул можно вне очереди заполучить, должность высокую.
Граф только с виду важным казался, а на деле – дальше носа своего не видел. Принял меня радушно, коллекцию оружейную показал, фамильные портреты, винный погреб, рассказал о геройстве своем фронтовом. А я цирлих-манирлих соблюдаю, дескать, жених, да с состоянием, да непрочь жениться, ежели дочки-то две на выданье. Одна была высокая, темненькая, другая росту поменьше – пухленькая, да беленькая. Я им кажный день корзины с розами возил и наборы сластей из кондитерской. Забыл сказать, я Александру Никандровичу еще жеребца серого, испанских кровей, с собственной конюшни подарил – тут он и вовсе расчувствовался. Говорит: «Макар Тимофеевич, родной вы мой, любую дщерь за вас отдам, какая только вам глянется».
Стал я волочиться за той, что посправнее была, за белобрысенькой. И она ухаживания мои охотно принимала – хихикала, жеманилась, по-французски ворковала и на фортепьяно играла. Только чую, маман ее, Мария Михайловна, дама сытая, холеная, телесами обильная, рыжая и в летах, как-то стала косо смотреть на меня. За обедом зло острила, глядела вызывающе зелеными, словно крыжовник глазищами. Губки бантиком подожмет и пыхтит, особливо, когда я к дочке ее клинья подбивал – ручки целовал, моционы по парку совершал. А надобно сказать, что выглядел я тогда превосходно: рожа посвежела, волосья мне цирюльник щипцами укладывал, усы и бороду фабрил[47]47
Фабрить – натирать, красить фаброй усы. Фабра – косметический состав для окраски в черный цвет бороды и усов, а также для придания усам определенной формы.
[Закрыть]. Костюмы на мне все аглицкие были: шляпы, трости, перчатки – все, как у господ важных.
С кувертом[48]48
Куверт – полный набор столовых приборов.
[Закрыть] ладить научился.
Что долго рассказывать? Эта самая, Мария Михайловна, как-то раз подкараулила меня возле ворот их фамильного особняка. А был тот особняк в три этажа, с балконами и львами спящими. Одно название – львы. Словно собачонки скрюченные лежали, пылью присыпаны. Ото львов одни гривы, да ноздри… Ага. Взяла под ручку:
– Господин Булкин, разрешите, я с вами пройдусь немного. Нам объясниться надобно.
– Я весь во внимании, Мария Михайловна, – ответствовал я, волнуясь, словно отрок.
Думаю, и чего этой бабенции надобно от меня? Наверное, рылом не вышел для дочерей ее, видно, не ко двору моя карета прикатила. А дельце-то по-другому обернулось, да так, что и не чаял я. Призналась она мне в тайной любви пылкой. Велела ухаживание за дочкой не прекращать, но сильно не усердствовать, ибо страсть ее такова, что любые знаки внимания от меня, даже к дочери родной, вызывают у нее ревность жгучую и приступы мигрени.
– Поедем, дорогой мой, на квартиру. Я сняла недавно здесь, в Кривом переулке, – жарко зашептала она.
Я обомлел вначале. Думаю: «Бабы, вы что, все рехнулись разом? Чего все влюблены в меня, словно кошки? Дома Степанида блажила, вусмерть меня залюбливала. Других не подпускала. Дев невинных не подкладывала более. Рассказывали даже, что из ревности высекла она сильно Варвару и Матрену – болели девки долго. А теперь и эта, рыжая барыня, сбрендила»
– Мария Михайловна, – говорю я, – вы давно мне глянулись, да только дама-то вы замужняя. Неловко мне перед Александром Никандровичем будет. Не по-людски оно как-то. Он меня приветил, а я черной неблагодарностью ему отплачу, словно хлыщ иль папильон[49]49
Папильон – здесь: легкомысленный, несерьезный человек. От французкого papillon и от латинского papilio, что в переводе означает: бабочка.
[Закрыть] какой.
– Тю-юю, – сказала она и хохотнула. – Нашел, о чем печалиться. Да ежели бы я всех своих любовников сосчитала, так Скобейда бы в ворота дома нашего не вошел – рога бы не пустили. У меня и дочки не от него, мол, ро́ждены.
– Как так? – я прямо оторопел.
– А так. Сказала тебе. А ты молчи, иначе язык отрежут, – и снова захихикала. – Ты чего, булочка моя, испужался что ли меня? Не надо. Я только с виду грозная, а в постели буду с тобой кошечкой ласковой. Мур, мяу! – дурачилась она, выкатив крыжовины зеленых глаз. – А если по справедливости, то граф состояние от моего отца получил за меня в приданое. Сам он беден был, как церковная крыса. Один лишь титул и важности, хоть отбавляй. В этом доме все мое, и я сама себе хозяйка. А что до моих адюльтеров, так тут сам бог велел мне на сторону идти.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?