Текст книги "Кольцов. Часть 1"
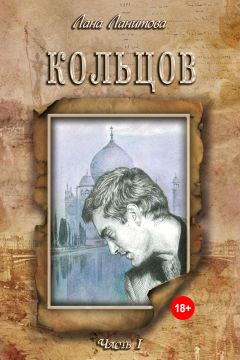
Автор книги: Лана Ланитова
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Но, в этот раз он не захотел скрывать этот крик. Он хотел, чтобы где-то на периферии танцпола, среди пьяного шума банкета, звона хрустальных бокалов, кто-то услышал бы его и изумился его силе. Чтобы все перестали жевать и прислушались к этому продолжительному и странному звуку.
В этот раз Светка кричала именно так, с удивлением глядя на него. Ведь она так привыкла отдавать эти звуки его горлу, что даже не догадывалась о мощи собственных голосовых связок.
– Я отдам тебя на курсы вокала, – усмехнулся он и лишь спустя минуту нежно поцеловал ее в губы.
А после он еще долго вертел ее в этот вечер, заставляя менять позы, тискал ее большие груди, с наслаждением засасывая и нежно покусывая розовые соски. Светка стонала и вскрикивала, пока горячая, словно лава сперма, не расперла широким потоком его собственное жерло. Он кончил глубоко в нее, издав короткий полустон-полурык со своими обычными словами.
Всякий раз, как он вливал в нее семя, он неизменно кричал слово "На!", тем самым показывая свою готовность отдать ее матке все, что накопилось в его теле.
– На! – снова и снова хрипел он, закатывая глаза от страсти.
Ему казалось, что ее пизда, вечно жадная до ласк, словно огромная змея, изнутри высасывала его досуха, как должное присваивая себе всю его силу и мужскую энергию. Он почти физически ощущал эту отдачу и ее, Светланино, принятие его жизненной праны.
А после она еще долго лежала на диване с раздвинутыми ногами, смотря остановившимся взором в чужой, покрытый лепниной потолок.
Ему и самому надоела эта ресторанная комната. В эти минуты комната показалась ему нелепой и чуточку вульгарной.
– Одевайся, – тихо сказал он.
– Андрюша, дай мне, пожалуйста, полотенце или салфетку. Там должны быть чистые в комодном ящике.
– Полотенце? Нет, его ты не получишь. Это тоже входит в мое сегодняшнее наказание.
– Но, я же вся мокрая, – прошептала она.
– Да, ты мокрая, с текущей пиздой. А еще ты растрепана, и на твоей шее красуются два засоса. А еще я заберу твои трусики и отдам их только дома.
С этими словами он подхватил батистовые кружевные трусики Светланы, поднес их носу, с наслаждением вдохнул аромат и быстро засунул их себе в карман пиджака. Он был уже полностью одет, тонкая расческа прошлась по коротким волнистым волосам. Он рассматривал себя в зеркало, и, казалось, был вполне доволен своей импозантной внешностью, мужским обаянием и силой. Она все еще продолжала лежать обнаженной, с раздвинутыми в стороны ногами. И из ее главного сокровища струилась белая влага. Ему нравилась ее беспомощность и полное подчинение.
– Андрюша, дай полотенце, – еще раз жалобно попросила она.
– Нет, – решительно возразил он. – Хочу, чтобы все видели, что тебя выеб муж. А особенно пусть на это полюбуется тот вьюноша прекрасный.
Она хотела было заплакать, но даже на это у нее не было сил. Она, наконец, свела вместе полные ляжки. Внутри нее что-то хлюпнуло. Медленно поднялась на ноги, пошатнулась, ухватившись руками за край комода. А затем она расчесала распущенные волосы и надела на себя мятое платье. Он внимательно следил за ее плавными движениями. Руки и ноги не слушались ее. Она казалась бледной и, видимо, сильно хотела спать. Когда она накрасила губы и припудрила носик, в ее лице проявилось нечто гордое и обиженное. Подбородок дрогнул. Она плотнее сдвинула ноги – на паркетном полу, возле зеркала, из нее выпали две пухлые светлые капли. Она наступила на них ногами, обтянутыми шелком тонких чулок, а после прижала рукой крепдешиновый подол платья к лобку. На темном, украшенном стразами подоле, тут же выступило обильное мокрое пятно. Оно просочилось и на ее попке.
Она с обидой смотрела в его глаза, в то время как в ее собственных закипали слезы.
– Ты хочешь моего позора? – с вызовом спросила она.
– Немного хочу… Я хочу, чтобы тот щенок увидел доказательства того, что я тебя отменно выеб.
– Ну что ж, пусть будет по-твоему, – она надела туфли на каблуке и решительно двинулась к выходу. – Звони своему швейцару, я пройду в таком виде через весь банкетный зал, а потом встану посередине танцпола. А заодно покажу всем твоим коллегам и эти великолепные засосы. Пусть все полюбуются, какой ты у нас самец.
Она раскраснелась, зацелованные губы горели пунцовым цветом, проступая сквозь нежный тон розовой помады, влажные глаза сверкали от блеска подступающих слез.
– Сядь, – скомандовал он в последнюю минуту. – Сиди тут и жди меня. Я схожу в гардероб за твоим пальто и вызову из гаража таксомотор.
* * *
«Яр» находился на Петроградском шоссе[3]3
Петроградское шоссе (с 1915–1924) – нынешний Ленинградский проспект. (Примеч. автора)
[Закрыть], и им надо было ехать сначала по нему, а после по Тверской, прямо к своей квартире, которая располагалась недалеко от Садового кольца, на Цветном бульваре.
Прошел ровно год, как талантливому и подающему большие надежды хирургу Кольцову Андрею Николаевичу выделили отдельную пятикомнатную квартиру на втором этаже старинного особняка на Цветном бульваре. Произошло это потому, что благодаря своему мастерству, проведя исключительно сложную, почти ювелирную операцию, он спас жену одного высокого партийного чина из Кремля.
Квартира эта находилась в тихом и уютном месте и располагалась в двадцати минутах ходьбы до новой работы Андрея. Будучи еще молодым хирургом, Андрей успел поработать сначала в военном госпитале им Н.Н. Бурденко. Именно там он и приобрел большую часть своей медицинской практики. Когда с фронта везли раненных, он не покидал операционную сутками. А выходя, падал, забываясь тяжелым сном. Все это было еще до его женитьбы на Светлане.
В 1921 году его пригласили работать в Шереметевскую больницу. В 1923 году на ее базе был организован Институт неотложной помощи[4]4
В 1923 году институт был назван именем Николая Склифосовского. (Примеч. автора)
[Закрыть]. Там он и продолжал работать до нынешних дней.
Почти три года до этого семья Кольцовых снимала разные комнаты в огромных коммуналках и испытала на собственной шкуре все прелести социалистического общежития. Светлана, будучи по характеру очень спокойной и неконфликтной, как называл ее муж, "дамой из прошлого века", всегда очень сложно находила общий язык с соседками по коммунальному хозяйству. Именно тогда Кольцов вынужден был нанять немолодую, но крепкую и расторопную Дарью Ивановну из Подмосковья, а проще говоря, Дарью, которая была безмерно благодарна чете Кольцовых за то, что те ее приютили в собственной семье и дали ей ночлег и пропитание. Кольцов нашел ее случайно – она сидела на Сухаревском рынке – растрепанная и заплаканная, несчастная баба. В тот день ее ограбили, украв все наличные от проданного кабанчика своего свекра. Дарья была вдовой-солдаткой и проживала в Коломне с семьей погибшего мужа. Житье-бытье ее было несладким. Свекор часто ругал ее, попрекал каждым куском, бывало, бил и насиловал. Она даже была беременна от этого черноволосого старика, но тайно сделала аборт. С тех пор не могла более забеременеть. Вернуться домой без денег – означало бы, по ее словам, "верную смертушку". Андрей в тот день покупал на Сухаревском пшено и стал невольным свидетелем несчастья этой деревенской бабы. Она отчего-то понравилась ему своим круглым, бесхитростным и добрым лицом, на котором сияли огромные, голубые, распухшие от слез, глаза.
– А что, девица, может, тебе нужна работа? – весело спросил ее Андрей.
Дарья перестала плакать и живо соскочила с лавки.
– А что и платить будешь?
– Немного, но буду.
– А харчи? А спать где?
– Ну, хоромы я тебе пока не обещаю. Сам живу в коммуналке. Будешь помогать моей жене с ребенком. Она родила недавно. С ребенком и по хозяйству. А жить пока будешь у нас. И с голоду помереть тоже не дадим. Согласна?
– Согласная я, батюшка.
– Ну, коли так, тогда пошли…
Позднее Дарья съехала в отдельную комнатку, в коммунальной квартире, и даже обзавелась усатым поклонником, плотником Тихоном, приходящим к ней на ночлег. Но именно тогда, в первые четыре года семейной жизни Светланы и Андрея, когда друг за другом у них родилось двое сыновей, Дарья была верной помощницей неприспособленной и вечно сонной от детского плача и общего недосыпа Светлане.
Дарья умела дать отпор наглым и горластым соседкам, раньше всех набрать без очереди воды, вскипятить на примусе чайник, когда все еще спали, раздобыть свежее молоко, крупу и даже фрукты в то время, когда в Москве было мало продовольствия. А также пошить из разных тряпок вполне сносные и симпатичные платья, юбки и блузки для своей обожаемой хозяйки. Светлану она полюбила сразу, будто та ей была родной сестрой или дочерью. При Андрее Николаевиче она вела себя сдержанно, часто робела и уважала его безмерно. Зато запросто могла отругать Светлану за непрактичность и неприспособленность к быстроменяющемуся московскому укладу. Светлана не обижалась на свою домработницу и часто в порыве нежности целовала ее в раскрасневшиеся от кухонной возни полные щеки.
* * *
Не прошло и десяти минут, как он вернулся за ней. В его руках было ее новое пальто абрикосового цвета и шляпка в тон.
– Одевайся. Я приготовил тебе маленький сюрприз. Мы с тобой поедем не на извозчике. Нас ждет роскошный форд, – улыбаясь, сообщил он. – Нам до дому ехать не менее сорока минут.
Когда они вышли на крыльцо, стал накрапывать мелкий весенний дождь. Широким черным зонтом швейцар прикрыл их от дождя и проводил к новенькому вишневому форду. Щелкнула дверь, глухо взревел мотор, и они покатили вдоль Петроградского шоссе. Светлана сразу же отвернулась от Андрея и сделала вид, что смотрит в темнеющее окно. Мимо проносились дома, переулки, деревья, покрытые первыми свежими листочками. В приоткрытое окно долетал пьяный ветер весны. Тот необыкновенный ветер, что всякий раз рождает в душе огромную надежду и заставляет томиться от любви.
– Светка, ты дуешься на меня? – весело фыркнул он и с силой развернул ее к себе.
Водитель не слышал их, ибо между ними была стеклянная перегородка.
– Светка, ну Светочка, цветочек, – ласково дурачился он, дергая ее за поясок новенького пальто.
– Ты расстроилась из-за платья?
Она молчала в ответ.
– Дарья постирает его. А если моя сперма окажется ядовитой, мы просто выбросим его, а я привезу тебе осенью еще десяток новых. Осенью я еду в Париж на конференцию. А хочешь, я возьму тебя с собой? – неожиданно выпалил он.
Она продолжала упорно дуться и молчать. Одной рукой он развернул ее подбородок к себе и увидел, что все ее лицо было залито слезами. Словно дождевые капли они струились по щекам и затекали в шарфик.
– Да, моя ты девочка, – он крепко обнял ее. – Да, кто же посмел тебя обидеть? Да, иди ко мне, моя лапушка…
Он осыпал поцелуями ее милое лицо, шепча нежные слова. Целый поток ласковых слов. Он придумывал все новые и новые варианты, пробуя на вкус не сочетаемые ласковые и матерные словечки, густо мешая их в один тягучий сироп. И этот сироп вливался в ее уши, заставляя замирать и улыбаться от счастья. А после его губы вновь поймали ее губы, и он принялся целовать ее долгим и нежным поцелуем.
– Светка, – шептал он. – Скажи, что ты меня любишь.
Она еще молчала, но уже не плакала, а лишь лукаво смотрела в его лицо сквозь собственные мокрые ресницы. Впереди открылась Тверская с множеством электрических фонарей.
– Скажи, разве я плохо тебя ебу? Скажи? – он тряс ее за плечи.
– Не скажу, – отмахивалась она.
– Ах, так? Ну, тогда берегись. Завтра выходной, и нынешней ночью тебе не будет пощады до утра.
– Ну…
– Да, и весь следующий день.
– Я просто умру…
– Нет, Светка, от ебли мало кто умирает, тем более в твоем возрасте, – смеялся он.
– А я умру, – настырничала она. – И тебе станет меня жалко, – она снова всхлипнула, словно ребенок.
– Тихо! Хватит плакать. Довольно! – прикрикнул он.
И она испуганно посмотрела на него.
– То-то же. И не смей мне перечить. Ты моя наложница, а я твой султан. И ты будешь отдаваться мне столько, сколько я сам захочу. Поняла?
Она кивнула, глядя на него затуманенным взором карих глаз.
– А теперь говори: ты любишь меня?
– Я люблю тебя больше жизни, Андрюша.
– То-то же!
– Скажи, а ты, правда, возьмешь меня в Париж?
Глава 2
1921 год. Май. Крым
В Коктебеле у Макса[5]5
Имеется в виду Максимилиа́н Алекса́ндрович Воло́шин – русский и советский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
[Закрыть] Андрей оказался почти случайно.
Сначала он отдыхал неделю в Ялте. Хотя, пребывание в этом, разграбленном и нищем ныне городе, никак не походило на тот курортный отдых, каким он знал его до 1917 года.
Природа, вопреки человеческому безумству, встречала свою очередную весну. Крым благоухал, цвел и парил над окровавленной землей ветрами будущих надежд.
Но душевное состояние Андрея было настолько далеко от крымской весны с ее яркими почти тропическими красками, буйством цветущего миндаля и пришедшего ему на смену розового и благоухающего тамариска, как бывает далек настоящий живой праздник от скорбной тризны. Его уставшие, больные глаза не радовало даже цветение огромных, кипельно белых цветов граната и айвы. Не восхищали магнолии, ни алые россыпи рододендронов, ни золотые дожди бобовника, ни крымские розы. Он смотрел на всю эту неземную красоту, казавшуюся такой странной, почти нелепой, после привычного цвета крашенных серых палат, гор бурых бинтов, блеска скальпеля и моря крови, и не мог понять и принять, что жизнь может быть иной. Что в ней может быть синее море, дельфины, стайки молодых прелестниц на пляже. О, этих девушек теперь не принято было называть барышнями. Теперь их принято было называть комсомолками. Все они ходили по пляжу в чем-то светлом, а на головах, словно искры, горели красные косынки. Он смотрел на них, как смотрят в аквариуме на диковинных рыбок и не чувствовал в себе знакомого желания.
Здесь, в Ялте, еще свирепствовал Красный террор. Ялтинский мол еще помнил сотни расстрелянных офицеров. Ялтинские улицы, дворы и дома еще дышали адским запахом смерти. Еще не были захоронены кучи трупов. Это было тяжелое время для Крыма. Он шел мимо ялтинских двориков и редко встречал в них человеческие лица. Если ему и попадался кто-то из людей, то все они казались какими-то картонными, не настоящими. Настоящими они становились лишь тогда, когда начинали что-то говорить. Но и это было ненужным. Любое общение становилось тягостным. Порой ему мерещилось, что многие из них сошли с ума. И им необходима психиатрическая помощь.
Он видел почерневшего от горя старого татарина, который каждое утро стоял возле плетня и всматривался в пустой конец пыльной дороги. Андрей узнал позднее, что сначала белые расстреляли трех его сыновей, а потом пришли красные и добили двух остальных. Выцветшая тюбетейка болталась на желтом черепе старика. Дед походил на чахлое деревце, ссохшееся под палящими лучами южного солнца.
Он видел здесь и горы разобранных рельсов, и неубранные баррикады из шпал, возле которых валялись чьи-то окровавленные шинели.
Андрею казалось, что, не смотря на все старания крымской весны, этот тошнотворный, чуть сладковатый запах смерти еще не ушел с ялтинских улиц.
Не мог его выветрить и соленый морской ветер. Море… Как он любил море…
В первый же день, на рассвете, он пришел к его пустынному берегу, недалеко от Ялтинского мола. Лучи солнца в легкой южной дымке уже вставали над горизонтом. Справа играла стайка дельфинов. Вода еще плохо прогрелась, но ему хотелось обжечься этим холодом, чтобы тело наконец начало хоть что-то чувствовать. Андрей разделся донага и поплыл по направлению к молу и за него. Когда он вдоволь наплавался, то вышел на берег и сел на сухое бревно. После купания его пробила крупная дрожь. Зубы прикусили посиневшую нижнюю губу. Он почувствовал на подбородке теплую струйку, трясущиеся пальцы не вытирали, а размазывали кровь по лицу. Он вдруг заплакал. Некрасиво и громко, выкрикивая невидимому Создателю все то, что накопилось на душе.
– За что? – кричал он. – Доколе? Отчего ты слеп, Господи? Почему допустил?! А?!
Крик подхватили чайки. Он словно бы выплакивал этому морю и этому небу всю свою боль.
Сколько он тогда просидел на берегу, он не помнил. Когда обсох, он умылся от крови, медленно оделся и пошел прочь. Возле берега, на лавке, он встретил какого-то мальчишку.
– Что, дяденька, вам тоже страшно?
Андрей плюхнулся рядом с рыжим пацаном.
– Отчего мне должно быть страшно?
– Ну, как же? Тятенька рассказывал, что с этого мола скидывали людей[6]6
Речь идет о ялтинских казнях 1918, расстрелах белых офицеров. Расстрелы производились прямо на знаменитом Ялтинском молу, трупы казнённых сбрасывали в море. Очевидец событий, член кадетской партии князь В. А. Оболенский писал: «…В Ялте офицерам привязывали тяжести к ногам и сбрасывали в море, некоторых после расстрела, а некоторых живыми. Когда, после прихода немцев, водолазы принялись за вытаскивание трупов из воды, они на дне моря оказались среди стоявших во весь рост уже разлагавшихся мертвецов…». Расстреляно было не менее 47 офицеров, а их трупы были сброшены в море. (Примеч. автора)
[Закрыть]. Не всех стреляли. Кого-то и живьем, с камнями на ногах. Вокруг него до сих пор находят мертвецов, стоящих в воде. Они огромные, все лица им рыбы изъели, а волосы у них дыбом стоят. Я боюсь там плавать. Любой мертвяк может рукой за ногу схватить и утащить на дно, – доверительно рассказывал мальчишка, улыбаясь беззубым ртом.
Андрея затошнило. Он встал со скамейки и, пошатываясь, поплелся прочь. Назад в свою комнату, комнату в одном из бывших графских домов, где новая власть пыталась организовать отдых для медицинских работников.
Надо было идти на завтрак. Полная черноглазая хохлушка с миловидным лицом заглянула к нему:
– Пан доктор, идите и сидайте исти. Каша готова. Ласкаво просимо.
Он кивнул и уставился в белый потолок, украшенный безвкусной лепниной.
Все его мысли были еще там, в Москве.
В ушах до сих пор слышались крики раненных. Когда он пытался заснуть, то перед лицом снова и снова появлялись груды ампутированных рук и ног. Биоматериал, подлежащий утилизации. Их просто не успевали сжигать. И часто они лежали сутками, прикрытые простыней, пока не приходил ворчливый и вечно пьяный дворник Тихон и не сгребал их на грязную тачку, которую он вез к топке. Отверстие топки напоминало Андрею вечно жадный рот немой беззубой старухи, которая уже не может жить без новых порций человеческих останков. Во дворе Шереметьевской больницы в то время воняло паленым мясом и костями. Именно с тех пор он возненавидел этот запах. Именно с тех пор он перестал есть мясо вообще.
Но об этом чуть позже.
Началось все с того, что во время десятой по счету операции, когда без сна и отдыха он оперировал больше суток, Андрей свалился в глубокий обморок, порезав скальпелем пациента. Операцию закончили без него. Но, самое страшное началось позднее. Тогда он проспал десять часов. И встал, казалось, совершенно бодрым. Но именно днем с ним вновь случился обморок, после того как он увидел, что в темном коридоре, где обычно лежали ампутированные конечности, произошло некоторое шевеление. В этот раз и кучка эта была не так велика – видно, Тихон успел вывезти большую часть останков. Однако, все, что в ней лежало, убитое гангреной или разрывными снарядами, вдруг ожило, зашевелилось и поползло прямо к Андрею. Андрей издал громкий и хриплый крик и вновь потерял сознание.
Позднее он осознал себя лежащим в пустой больничной палате, с решетками на стрельчатых окнах. И рядом с ним сидел седенький профессор, специализирующийся на нервных и психических расстройствах.
"Вот оно. Допрыгался", – обреченно подумал Кольцов.
– Ну-с, давайте знакомиться, – профессор положил на колени военный планшет и приспособил к нему новую карточку пациента. – Меня зовут Николаем Викторовичем. А вас как, любезный мой друг?
– Кольцов Андрей Николаевич меня зовут, – осипшим голосом отозвался он. – Доктор, я что, в психушке?
– Ну, что за названия и от коллеги? Ни в какой вы не психушке, как вы изволили выразиться. Вы находитесь в отдельной палате, в вашей же Шереметьевке. Главврач попросил выделить вам отдельную и пригласил меня. Просто для консультации. Расскажите мне все по-порядку, что с вами произошло? Может, вы что-то увидели?
Андрей довольно быстро сообразил, что если он расскажет профессору о том, что его глаза видели в коридоре, то ему вполне светит оказаться в реальной «дурке».
– Доктор, честно сказать, я просто тогда сильно устал.
– Я понимаю… Поймите и вы меня, голубчик, в ваших интересах сказать мне правду. Тогда я смогу назначить необходимое лечение. Не было ли у вас каких-то видений? Может, что-то показалось?
– Нет, доктор. Просто обморок, – настырно произнес Кольцов.
– Понимаете, вы в тот день сильно кричали. Поэтому у меня и есть основания предполагать нечто большее, чем просто обморок. Не ребячьтесь, Андрей Николаевич, дело-то серьезное. И вовремя начатое лечение…
– Николай Викторович, я уверяю вас, что ничего определенного я там не видел. Может, испугался темноты.
– Ну-с, хорошо. Не смею настаивать. Скажите, вы где учились?
– Я закончил медицинский факультет Императорского московского университета[7]7
Ныне Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. (Примеч. автора)
[Закрыть].
– Замечательно! Наверное, с пятого курса вас уже отправили на фронт?
– Да, в 1914 мне досрочно присвоили звание "зауряд военного врача"[8]8
Зауряд-врач (правильно: «зауряд-военный врач») – аналог воинского звания для наименования зауряд-военно-медицинских чиновников в Российской империи. Звание зауряд-врача присваивалось студентам 4-го и 5-го курсов мединститутов, медицинских факультетов университетов и Императорской военно-медицинской академии с 1894 года при назначении к исполнению должности младшего врача при мобилизации войск и в военное время.
[Закрыть] и отправили на Западный фронт в составе 10-й армии. И лишь позднее, после 1918, я получил диплом врача.
– Вот как?! Западный фронт? – глаза доктора оживились. – Виленская операция?
– Да… – Андрей махнул рукой.
– А потрепали тогда наши немцев? – улыбнулся профессор.
– Да, но какой ценой? Доктор, вы же знаете… Эта война была позорной для России.
– Да-с… Ну, а далее?
– Далее я работал в передвижном госпитале уже на Дунайском направлении. Потом снова перевели в Москву.
– В 1917 вы в Москве были?
– Да. Потом меня уже мало командировали. Я больше работал в военном госпитале и тут, в Шереметьевской.
– Ну-с, голубчик. Одно могу сказать, что вы получили превосходную практику. А это дорогого стоит.
– Получил, – глаза Кольцова погрустнели.
– Ну, ничего, ничего. Лихолетье минет, и заживем мы с вами лучше прежнего, – сухенькая рука профессора легла на исхудавшую руку Андрея. – Вам сколько лет?
– Двадцать девять.
– Прекрасный возраст! Вы женаты?
– Нет.
– Отчего-с так?
– Не до того было.
– А надобно вам жениться.
– Да, нет особого желания, – буркнул Кольцов.
– Это почему?
– Да, чтобы не разочаровываться, доктор, окончательно в женском племени.
– О, ну, это вы напрасно, – рассмеялся доктор. – Я чувствую, что была какая-то амурная история. Я угадал?
Кольцов промолчал в ответ.
– Поправляйтесь, голубчик, – доктор привстал, чтобы покинуть палату.
– Доктор, а вы знаете писателя Чехова?
– А как же? Нашего коллегу? Один из моих любимых. И пьесы его в театре я тоже люблю смотреть. Мы с женой еще в 1901 смотрели пьесу "Три сестры" в Московском художественном. И "Вишневый сад" там же… Дай бог памяти, или в 1904 или в 1905…
– Да, слышал, но я не о пьесах, – Кольцов поморщился. – Я вообще теперь мало читаю, а стихи и вовсе ненавижу.
– Что так? – профессор улыбнулся.
– Все стихи придумали идиоты и слабаки, доктор. Я человек практический, хирург. И все романтические грезы и словесный бред я воспринимаю теперь как слабоумие.
– Вот как?
– Именно. Но вот Чехова иногда почитываю. У Достоевского тоже нравится один рассказ.
– Да-с? И какой? – уже откровенно посмеивался Николай Викторович.
– Я сейчас не о Достоевском. Я о рассказе Чехова. Есть у него один рассказ удивительный. "Душечка" называется.
– Да, знаю я такой и что-с?
– Так вот, доктор, если я когда-нибудь и женюсь, то жена моя должна характером походить на эту самую "душечку".
Доктор рассмеялся.
– Какие ваши годы? Вы непременно еще найдете собственную "душечку".
* * *
Через полчаса профессор Николай Викторович Бортовский, специалист по психиатрии, вошел в кабинет главврача Шереметьевской больницы.
– Ничего страшного я не нахожу у вашего молодого гения. Скорее, общее переутомление. Ему бы отдохнуть с месяцок где-нибудь на водах или на море. Похоже, там дела амурные еще вмешались. Вы бы дали доктору время, глядишь бы, он женился. А там и остепенился бы.
– Какое отдохнуть? Да, если я отпущу его сейчас, меня же к стенке поставят.
– А так вы рискуете потерять лучшего хирурга.
Главврач, тучный пожилой мужчина, сидел, наклонив голову, и курил самокрутку.
– Слушайте профессор, мне дали разнарядку – выслать одного или пару докторов в Крым. Там ликвидированы старые кадры. Поспешили сильно. Много медперсонала расстреляли в Ялте и в Феодосии, – тихо шепнул главврач. – Сестричек милосердия-то за что? Девушек невинных…
Бортовский только нахмурился и махнул рукой.
– А теперь стонут – подавай им врачей из столиц. О чем, черти, вы раньше думали, когда врачей и медсестер-то к стенке? Чем наш брат-то им насолил? Велено прикомандировать хорошего хирурга, – он ткнул в какое-то государственное письмо. – В Феодосию, например, к июлю. И что я им сделаю? – он развел руками. – А я вот, что сделаю. Я дам Кольцову небольшой отпуск на месяц, а потом пускай и приступает. До осени там поработает и назад. Он мне самому здесь нужен позарез горла. Он оперирует, как бог.
– А вот это правильно. И комар носу не подточит, и Кольцов ваш оклемается. Славный парень, я вам скажу.
* * *
Будучи молодым, подающим большие надежды врачом, в конце мая 1917, он гостил на даче у друга Белозерова Владимира, в Кашире. С ними отдыхали еще трое его товарищей. Днем все купались и загорали на песчаной косе левого берега Оки. Мать Белозерова, хлебосольная и гостеприимная женщина, угощала гостей сладкими пирогами и творожными ватрушками, в то время как молодые врачи вели бесконечные споры и говорили о войне и политике. Большая часть вопросов касалась и медицины. Бывало, устав от серьезных тем, под сенью цветущих яблонь, друзья почитывали стихи Бальмонта, Блока и Брюсова. Вечерами ходили в местный клуб – бывшее здание сельской управы. На широком подоконнике распахнутого стрельчатого окна, одного из огромных залов бывшей управы, играл старенький граммофон, со скрежетом выдавая звуки аргентинского танго. А местная молодежь, подобно мотылькам, летящим к огню, собиралась вечерами на эти стихийные вечеринки и танцевала на небольшой мощеной площадке около управы. Электрические фонари щедро освещали качающиеся в танце пары. К граммофону прилагались только три уцелевшие пластинки. Две с танго и одна с вальсом. И все три были заезжены до шипения. На подоконнике восседал местный веснушчатый паренек, лет пятнадцати, и с деловым видом ставил новую пластику, как только заканчивалась предыдущая.
И, как водится, парни знакомились с местными барышнями. Да, господа, в воздухе пахло порохом и войной, эшелоны с раненными продолжали пребывать в московские и питерские госпиталя, в небе уже отчетливо раскачивался тревожный колокол революции, а здесь, в маленьком и уютном местечке, на берегу Оки, свершалось извечное таинство – люди влюблялись и строили планы на будущее. О, как иллюзорны и трагичны оказались многие из них. Но молодость об этом не знала.
Майская Кашира пахла дегтем и теплой пылью, и была мила яблоневым и вишневым обилием садов. Перезвон ее белых церквей плыл над этой сонной патриархальной землей.
Именно здесь он впервые и повстречал ЕЁ.
Помимо местных девушек, были здесь и барышни приезжие. Они проходили педагогическую практику в местной гимназии. И вот с такой, юной "педагогиней" и свела плутовка-судьба нашего героя.
Он встретил ее не на танцах, нет. На танцах было много других, довольно миловидных девушек, которых Кольцов покорил своими манерами и умением красиво двигаться в танго и в вальсе. Девушки откровенно засматривались на симпатичного молодого врача.
Наш герой имел одну, довольно странную на взгляд среднего обывателя и совсем уж неприличную для многих местных старожилов, привычку. Он любил вставать еще до рассвета и уходить в лес или на берег реки. Там он раздевался донага, садился на пенек и с наслаждением играл на флейте Пана. В его коллекции была одна довольно уникальная флейта, которую ему привезли с Соломоновых островов. Он особенно любил эту флейту. Ее сделал неведомый искусный мастер, и инструменту этому было по меньшей мере лет сто. Она пела таким нежным голосом, что у Кольцова всякий раз наворачивались слезы. Когда он извлекал на ней упоительной красоты звуки, то к нему слетались все лесные птахи. И он сам, словно древнегреческий Пан, красивый и обнаженный, как в первый день творения, с взъерошенной русой шевелюрой, синеглазый и немного сумасшедший, сливался с утренней природой. Ему казалось, что он понимает, о чем поют птицы, о чем шепчутся деревья и шумит трава.
Он мог бы играть и в одежде, но в этом не было столько прелести и наслаждения, нежели тогда, когда каждая клетка его здорового и сильного тела была обнажена, и сам он растворялся в этой пронзительной утренней свежести – в ее текучей и пахучей, смоляной и ветряной, песчаной и родниковой, росистой и травяной, вечно живой божественной материи.
Страшная лапа войны на время отпустила его из крепких объятий смерти, и здесь, в старой Кашире, на берегу реки он чувствовал себя в полном единении и гармонии с природой.
"Насколько глупы люди, – думал он. – Их алчность и глупость не имеют границ. С самой древности они заняты лишь тем, что придумывают все новые типы оружия для собственного убийства. Целые полчища тупых самоубийц".
Он закрывал в упоении глаза и парил вместе с мелодией в струях невидимого эфира. В этот раз он сидел возле реки, на высохшем от времени, серебристом и гладком бревне, поваленной старой ветлы. Вокруг него дышала свежестью влажная от росы осока, и тихо шептались тугие и острые стебли камышей. Он расслабился и отключился от всего мира, уносясь душой то в мелодию, то в звуки утренней реки, которая еще не проснулась и тихо несла свои воды вниз по течению. Реке хотелось лишь нежно облизать босые ноги Андрея. Песчаный берег темнел от тонкой речной волны.
И вдруг позади себя он явственно услышал треск сучьев и чьи-то легкие шаги. Он смахнул с головы остатки дремы и увел флейту от губ. Позади него стояла довольно симпатичная и юная барышня в светлом платье, в синий мелкий цветок. Она удивленно таращилась на обнаженного Кольцова. Но он и не подумал прикрыться брюками или полотенцем. Он лишь чуть свел вместе ноги и спокойно посмотрел на девушку. От неожиданности она густо покраснела, отскочила назад и быстрыми шагами поспешила прочь от песчаной косы. Он так и не понял, что она делала возле берега реки в столь ранний час.
Второй раз он увидел ее на танцах. И быстро выяснил, что зовут ее Ирмой. Что она вместе со своими подругами проходила педагогическую практику в местной гимназии. И что именно ее хвалил более других за успехи директор. И даже предлагал остаться в Кашире и служить в должности старшего преподавателя. Ирма раздумывала над выгодным предложением, сдержанно принимая осторожные ухаживания ушлого директора.
Но все это были мелочи, по сравнению с тем, что случилось с нашим героем. Однажды, после маятной бессонной ночи, когда воздух его комнаты загустел в таинственном свечении настолько, что прямо перед ним образовалось нежно розовое облако – ровно такое, какое бывает от цветущей яблони или вишни, он совершенно отчетливо понял, что влюблен в Ирму до беспамятства. Что это было за облако, и кто его ему явил, он не понимал долгие годы. Видение это вызвало в нем почти божественный по силе экстаз, но вместе с облаком в сердце вошел огромный огненный шар, имя которому было – ЛЮБОВЬ.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































