Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"
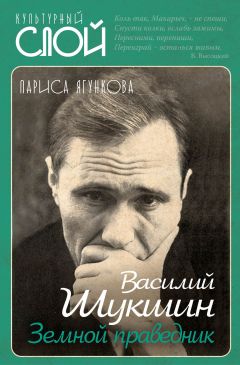
Автор книги: Лариса Ягункова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Разные они – эти братья Воеводины. Но в глазах старика – отца они отступники: по своей или не по своей воле, но ушли из деревни. А деревня для старика – это оплот, средоточие мудрости житейской. Эту мудрость, которая испокон века передавалась от отца к сыну, хочет старик оставить в наследство сыновьям – и не может: время другое, своевольное. Правда, вроде бы податлив на отцовскую науку оказался младший, Васька, но уж больно мелкая, эпизодичная получилась в фильме эта фигура. Васька появился в фильме случайно. Это Степан должен был, отсидев свой срок (добавили, конечно, за побег), вернуться в деревню. Но не вышло по-шукшински – подвел Леонид Куравлев: отснявшись в первой новелле «Степка», отказался от дальнейшего участия в картине, вот и пришлось наспех выдумывать Ваську, приглашать другого актера – В. Шахова, начисто лишенного куравлевского обаяния. Поддержи актер шукшинский замысел, покажи Ваську, то бишь Степана, плотью от плоти родной деревни (а это намечено было в первой новелле) – глядишь, деревенский жители, отец с сыном составили бы «оппозицию» Игнату, который любит вовсе не город, а себя в городе – такого вальяжного и ухоженного в сравнении с деревенскими мужиками. Дело-то вовсе не в том, где живет человек – в деревне или в городе, а в том, что у него за душой. Старик Воеводин не больно речист, чтобы выразить все это в словах, но когда его заденет за живое, слова найдутся: «И не совестно? Сильный, дак иди вон лес валить – там нуждаются. А ты дурочку валяешь. Кто ее тебе дал, силушку-то? Где ты ее взял?.. Здесь? Здесь и тратить надо. А ты – хвост дудочкой и завеялся в город: смотрите, какой я сильный! Бесстыдник!..». И речь вовсе не о том, мол, где родился, там и пригодился, но о том, что у человека должна быть совесть.
Вот она – нравственная тема Шукшина. Но выразить ее на экране не просто. И прежде всего потому, что это предстоит сделать при посредничестве вторых, третьих, десятых лиц. Не только актеров, но и многочисленных ассистентов, помощников, администраторов. Вот, не сумели все вместе удержать на картине Куравлева – и разрушили авторскую конструкцию, весь строй чувства и мысли. Неизвестно откуда взявшийся Васька не попал в обойму шукшинских героев, не ощутил того нерва, который позволил, скажем, Куравлеву без всяких слов сделать явным внутреннее состояние героя, совершившего поступок (или проступок с точки зрения расхожей морали) в силу сильнейшего душевного движения, за которым угадывается пробуждение личности.
Конечно, снимая свою вторую картину, Шукшин старался окружить себя актерами, которые умеют выразить авторскую идею – убежденную проповедь чистой, здоровой, открытой жизни – не речами, а всем своим существом. На роль старика Воеводина он пригласил Всеволода Санаева, актера простонародной деревенской органики, наделенного даром красноречивого молчания. Он угадал в актере тот самый запас человеческой памяти, который позволяет легко войти в образ и наделить своего героя множеством индивидуальных примет: этого самого Ермолая актер знал до ногтей; он так живописал Шукшину стариковские ногти – толстые, крепкие, широкие и слегка темные – что поразил режиссера этой точностью конкретного видения. И безо всяких проб утвердил актера на эту роль.
Но настоящим выразителем шукшинской идеи стал не старик Воеводин и даже не Степка, прекрасно сыгранный Куравлевым (роль-то осталась не доиграна, образ не довершен). Нет, в центре фильма оказалась младшая из Воеводиных – немая Верка, удивительной живостью и проникновенно воплощенная глухонемой актрисой Мартой Граховой. Это было подлинное открытие. Вот уж кому действительно не нужны слова. Всем своим существом она выражает радость бытия, замешанную на любви к миру и людям. Своего горя – увечности – она даже не осознает; это солнечное существо помогает нам постичь русскую простоту и доброту: «убогую» Верку все любят – никто не посмеет ее обидеть, даже просто огорчить своим равнодушием; она живет в гармоничном мире, где человек человеку друг – вот и нет горя, а есть чистейший незамутненный восторг жизни. Верка не ходит – летает; она вся – движение, порыв – вот и нет немоты, ведь говорит каждая гримаска на ее милом лице, каждая складочка на платье. Для полноты счастья ей не хватает только любимого брата Степки, угодившего за решетку. Но вот он возвращается – и немая до того счастлива, что у мужиков на глаза наворачиваются слезы. Так в сценарии Шукшина. Эти мужицкие слезы, конечно, из литературного ряда – на экране они произведут впечатление только на крупном плане. Но крупный план придаст сцене неуместную мелодраматичность. И потому актриса играет за всех – подыграть ей невозможно и не нужно. Она зримо выражает то чувство, которое сам Шукшин определил как чувство содеянного добра и любви к людям.
Интересно, что старший Игнат, погрязший в благополучии, в сущности, питает к ближним те же чувства, а вот не откликаются на них ближние: отец – тот прямо противоречит, стыдит и насмешничает, а братья просто игнорируют и живут своей жизнью, вразрез с его поучениями. Он как бы противопоставлен Верке, а смотрите, сколько у них в сущности общего: и оптимизм, и добродушие, и неумная энергия. Нет, явно не пустяк этот самый Игнат, много в нем воеводинского. Ключевая для понимания этого образа сцена, в которой старик стравливает Игната с Васькой: ну, смерть как хочется ему, чтобы деревенский плотник побил многократного чемпиона, но братья, едва схватившись для проформы, мирно расходятся – не хотят они бороться друг с другом. Вот посидеть рядом на бережку, поглядеть на Катунь – это другое дело. Нет, не отрекается Шукшин от Игната, хотя ясно понимает и зрителю дает понять, что, потребительское отношение к жизни, усвоенное силачом, это его ахиллесова пята – и быть ему в конце концов битым. Но до тех пор сколько медалей еще получит Игнат – он сдаваться не привык, будет гнуть свое и гнуть.
Игната играл Алексей Ванин – тоже деревенский, алтайский. Его фактура и биография кое-что подсказали Шукшину – подружились они давно, со времен совместных съемок в фильме И. Гурина «Золотой эшелон». «Прочитал я сценарий, – вспоминает Ванин, – и чувствую – знакомая как будто ситуация. Так Василию и заявляю: „Вась, а ведь это я вроде сам все тебе рассказывал?“. Шукшин прищурился и мне в ответ: „Твое, Леша, дело, прочитать сценарий и решить, сыграешь роль или нет…“». Несомненно, своего Игната Шукшин часто видел в жизни, и Алексей Ванин тоже был объектом наблюдения: очень волновало Шукшина, как осваивается деревенский человек в городе, чем одаривает его город и что отнимает у него. Он сам прошел через «каменные джунгли» (надо было слышать, с какой иронической интонацией произносил эти два слова Шукшин) и немало претерпел, пока понял, что и в деревне, и в городе люди живут в сущности одинаково – своим трудом, и хотя в городе условия труда как бы легче, городские тоже растрачивают свои силы без остатка, так подчас ничего не остается на музеи, театры и прогулки по красивым местам. Городская культура – понятие расплывчатое; деревенский человек, привыкший с малых лет здороваться со всеми встречными, бывает ошеломлен городским «безкультурьем»: все несутся, толкаются, наступают тебе на пятки, на вопросы не отвечают, в глаза не смотрят. Много лет назад, оказавшись в большом городе, Шукшин всем своим существом почувствовал беспомощность и неприкаянность. Это он бегал по аптекам в поисках лекарства для больной матери, а от него отмахивались и посылали куда подальше – именно так воспринимал он законное требование принести рецепт. А куда идти за рецептом, если у него ни прописки, ни знакомств? К кому прислониться со своей бедой?
«Максим склонил голову на руки, задумался, – напишет он потом в рассказе „Змеиный яд“. – Заболело сердце – жалко стало мать. Он подумал, что зря так редко писал матери, вообще почувствовал свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться по ночам… И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда». Ни одним словом не поступился он потом, перенося эту историю в сценарий. Для него, автора, переживания Максима, избегавшегося по городу в поисках лекарства, были не мельче чувствований Степки, бежавшего из тюрьмы, чтобы один вечер подышать деревенским воздухом. Но поди, убеди в этом зрителя, если две истории из жизни двух братьев, в сущности, несравнимы. Какой нерв требуется от исполнителя роли, чтобы передать отчаянную максимову решимость во что бы то ни стало помочь матери, отыграть все эти перепады чувств – от робости к дерзости, от апатии к истерике. Тут нужен был актер не слабее Куравлева, но второго такого не нашлось. Вот и вышло, что зритель, приняв и оценив Степана, очаровавшись Веркой, настроился на их волну и, не принимая близко к сердцу переживания Максима, стал ждать, когда же снова появятся на экране полюбившиеся герои. Но Степан так и не появился, а Верка только мелькнула – теперь предстояло настроиться на других персонажей – Игната и Ваську. Фильм сбился с ритма, потерял остроту. Но, спасибо, сумели овладеть зрительским вниманием старик Воеводин и городской Игнат: их противостояние опять-таки зажгло зрителя. Фактурность актеров, их исполнительское дарование и незаемное знание жизни помогли автору выразить глубокую нравственную тему, в сущности проходящую через все его творчество – тему душевного здоровья нации.
Нелегко дался режиссеру этот фильм: снимая его, он впервые почувствовал сопротивление собственного литературного материала кинематографической специфике. Лаконизм, с которым были написаны рассказы, вступал в противоречие с даром подробного зрения, которым наделен киноглаз. Приходилось смотреть на происходящее как бы под другим углом, отмечать подробности человеческого существования. С самого начала фильма он углубился в эти подробности – и прежде всего в среду обитания человека. Вместе с оператором В. Гинзбургом воспел природу. Ему самому теперь казалось невероятным и необъяснимым, что в первом его фильме пейзаж, собственно, не играл никакой роли. Как же он мог без него обойтись: ведь едет-то Пашка Колокольников по красивейшему Чуйскому тракту – «горы, горы, а простор такой, что душу ломит… какая-то редкая первозданная красота». Зато снимая второй фильм, он уже понимал, что природа это не фон, а самое нутро человеческого бытия. И кино может с огромной убедительностью это показать.
Широкой панорамой пригревшейся на весеннем солнце деревни открывается картина. Вот уж по-настоящему художественное полотно! Причем, созданное чисто кинематографическими средствами. Это – монтажный образ весны в деревне. Ледоход на реке, сосульки, тающие под весенним солнцем, всякая живность, довольная теплом и светом, старухи на завалинке и молодухи у реки – и все это в неспешном зрительном ряду. Казалось бы, снято и смонтировано походя, как бог на душу положил, однако же, не вдруг, не сразу родился этот пролог к фильму. Сам по себе он служит великолепной иллюстрацией к заповеди: художник обязан скрыть от публики те усилия, которых стоит ему творческая работа.
Шукшин явно вырос как режиссер. Его влекут подробности быта; через них он старается показать самую сущность бытия. Был в фильме «Живет такой парень» очень выразительный натюрморт: пузатый старый самовар, разномастные чашки, стеклянная вазочка с вареньем, простенькая сахарница и белая булка. Что-то приковало тогда внимание Шукшина к этому бедняцкому ужину. Скромный стол красноречиво говорил о хозяевах, которые не стыдятся бедности, напротив, готовы поделиться последним. И теперь он почти целую часть своего нового фильма отдает деревенскому застолью, не упуская ни одной мелочи, ни одной детали, будь то старые щербатые тарелки или граненые стаканы, потускневшие в засолке огурцы или не потерявшие своего пламенного цвета помидоры, краюхи хлеба или ломти сала. Все в изобилии, что называется, навалом. Тут важно довести до зрителя одну мысль: праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. «Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца – медовухи в туеске…». И так же подробно Шукшин разглядывает гостей – кто как сидит, кто как пьет, кто как гуторит, кто как поет. Ему очень важно не спеша подвести зрителя к тому моменту, когда проза жизни обернется чистейшей поэзией – широкой народной песней и безудержной пляской.
Этому повороту от прозы быта к поэзии бытия Шукшин отдаст должное и в «Печках-лавочках». И в «Калине красной». Но здесь он впервые погружается в самую гущу народа. Он впервые работает с массовкой. Находит замечательные типажи, рисует выразительные портреты. Первая новелла этого фильма «Степан» совершенна с изобразительной стороны. Но и драматургически она очень сильна. Режиссер, можно сказать, переливается в актеров, передает им свою энергию, внушает свою волю – отсюда потрясающая цельность повествования. Сцена, в которой немая Верка пытается понять, почему милиционер увел с праздника брата и теперь держит его в сельсовете, а. поняв, бросается к Степану с таким отчаянием, что тот готов оттолкнуть ее – лишь бы не видеть этого горя – одна из величайших сцен мирового кино.
К сожалению, потом режиссер не смог удержаться на такой высоте. Как говорилось выше, он потерял своих необычных, выразительных героев – остался только старик Воеводин, и вокруг него надо было заново собрать семью. Новеллистичность построения сыграла плохую службу, но Шукшин понял это гораздо позже. Сбиваясь с ритма и теряя набранную высоту, он все же вытянул картину. Спасла цельность художника, верность главной теме.
Определить эту тему, как тему попечения о душевном здоровье нации в ту пору никому не пришло в голову. Это сейчас – в годы бедствий народных в нашем лексиконе появились такие слова. Тогда же, казалось, никаких оснований для тревоги нет – вопрос «как жить» решался только в одной плоскости: как жить красиво? Сейчас-то у этих слов совсем другой смысл, а тогда значило идейно, целеустремленно, прогрессивно. Если судить с той точки зрения, то фильм «Ваш сын и брат» явно проигрывал другим картинам: мудрость, которую олицетворял старик Воеводин, была какой-то несовременной – один видный и, что существенно, умный критик даже обозвал ее «домостроевской». Критик упрекал автора в том, что он по-доброму снисходителен к патриархальности. Мол, Шукшин – за старую деревню, которая скорее заслуживает обличения, нежели умиления и восхищения.
Но в том-то и дело, что Шукшин вовсе не умилялся деревенской идиллией – он знал цену коротких минут просветления и умиротворения, всех этих «моментов истины»: за них заплачено тяжелым поденным трудом. Но чем тяжелее труд, тем желанней и прекрасней эти моменты, и нет без них настоящей жизни. Не домострой воспевал Шукшин, не привычку к дедовскому укладу жизни, а самую человеческую природу, в которой столько мощи и красоты.
Легче всего было объявить его апологетом деревни, да так оно и вышло: его сразу окрестили «деревенщиком», противопоставившим искреннюю, благостную деревню фальшивому городу. Но в том-то и дело, что никакого такого противопоставления ни в рассказах, ни в картинах Шукшина не было. А было только желание понять, куда она девается, народная мудрость и сила, вроде бы от рождения данная человеку, как он ее растрачивает и что из-за этого с ним случается. Об этом, собственно, все книги и фильмы Шукшина. Вот уж кто действительно по-шекспировски смог сказать: «За человека страшно мне». Но никто вокруг этого страха не разделял – время было в общем-то оптимистическое, и надо было обладать особенной чуткостью, чтобы ощутить в чистом воздухе запах гари. Горело где-то далеко, не у нас дома.
Конечно, с точки зрения официальной доктрины, требовавшей от художника «изображения действительности в революционном развитии», герои Шукшина пришлись явно не ко времени. Но, тем не менее, картину «Ваш сын и брат» хорошо приняли и даже наградили Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. Советская власть щедро давала авансы талантливым художникам. Развернута была и широкая дискуссия по картине, дабы направить автора на путь истинный. Претензии, предъявляемые к автору «сверху» были четко сформулированы одним из ярких пропагандистов советской идеологии критиком Н. Н. Кладо в сборнике «Экран-1967». Стоит привести их хотя бы частично – тогда очевидней будет непримиримость художника и критика.
«В фильме старая деревня спорит с тем старым, что есть в новом городе. Зачем? И то и другое заслуживает обличения. Новых же явлений, характерных для современной деревни, которые и могли быть соблазнительны для молодежи, в фильме нельзя обнаружить. В картине городским недостаткам противопоставлена патриархальность. Ее мнимая чистота. И преимущественная нравственность. Но я за противопоставление морали передовой – отсталой и движения общества – застою.
Река Катунь прекрасна. Но и Катунь движется. Она будет служить людям не только как деталь пейзажа. Переделывая природу, человек переделывает себя. Свою природу. Тривиальная истина! Почему же ее забыл Шукшин? Думается, что здесь проявилась характерная для некоторых наших произведений недооценка самосознания народа, его духовного роста. Изменения в родной ему деревне словно бы не замечены Шукшиным».
Теперь, по прошествии сорока с лишним лет, совершенно ясно: это не Шукшин проявил недооценку самосознания народа – это его критик сильно переоценил духовный рост своих соотечественников. Сейчас, когда мы стоим над пропастью национальной катастрофы (а ее причины можно вывести как раз-таки изучая творчество Шукшина), мы хорошо понимаем: перемены в самосознании масс происходят чрезвычайно медленно; еще великий Некрасов писал об этом: «нужны столетия, кровь и борьба, чтоб человека создать из раба»; не народы вершат исторический прогресс, а пассионарии – вот пассионариев-то выдвигает народ. Но не они – герои Шукшина. Хотя пассионарное начало – этакая бродильная закваска – очень часто присутствует в его персонажах, почти всегда принимая какие-то странные формы. Он чувствует: одержимость – очень русская черта, но почему-то она обычно не созидает, а разрушает человека. И опять-таки он хочет понять, почему прекрасные качества, заложенные в человеке природой, не получают выхода и расточаются всуе.
Он ищет своих героев в самой гуще обыденной жизни, а образ великого пассионария постоянно стоит перед ним, и он все чаще задумывается: а что, если именно этот герой, так неотступно живущий в памяти народной, объяснит необъяснимое. Именно в то время он делает первые наброски к теме «Степан Разин» – пока еще только штрихи к образу.
«…Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их… Знал он и этих, что ворвались: приходилось, он делил с ними радость и горе тех ранних походов и набегов, когда был он молодым казаком, гуливал с ними… Стало на Дону худо, нахмурился в Москве царь Алексей Михайлович – и они решили выдать грозного атамана. Они очень хотели жить как раньше – вольно и сладко.
…Кинулся Степан Тимофеевич к оружию, да споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки… Хрипели. Негромко и страшно матерились. Нашел в себе силы Степан приподняться, успел прилобанить одному-другому могучей своей десницей… Но ударили сзади чем-то тяжелым по голове. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.
– Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора, – сказал он.
Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам…».
Написано это для нового сценария опять-таки на современную тему: персонаж – резчик по дереву, самородок Колька, возмечтавший вырезать Стеньку Разина, такого, каким предстал он в рассказах старого учителя Захарыча.
Скоро, очень скоро придет к Степану Разину и сам Шукшин, но пока его герои – все те же сельские жители, да, пожалуй, самые курьезные из них – недаром фильм будет называться «Странные люди». Верный своему решению снимать авторское кино, он взял своих любимых рассказа – «Чудик», «Миль пардон, мадам!» и «Думы». На этот раз он решил откровенно идти от писательского сборника, уверенный в том, что в кино «малый метр», короткометражка имеет полное право на существование. Кстати, опыт создания «киносборников» в советском кино уже был – во время войны; эти фильмы пользовались успехом, и Шукшин, конечно, об этом знал.
Потом, ошеломленный провалом фильма, он пытался разобраться в его причинах, с карандашом в руке подсчитывал все свои промахи – это авторская исповедь вошла в нашу первую беседу. Тогда он высказал очень важную, выстраданную истину: из литературного произведения напрямую фильма не сделаешь. Собственно, он давно это понимал, но как-то плыл по течению своей прозы – и не утопал. Не потребовали никакой особой кинематографической трактовки прозрачные, ясные рассказы – без подтекста, без ярко выраженной шукшинской иронии. Но вот почерк Шукшина изменился – стал много тоньше, острее, выразительнее, и оказалось, эти художественные достоинства целиком принадлежат литературе и чтобы перенести рассказ на экран, ничего не потеряв из его достоинств, надо поломать голову.
И Шукшин придумал другие повороты своих известных сюжетов – то есть пошел все тем же литературным путем. Например, Чудик у него приезжает к брату не в рабочий уральский город, а в курортную Ялту. Потом в «Печках-лавочках» Шукшин отыграет этот мотив: озабоченный жизнью человек – в праздной толпе, не важно какой человек – городской или деревенский, а важно, что это простая душа, путник на большой дороге, столкнувшийся с такими житейскими проблемами, что разрешить их походя, да еще на этом «празднике жизни» просто невозможно. Но здесь автор только силится выразить эту мысль. Ведь для этого опять-таки нужны зримые, емкие образы. Он приводит Чудика в домик Чехова. Но приодевшийся по случаю такого «выхода» Чудик сливается с нарядной и суетной курортной толпой скучающих в музее посетителей, которым надо только «отметиться» и бежать дальше, к другим достопримечательностям. Прикосновение к Чехову было нужно не Чудику, а самому Шукшину, но оказалось каким-то неожиданным вставным эпизодом. Автор сам у себя отнял время, которое мог отдать своему герою. Образу Чудика явно не хватило деталировки, проработки на уровне экрана. Проще говоря, в глаза ему не удалось заглянуть. Чудика играл, казалось бы, очень подходивший на эту роль С. Никоненко – сочувственно, тепло. И без тени юмора. Не хватало шукшинской улыбки, этого веселого прищура, с которым автор смотрел на своего героя и нам предлагал на него взглянуть. Тут нужен, наверное, Л. Куравлев с его потрясающей, единственной в своем роде органикой: такой актер уже своим появлением может вызвать необходимую реакцию зрителя – одним движением, взглядом, мимолетным словом. Никоненко такой органикой не обладал.
Вообще шукшинский юмор начисто ушел из фильма. Особенно это сказалось на второй новелле. Само название рассказа «Миль пардон, мадам!» Шукшин поменял на «Роковой выстрел». Иронии в новом названии не прочитывается – ее надо угадывать. На роль Броньки Пупкова он пригласил выдающегося актера Е. Лебедева, который мог сыграть абсолютно все – от Сталина до толстовского Холстомера. Конечно, у такого актера есть право на свою собственную интерпретацию образа. Великий актер решил переключить комедию в план гротеска. Получился явный перебор: герой доходил почти до истерики. Между тем, читателю рассказа было совершено ясно, что исповедь Броньки – не просто театр одного актера, а тайное тайных простой души. Шукшин дает понять, что этот крепкий, ладный, улыбчивый мужик, любитель выпить и побузотерить, удачливый охотник и безотказный проводник для тех, кто хочет поохотиться – при всей своей очевидной «легкости бытия» глубоко несчастен: он страждет для себя пьедестала и готов взойти на него если не в лавровом, то терновом венце. Отсюда – и многократно повторяемый им рассказ о его неудачном покушении на Гитлера.
Кажется, есть посыл к очень острой, гротесковой игре, но в кино такая игра обернулась вставным аттракционом и помешала восприятию образа. Автор передоверился актеру и потерял характер-притчу. Но вот вопрос, смог бы другой актер, пусть даже сам Шукшин, пробиться сквозь зрелищность экрана к этой самой притче? Опять-таки понадобилась бы очень тонкая, специально найденная для кино, деталировка образа. Но Шукшин поспешил и ввел в картину закадровый текст. Сам и читал его, надеясь, что это создаст эффект авторского присутствия. Однако, шукшинский нерв в тексте не прозвучал – получились невыразительные авторские комментарии.
Да, нелегкую задачу задали Шукшину-режиссеру его чудики, не так-то просто оказалось привести их на экран – тут нужна была ювелирная работа над сценарием, настойчивые поиски кинематографической выразительности и актеры не только талантливые и в силу своего таланта способные принять этих чудиков в душу, даром символического прочтения вроде бы обыденной ситуации.
К счастью, третья новелла по рассказу «Думы» рождалась в творческом союзе с полюбившемся Шукшину актером В. Санаевым. Ему не надо было ничего объяснять про его героя – председателя колхоза Матвея Рязанцева. Сам актер прожил полную труда и забот жизнь и подошел к порогу, с которого нестерпимо хочется оглянуться назад и помыслить о прожитом. Как писал Шукшин: «Жизнь-то всегда одна – и та, не успеешь оглянуться – к вечеру уж. И тут тянет человека оглянуться… Вот и оглядываются, каждый на свое». Матвей Рязанцев задумался о жизни и смерти. Никогда не думал – некогда было, а теперь задумался, потому что не страдал раньше бессонницей, а теперь – стоит пройти с гармошкой от своей зазнобы беспокойному Кольке – все, сна уже нет… Вот эти думы старого человека стали содержанием новеллы. Решались эти эпизоды в приемах поэтического кинематографа, модного в те годы. Режиссер переключал бытовую ситуацию в символическую – в картине возникали образы прошлого и будущего. Не будь в кадре такого органичного и вместе с тем умного актера как Санаев и, верно, не удалось бы связать воедино все эти эпизоды. Тем более, что параллельно развивалась другая сюжетная линия – резчика-самоучки Кольки, одержимого образом Степана Разина. И, надо сказать, писатель Ю. Скоп, приглашенный сыграть Кольку в силу этого самого родства душ, справился с задачей в бытовых реалистических сценах не хуже профессионала, а вот до символического решения ключевых «разинских» эпизодов, он не дошел.
«Думы» потребовали совсем других выразительных средств, чем первые две новеллы. Но Шукшин и не пытался добиться какой-то стилистической общности – он изначально предполагал, что каждая новелла будет сделана по-своему. С его точки зрения это должно было даже повысить зрительский интерес. Он пренебрег мировым кинематографическим опытом, который ориентировал художников на создание полнометражных картин – киносборники нигде не имели успеха, да и выпускались-то они чрезвычайно редко, обычно в целях пропаганды или рекламы. Памятен был Шукшину успех «Боевых киносборников» военных лет – там действительно реалистическая новелла могла соседствовать с фарсом или пародией. Но «Боевые киносборники» пронизаны одной болью, одной идеей – ненавистью к врагу и жаждой победы. А в «Странных людях» не было единого стержня, единой мысли. Странности-то у героев оказались очень разные, несопоставимые – для чего же было объединять их «в одном флаконе»?
Зритель не принял фильма – для Шукшина это было поражением. С одной стороны, он чувствовал себя уже сложившимся художником, мастером слова, признанным писателем, с другой – его совершенно не удовлетворяло то, что он делал в кино. Премии, полученные за первые две картины, его не обманывали – он угадывал, что они даны авансом за преданность деревенской тематике – в надежде, что он в дальнейшем сумеет осмыслить с идеологических позиций социальные процессы, происходившие в деревне. Но не тут-то было. Само предположение, что его воспринимают исключительно как «деревенщика», его обижало. Он мыслил и творил в необъятном пространстве современной жизни. Он вообще не признавал разделения литературы, а тем более, кино по внешнему топонимическому признаку. Все проблемы городских и деревенских жителей являлись ему в сплаве. Он понимал, что кому-то очень выгодно вбивать клин между городом и деревней – отсюда и высокомерие города по отношению к деревне, и недоверие деревни к городу. Можно сказать, он испытал все это на себе. Не хватало еще этого противопоставления в искусстве! Посвятить себя исследованию деревенской жизни, как это сделали, скажем, писатели Федор Абрамов или Василий Белов, вовсе не значит замкнуться в кругу каких-то специфичных деревенских проблем. Более того, знание своих корней, истоков русской жизни позволяет выйти на простор больших общественно значимых тем.
Но вот вопрос: как овладеть средствами экрана, чтобы поднять в кино такие темы. Собственный кинематографический опыт не просто разочаровал Шукшина – он привел его к пониманию того, как трудно, а порой просто невозможно найти изобразительные средства, эквивалентные литературным по силе выразительности. Тут он был совершенно согласен со своими критиками: рассказы, по которым он поставил свои фильмы, конечно, лучше.
Нетрудно заметить, что картины Шукшина – и удавшиеся, и неудавшиеся – тяготеют к новеллистическому построению. Всю силу своего художественного видения Шукшин направляет на широкое истолкование какого-то малого события. В кинематографе с его огромной образной выразительностью это малое событие обладает куда большей выпуклостью, большей конкретностью, чем в литературе. И в результате те мудрые притчи, которые так проникновенно звучат в прозе, как бы утрачивают в фильме свою глубокую подоплеку, превращаются в расхожие бытовые анекдоты. Те же самые мотивы, которые в литературе служат созданию прекрасного прозаического жанра «были», в кинематографе оборачиваются уже не былью, а побывальщиной. Литературную новеллу трудно, порой даже невозможно прямо и непосредственно превратить в новеллу кинематографическую. Шукшину приходится существенно перестраивать литературные образы, чтобы сделать их более органичными для экрана. Но как же тяжело идет эта работа!
Еще в 1966 году он пытается разобраться в этих своих ощущениях и пишет статью, как и не увидевшую свет при жизни. Можно сказать, это программная статья. В ней прямо заявлено: «Средства литературы – неизмеримо богаче, разнообразнее, природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литература питается теми живительными соками, которые выделяет – вечно умирая и возрождаясь, содрогаясь в мучительных процессах обновления, больно сталкиваясь в противоречиях – живая Жизнь. Кинематограф перемалывает затвердевшие продукты жизни, готовит вкусную и тоже необходимую пищу… Но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































