Текст книги "Жюль Верн"
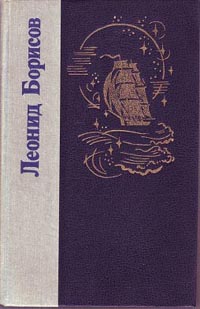
Автор книги: Леонид Борисов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Глава седьмая
Очень много иксов
Пьер Верн любил восемнадцатый век. Все нравилось ему там: и литература, и театр, и музыка, и моды, и даже нравы. Вызывая в своем воображении минувший век, Пьер Верн подолгу задерживался на тех образах, которые особенно были дороги ему. По мнению взыскательного адвоката Пьера Верна, всё нынче во Франции стало мельче, скупее, суше. В этом отношении сродни ему была и жена – с той разницей, что она меньше тосковала и сожалела, так как ей не приходилось служить и честолюбие ее было слабо развито. С нее довольно было и того, что весь Нант знал о ее существовании, люди при встрече с нею раскланивались и со снисходительным уважением относились к ее причудам: к мушке на левой щеке и под правым глазом, крохотному зонтику с непомерно длинной ручкой, припудренным локонам. Нантские рыбаки, ремесленники, мелкие служащие и рантье полагали, что при весьма солидных средствах можно позволить себе и не такие глупости. Нантская буржуазия, наоборот, имея очень большие деньги, вовсе не желала позволять себе тех глупостей, которые так естественно и даже умилительно украшали мадам Верн.
Жюлю прививалось поклонение исчезнувшему, минувшему, но случилось так, что он, существуя в веке девятнадцатом, в мечтах жил на полстолетие вперед. Возможно, что жесткая, направляющая рука отца, желавшего видеть сына своего на юридическом поприще, спасла Жюля от мук пустого бескрылого мечтательства и не увела его в любезный сердцу его родителей восемнадцатый век, то есть назад.
Жюлю на всю жизнь запомнился такой случай. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, отец положил на стол лист белой бумаги и спросил:
– Это что?
– Бумага, папа, – ответил Жюль, ожидая какого-нибудь фокуса.
– Это бумага, – сказал отец, – но мы представим, что на ней изображена твоя жизнь. Вот я ставлю точку – это начало твоего пути в будущее. Проведем прямую к другой точке. Вот она, видишь? На этой линии я ставлю крупные точки И все их называю иксом. Тебе понятно? Иксы – это собственное твое желание, твое поведение, склонности и мечты. Они, допустим, неизвестны мне. Они, допустим, меня не касаются. Меня интересует конечный пункт – юридическая деятельность. От А до в – как тебе угодно, но здесь, где игрек, – ты юрист.
– А как быть с иксами, папа?
– Это зависит от меня, мой друг, – от меня зависит неизвестное сделать известным. Ты должен стать юристом. В этом твоя слава, хлеб и счастье. Надеюсь, что все понятно? Скажи мне своими словами, как ты это понимаешь.
– Фактически я должен стать юристом, – думая над каждым своим словом, произнес Жюль. – Но юридически вот здесь иксы. Следовательно, неизвестное не может называться фактом, – ты сам говорил мне об этом. Значит, там, где ты написал слово юрист, можно поставить икс.
О, как расхохотался Пьер Верн! Нужно было видеть и слышать эти конвульсии жестов и заливистую истерику безудержного смеха. Отец пришел в себя не скоро; прибежала мадам Верн и, не понимая, что происходит, но чутьем матери чуя какую-то опасность, принялась неистово целовать сына, ежесекундно спрашивая:
– Что случилось? Ради бога! Что случилось, Пьер, да перестань, – скажи, что случилось?
– Ох, случилось… ох, случилось… – тяжело дыша, произнес Пьер Верн, – случилось, что Жюль уже юрист! Нам следует только следить за тем, чтобы… ха-ха-ха! – чтобы Жюль чаще решал задачи со многими неизвестными данными! О мой бог! Неизвестное ему уже хорошо знакомо!
В восемнадцать лет Жюль уверенно и смело жил в своем столетии, украшая действительность особыми приборами и аппаратами, позволяющими разговаривать на расстоянии и летать по воздуху, опускаться на дно океана и путешествовать по всему свету. Чего-то еще недоставало для того, чтобы мечтания эти легли на бумагу хотя бы в форме романа…
Пока что Жюль учился в колледже и на досуге писал стихи, – вернее, куплеты для своего приятеля Аристида Иньяра, молодого композитора, уехавшего в Париж и там зацепившегося за нечто столь неприбыльное, что, по его же словам, не окупало ночной свечи и тряпки для смахивания пыли с рояля.
«Приезжай сюда, ко мне, – писал Аристид Жюлю. – В Париже много едят только дураки и те, кому нечего делать. Нам вполне достаточно будет трех обедов в неделю, но зато мы получим право поплевывать на все стороны, щурить глаза на всех и каждого и рукоплескать идущим впереди нас. Бросай все и приезжай. Мы покорим Париж!»
Планы на будущее у Жюля были таковы: окончить колледж и, не огорчая отца, поступить на юридический факультет Парижского университета. А дальше видно будет. Всё же отец есть отец, – после матери он первый, кого необходимо уважать и слушаться. Отец трудится не столько для себя, сколько для детей своих. Это убедительно и священно.
Слова Поля о рыжем посетителе совершенно неожиданно вернули Жюля к его детству, к мечтам о таинственных исчезновениях и вполне возможных перемещениях в области привычных представлений о том, кто ваши родители, – а вдруг совсем не те, кого мы называем отцом и матерью? А вдруг ты сын принца; что тогда? Тогда нужно заявить тому, кого называешь отцом: «Папа, как выяснилось, я очень высокая особа, но это ничего не значит, я остаюсь твоим сыном, но живу с очень проказливой мыслью о своем могуществе!»
А что, в самом деле! Разве нельзя допустить, что этот рыжий посетитель пришел к Пьеру Верну только затем, чтобы открыть ошеломительную новость: «Ваш сын Жюль – мой сын, почтенный месье Пьер Верн! Я достаточно богат для того, чтобы воспитать его во дворце под кущами каштанов, среди райских птичек и золотых рыбок! Жюль, – скажет этот Барнаво, – собирайся, мы едем»… Куда едем? Да никуда не поедем, а просто страшно интересно!..
– Знаешь, Поль, – признался Жюль брату, – я совсем не маленький, но этот таинственный Барнаво играет на каких-то еще отлично звучащих во мне струнах самой идеальной романтики! Я хожу и воображаю черт знает что! Даже стыдно! Этот Барнаво хорошо одет?
– На нем крестьянская куртка и синие узкие штаны, – ответил Поль. – На голове соломенная шляпа, – она сидит, как дамская шляпка на голове Моисея. На ногах деревянные башмаки и через плечо на ремне кожаная сумка. В ней Барнаво держит копченую рыбу и флягу с ромом. Он курит трубку, набитую табаком третьего сорта. Старик остроумен и хорошо знает литературу. Я беседовал с ним минут двадцать. Ты никуда не уходи, Жюль, а то он придет, и опять в твое отсутствие. Папа что-то знает о нем, но не хочет сказать, что именно.
Был воскресный день в конце апреля. Утром Жюль виделся с месье Бенуа, и тот сообщил ему кое-что о Барнаво. Образ рыжего посетителя побледнел и утратил то очарование, которое придал ему Жюль. Любопытство всё же оставалось неутоленным. Бенуа сказал:
– Этот Барнаво своего рода гений. Твое личное преуспевание в течение ближайших десяти – пятнадцати лет подтвердит мое высокое мнение об этом швейцаре.
– Швейцаре? – изумленно протянул Жюль. – Барнаво – швейцар?
– Он был им, Жюль. Это ничего не значит. Не забудь, что сам Вольтер занимался починкой часов, а Наполеон Бонапарт в детстве ловил рыбу, чтобы кормить себя и свою семью.
Жюль побывал на набережной, заглянул к мамаше Тибо и отложил для себя томик стихов Виктора Гюго. Он навестил родителей Леона Манэ и, беспричинно тоскуя, забрел на станцию дилижансов. Здесь администрация, заботясь о пассажирах, устроила в большом зале ожидания тир, лотерею-аллегри и перекидные картинки, заключенные в квадратном полированном ящике с двумя увеличительными стеклами для рассматривания. Жюль хорошо знал эти картинки, много раз выигрывал в лотерею поплавки и ножнички, но ему не довелось стрелять в цель.
«Попробую», – решил Жюль. На расстоянии пяти-шести метров от барьера стояли вырезанные из железа и грубо раскрашенные корабли и птицы, головы животных и преглупейшие физиономии персонажей из сказок. Жюлю зарядили ружье, и он, наскоро прицелившись, выстрелил.
– Высоко взяли, – сказал хозяин тира. Жюль выстрелил еще раз. Хозяин повторил ту же фразу. Жюль выстрелил в третий раз. Кто-то стоявший позади него сказал:
– Глаз верный, рука твердая, но ружье английское, оно хорошо тем, что, стреляя из него в…
Жюль обернулся и увидел перед собою человека, одетого по изустному эскизу Поля: на рыжей копне волос соломенная шляпа, кожаная сумка через плечо, крестьянская куртка на массивном теле.
– Это вы! – воскликнул Жюль, не слушая окончания сентенции об английском ружье. – Вот хорошо!
– Очень рад, если вам хорошо, – сказал незнакомец. – Бросив на ветер три-четыре франка, вы наконец попадете в слоновий глаз, и тогда хобот поднимется за те же денежки. Продолжайте вашу стрельбу, сударь!
– Я не сударь, а Жюль, сын Пьера Верна, того, с которым вы беседовали вчера. – Жюль жадно рассматривал рыжего посетителя, и сердце его билось так, словно он попал в тот корабль, подле которого висело объявление: «Попадешь капитану в глаз – пойдет дым из трубы».
– Вы Жюль Верн! – воскликнул незнакомец и попятился.
– Да, я Жюль Верн, а вы Барнаво?
– А я Барнаво! Поцелуй меня, мой мальчик! Я имею на это право, я… не будем говорить сейчас о том, что я такое и кто я такой!
Он трижды поцеловал Жюля, обнял его и по-отцовски прижал к своей груди. Жюль чувствовал себя неизъяснимо счастливым и предельно взволнованным; он взял Барнаво под руку и повел его в кафе. Там, потягивая кофе с ромом, старик в картинных выражениях рассказал о своей проделке много лет назад. Трое слуг наперебой принимали заказы Жюля и Барнаво: после кофе последовало мороженое и оршад, за ними снова кофе и ячменное пиво и, наконец, огромные порции колбас, поджаренных в сметане и масле.
А потом они пошли колесить по всему Нанту. В семь вечера они прихватили старого Бенуа и вместе с ним отправились в кабачок. Пьеру Верну была отправлена с рассыльным записка: «Дорогой папа, не сердись! И ты, дорогая мама! Провожу время с Барнаво. Мне очень хорошо. Ваш Жюль и больше ничего. Точка. Жюль Верн».
– Мы еще пригодимся друг другу, – говорил Барнаво, обращаясь к Жюлю. – Вот ты сказал, что будешь учиться в Париже. Что ж, учись, и я за тобой. Куда ты, туда и я. Мне совсем нетрудно будет пристроиться в Париже на какое-нибудь местечко. Мы нальем вино новое в бутылки старые, – нужно только как следует прополоскать их. Правду я говорю, Бенуа?
– Вы изъясняетесь художественно, – лепетал старенький Бенуа. – Не берусь утверждать, что вы произносите одни лишь истины, но я ввику, что вы подлинное дитя народа. Вам недостает образования, связей и системы, Барнаво!
– Образование мне только помешало бы, – самоуверенно басил Барнаво, прикладываясь ко всем бутылкам по очереди. – Будь я образован, я не служил бы швейцаром, не пахал землю, не исполнял обязанностей курьера в префектуре, не давал бы советов префекту, благодаря которым он выгодно женился в то время, когда должен был идти под суд. Связи… связи я добуду – ого, Бенуа, я добуду их! Ну, а система – этого я даже не понимаю, честное слово! Что это такое?
– Это точный маршрут ваших действий и намерений, – заплетающимся языком проговорил Бенуа.
– Не понимаю! В разговоре со мною не следует употреблять этих… этих… ну как их!
– Метафор, – подсказал Жюль. Он чувствовал себя именинником. В его размеренную жизнь восемнадцатилетнего юноши властно вошла какая-то веселая неразбериха, нечто не имеющее отношения ни к настоящему, ни к будушему. Он наблюдательно оглядывал Барнаво и спрашивал себя: «Что мне эта Гекуба и что ей я? Старик когда-то придумал невероятную чепуху и до сих пор верит в предсказание мадам Ленорман! Надо же!..»
– Знаю, о чем ты думаешь, мальчик, – прервал его размышления Барнаво. – Ты думаешь: а для чего я связался с этим сыном народа? Не думай об этом, мой дорогой! Найди свою систему и действуй! Я верю в тебя, Жюль! Почему, на каком основании? И сам не знаю. Такова всякая вера, способная делать чудеса. Мне всегда требуется в кого-нибудь верить. Я верил в Бонапарта, но он что-то где-то сделал не так. Я верил в Турнэ, но он оказался дураком. Я…
Барнаво махнул рукой и приложился к бокалу с ромом.
– Я верил в мой клочок земли, но меня лишили и земли и веры. Длинная история, не хочется рассказывать. И вот я уверовал в тебя, Жюль! В чудесную юность моей родины. А вы, Бенуа, говорите, что я ничего не смыслю в метафоре! И в метафоре, и в гиперболе, и даже в пятистопном ямбе, коли на то пошло! Живи сейчас Гомер – я бы научил его писать в рифму! Уж я ему…
Барнаво не договорил, голова его отвалилась к спинке стула, рот раскрылся, пышные усы свесились, глаза закрылись. Барнаво захрапел. С помощью Жюля и Бенуа (невелика была, кстати сказать, помощь) бывшего швейцара усадили в коляску и привезли в дом Пьера Верна. Здесь его уложили в комнате, отведенной для гостей. Все в доме спали. На своем столике у окна Жюль нашел письмо от Жанны.
«Я приезжаю в начале мая, – читал Жюль, – и снова уеду в начале июня. Твой глобус окончательно утвержден, и, может быть, мне удастся привезти тебе деньги за твою остроумную выдумку. Один консультант отозвался о твоем глобусе так: „У этого Жюля Верна голова работает превосходно, из него выйдет толк…“ Вот, Жюль, те приятные новости, которых ты так хотел от меня. Все идет хорошо. Тебе остается только закончить образование. Я тебя люблю. Если бы ты знал, до чего весело в Париже! Директор „Глобуса“… ну, ладно, а то ты опять подумаешь не то, что следует. Не пиши мне на адрес театра, а прямо в дирекцию фирмы „Глобус“…
Глава восьмая
Отъезд
«… Особенные успехи оказал в математике, физике и космографии; весьма похвально учился языку родному и древним, глубокие познания имеет по минералогии, ботанике, астрономии. Педагогический совет аттестует Жюля Верна как способного занять выдающееся место на избранном им юридическом поприще. Отличительные свойства: легкая усвояемость при большом прилежании, отличная и одухотворенная память, характером добр, но вспыльчив, великодушен и не праздно-мечтателен. Председатель Совета выпускного класса Нантского лицея Эмиль Ленуа,..»
Пьер Верн свернул в трубку этот драгоценный документ, перевязал синей ленточкой и спрятал в секретный ящик письменного стола. Жюль наблюдал за отцом с умилением и нежностью.
– Я тревожусь, Жюль, – сказал отец, бренча ключами в кармане. – Твоя юность кончилась. Пришла зрелость. Скажи откровенно, как ты себя чувствуешь?
– Чувствую себя превосходно, папа. Думаю о том, что, к сожалению, синяя ленточка еще настигнет меня…
– Я не очень-то быстр на соображение, Жюль. Что ты хочешь сказать?
– Я хочу сказать, что мне предстоит вручить тебе документ об окончании высшего учебного заведения, который ты также перевяжешь синей ленточкой.
– Да, конечно, – оживился Пьер Веря. – Я доволен тобой, Жюль. Что слышно о Барнаво?
– Он уехал к себе в Пиренеи, чтобы окончательно распродать свое имущество и следовать за мною в Париж.
– Да? Гм… Забавный человек… Он сочинил гадалку Ленорман, которой я чуть было не отправил письмо. Совпали фамилии. Потрясающей выдумки человек этот Барнаво. В нем погиб художник, и потому он…
– Хочет художественно жить, – перебил Жюль. – Это ему удается, и даже хорошо.
– Мне очень не хочется, чтобы и ты жил столь художественно, как твой Барнаво. Никогда не превращай жизнь свою в роман, мой друг! Романы хороши для чтения. Еще один вопрос: насколько я понимаю, ты намерен жениться…
– Что ты, папа? Даю слово, что я и не думаю об этом! Откуда ты это взял?
– Так. Взял. Существует Жанна. Ее письма к тебе. Твои письма к ней. Задумчивость, печаль, исхудание, чтение всякой чепухи…
– Я люблю читать, ты это знаешь, папа. Я немножко люблю Жанну, – что поделаешь… Но Жанна увлеклась директором фирмы «Глобус». Прямо об этом она ничего не пишет, но…
– В таком случае постарайся забыть ее, мой дорогой! Сердце у нас одно, бессердечных девушек тысячи.
– Хорошо сказано, папа!
– Недурно. Это слова Барнаво, я повторяю их, и только. Будешь писать ему – передай от меня привет и глубокое мое уважение. Я никогда не думал, что барон Мюнхгаузен может оказаться таким симпатичным и даже правдивым человеком. Иди, Жюль, я не задерживаю тебя.
Все разъехались. Нант пуст, в нем нет у Жюля ни друга, ни приятеля. Жанна в Париже, но еще год назад она жила в сердце Жюля и он жил в сердце Жанны. Аристид Иньяр богатеет и становится забывчив. Леон Манэ терпит нужду, писателя из него не получается, журналистика его угнетает, пишет он редко и мало. Пьер Дюбуа исчез, он где-то не то в Африке, не то в Америке. Старенький Бенуа получил неожиданное повышение – он поступил на должность секретаря к одному известному парижскому ученому.
Нант пуст. И потому так хорошо, что есть Барнаво, этот Санчо Панса, барон Мюнхгаузен, преданный друг, советчик, светлая голова. Не умилительно ли читать такие, например, его сентенции:
«Хороший юрист получается из того человека, который хочет быть юристом, но кто не хочет им быть, тому не следует и думать об этом, мой мальчик. Я, кстати сказать, юристов не терплю, – мало среди них хороших людей. Твой отец – редчайшее исключение. Что касается тебя лично, то я заприметил в тебе другой талант – ты ловко сочиняешь и привираешь, ты любишь науку и веришь в то, что она поможет человеку стать хозяином вселенной, которая, как это ни странно и глупо, бесконечна, чего я никак не могу себе представить. Вот и иди по этой дороге, и прости, что я не только сажусь в кресло твоего отца, но и беру на себя отцовские обязанности. От моих нотаций голова не заболит. Я одинок, у меня нет детей и сочинений, но я сочинил тебя и хочу посмотреть, что будет дальше, – я не умру до тех пор, пока не смогу сказать: Жюль Верн прославляет свое отечество. Постарайся, Жюль, очень прошу тебя, постарайся! Не особенно торопись, но и не медли. Высоконочтенному Пьеру Верну передай эту квитанцию, он получит по ней в таможне бочонок вина – моего вина, Жюль! Оно очень крепкое, но не вредит рассудку, действуя исключительно на конечности…»
«Послушай, Жюль, сочини для меня стишок! Строчек двадцать, можно и больше, только в рифму, не так, как у Гомера, который писал длинно и утомительно. Тема такая: стар не тот, кому много лет, но тот, кто чувствует свой возраст. Такой стишок очень пригодится в одном моем предприятии. Если тебе вздумается вставить женское имя, я ничего не имею против Мадлен…»
«Высокоуважаемой мадам Верн скажи от моего имени, что ее головные боли пройдут сразу же, как только она приложит к затылку платок, смоченный в утренней росе. Наш судья говорил, что при головных болях хорошо помогает клевета на ближнего, но мне кажется, что судья не учел одного: ближний может сделать так, что у вас заболит что-нибудь другое…»
«Кончается бумага, становится темно, пора ложиться спать – переезжать в завтрашний день, как говорил один мой старинный друг…»
В свой завтрашний день Жюль переехал осенью. Он увез с собою наставления родителей, свою маленькую картотеку, четыре смены белья, рекомендательные письма и длиннейшее послание к своей родной тетке, у которой следовало остановиться до приискания комнаты.
Через неделю он постучал в дверь родного дома. Ему открыл отец. Жюль ожидал восклицаний, знаков крайнего удивления и даже ужаса, нетерпеливых расспросов и, возможно, упреков и насмешек. В самом деле, отправиться в Париж, чтобы там учиться, и вдруг, без предупреждения, явиться домой и лаконично заявить:
– Я немного обожду, папа…
Мадам Верн испуганно пролепетала:
– Я так и думала – несчастье!..
– Именно несчастье, – сказал Пьер Верн. – Садись, Жюль. Хорошо сделал, что вернулся. Что в Париже – стреляют?
Жюль отрицательно качнул головой.
– Грабят? – спросил Верн. – Останавливают на улице людей и требуют, чтобы они взяли в руки нож и пошли резать адвокатов, профессоров, фабрикантов и чиновников, да?
– Нет, папа. В Париже происходят большие перемены. Я еще как следует не разобрался в них. Но кое-что в происходящем мне по душе.
– По душе? – изумился Пьер Верн. – Ну, ты ничего не понимаешь, мой друг! После обеда я всё объясню.
Жюль боялся этих объяснений, – ведь отец ничего не знает, ничего не видел, ему мерещатся выстрелы и грабежи, он всегда говорил, что революция – это прежде всего грохот и шум и только потом тихая и малоощутимая перемена. За обедом все молчали. После сладкого Пьер Верн обратился к сыну:
– Как можно короче, Жюль! Факты, факты и только факты!
В этом «короче» и заключалась трудность: внутренние ощущения и переживания Жюля требовали пространных рассказов, характеристик. Отец невозмутимо выслушал сына и произнес: «Гм…»
– Что же всё-таки случилось, Жюль? – спросил он.
– Видишь ли, папа, всё дело в том, что в Париже произошло…
– Совершенно верно, уже произошло, – перебил отец. – В феврале сего года в Париже убрали монархию. Я ничего не имею против, – важно, убрав одно, не сделать ошибки, выбирая другое. Что же, ошибка сделана, как по-твоему?
– Я очень плохо разбираюсь в политике, папа. Мне советовали на время уехать домой. Сейчас там…
– Ешь тартинки, Жюль, – сказала мать.
– И говори подробнее, – попросили сестры.
– Как можно короче, – поправил отец.
– Сейчас в Париже ничего не понять, – робко начал Жюль, стараясь не смотреть на отца. – Университет откроют только через две-три недели. На улицах открыто смеются над буржуазией. Атмосфера накалена. Трое людей в рабочих блузах остановили меня на улице и спросили, что я буду делать в ближайшем будущем. Я ответил: буду учиться. Они спросили, кем я намерен стать, когда кончу учение. Я ответил: юристом. Они расхохотались и сказали, что этого добра так много, что они не знают, как и когда избавиться от него.
– Они издевались над тобой, Жюль? – дрожа и чуть не плача, спросила мать.
– Ничего подобного, они были вежливы и предупредительны, мама. Такие милые, симпатичные люди! Ну, мы поговорили, и я пошел своей дорогой. На дверях юридического факультета объявление: занятия в конце сентября.
– Продолжай дальше. Софи, положи мне еще одну тартинку!
– Всё очень интересно, – продолжал Жюль, – только не всё сразу поймешь. Всё по кусочкам, отдельными слагаемыми, итог еще не ясен. Меня насмешило всё то, что сказали рабочие о профессии юриста.
Пьер Вера нахмурился.
– Я убежден, – сказал он, – что эта должность будет существовать, всегда, при любом правительстве, при любой форме правления. Такого понимания с меня достаточно! Ну что же, мой друг, побудь дома, подожди, но…
– Мне очень хотелось бы немедленно ехать в Париж, папа!
– Революция ненавидит зрителей, – коротко проговорил Пьер Верн.
Спустя две недели канцелярия юридического факультета вызвала Жюля в Париж.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































