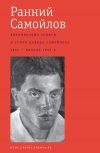Текст книги "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том I"
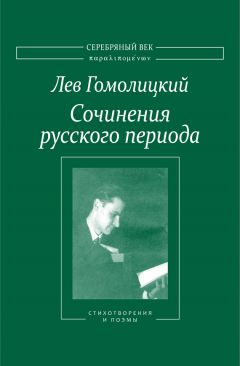
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Амбивалентность характеризует всё построение «Черной кошки». В самом начале рассказа введено утверждение, кажется, подрывающее самое «уединистскую» платформу: в минуту уединения «говорить человеку с самим собою не о чем, решать ничего не надо и никаких настоящих мыслей нет…». Вывод этот в первой главке служит мотивировкой введения «разговора с Масловским» в рассказ. Возникающий диалог оказывается столь же странным, как в «Наступлении вечности», но здесь его эксцентричность объяснена состоянием «неприсутствия», в которое то и дело впадал автор:
У меня в то время уже начинались странные состояния отсутствия на людях. Ощущал я себя – плотность и масса тела, голос, воля – лишь в одиночестве. На людях же я исчезал, не только как имя, человеческая мера, но просто как слышимый голос и ощутимая – видимая форма. На улицах налетал, случалось, на прохожих: мне казалось, что они должны пройти сквозь меня. В обществе, когда оканчивалась вся обрядовая механическая сторона встречи, я делался неподвижен. Я мог застыть внезапно на полуслове, полужесте – всё равно никто не слышит и не видит. Потом, когда это зашло слишком далеко, мне пришлось упорно учиться (неграмотные так учатся чистописанию) двигаться, говорить, смотреть «как все люди». Тогда уже я должен был преодолевать двойную преграду – и свои состояния, и отношение людей, которые действительно перестали принимать меня в расчет.
Такое состояние чуть ли не впервые (если не ошибаюсь) я ощутил, идя прямо на Масловского, ощутил отчетливо, безошибочно. Смягчилось оно только тем, что Масловский посторонился, давая мне место, и потом, медленно взглянув на меня, заговорил. Я отвечал. Я был видим и слышим и всё время это как бы испытывал, проверял.
Начавший беседу Масловский задал сразу вопрос «насчет этого» (то есть происходящих «чудес»). «Я ответил что-то вроде того, что в обновление икон я, кажется, не верю, но, может быть, это – символический знак обновления мира». Значимость этой реплики раскрывается не только в осторожном «кажется», но и при проекции чуда «обновления икон» на общее «апокалиптическое» восприятие повествователем (и самим Гомолицким) современной эпохи, перекликающееся с многочисленными высказываниями поэта, рассыпанными в его писаниях с 1920-х годов, в особенности со стихотворениями «Голос из газетного подвала» в Русском Голосе 7 января и 6 марта 1930. Замечательно, что такая целостная «апокалиптическая» трактовка современности и основанные на ней религиозные поиски противопоставлены «средневековому космогоническому апокрифу», движущему скептическим Масловским, при том что биография этого персонажа, как она проступает из описанных в рассказе эпизодов, носит безмерно более трагический, «апокалиптический» характер (отец его, погибший «на нашем кладбище» – «живые искали убежища у мертвых и даже тут не находили его»; расстрелянная в Киеве жена), чем биография самого повествователя.
Разговор, противостоящий празднованию «чуда» толпою вокруг и вращающийся, в сущности, вокруг искания и обретения Бога, странен и неожиданным сведением протекающего диалога к «монологическому» изображению. К концу рассказа, в кульминационный, в идеологическом отношении, момент представлены идущие одна за другой пять «разрозненных» реплик повествователя при внезапно отключенной речи его собеседника, при том что, глядя на себя со стороны, повествователь сам иронически аттестует собственные заявления как «декламацию»:
Он: Вы знаете… вы простите, что я вам как бы исповедуюсь, но много лет, может быть, – никогда еще не было у меня такой к этому потребности и легкости исполнения, как сейчас… Я ведь только теперь вижу: ни разу еще не испытал… Бога. В детстве одно время ханжой прямо был, ходил даже ежедневно на ранние, бился головой о пол, приду и прежде всего все иконы перецелую – у меня была своя очередь, начиная с Божьей Матери на иконостасе и кончая последней иконкой в темном заднем углу, где нельзя было и разобрать, какой это святой. Потом, вот кощунствовал – все-таки тоже ведь с Богом разговаривал. Теперь совсем стал равнодушен, и вы очень правильно сказали, что Бога у меня своего никогда не было. А у них есть?!
– Д-да, есть.
– Вы думаете? Может быть… Ну, а у… вас? Есть?
– Есть.
– Как это вы не задумываясь – завидно! А рассказать об этом можно?
Я: Нет.
Я: Но сейчас, здесь – можно.
Я: Я через смерть к этому пришел.
(Руки вдруг сразу изменились, дрогнули и оставили набалдашник.)
Я: Я думаю, что человек, который боится мысли о смерти, ни разу прямо и просто – вне опасности, вне угрозы, а именно, в самое благополучное свое время, а вот так собственным умом и волей стал вплотную лицом к лицу со смертью – не только Бога не получит, но и простой мудрости к жизни.
Я: Я это кожно, кровно, мускульно узнал. Тут встают вопросы неприступные: нельзя продолжать жить, на них не ответив, ответить же можно лишь чисто физически, пройдя через смерть.
Я начал декламировать, а Н.Ф. вдруг стал рассеян, потом поднялся и предложил – уже поздно! – договорить по дороге домой.
Ирония, заключающаяся в изображении идеологических дебатов в рассказе, достигает апогея в самой концовке, когда Масловский, вызвавшийся проводить ночью собеседника домой, по дороге вдруг передумывает и поворачивает назад, завидев черную кошку. Отвлеченно-метафизические разговоры здесь опрокинуты на бытовое суеверие, переведены в гротескно-«вульгарный» план. Эпизод этот функционально эквивалентен низведению метафизических медитаций Печорина, едва не споткнувшегося о зарубленную свинью, к земным тревогам в фабульно-сюжетном центре лермонтовского «Фаталиста». Как и там, автор оставляет читателя в недоумении перед неразрешенными философскими столкновениями, не давая ему никаких облегчающих положение «подсказок». Вместо них он подсовывает ложное, мнимое «разрешение» поднятых в повествовании проблем: благодаря черной кошке герой освободился от провожающего и, снова «уплотнившись», выкупался в реке. Замечательно, что, при общей «обманной» конструкции рассказа и иронической игре в изображении персонажей и в изложении затрагиваемых ими больших мировоззренческих вопросов, он масштабней, чем где бы то ни было, раскрывает всю глубину религиозных исканий в творчестве Гомолицкого межвоенных лет.
В том же сборнике Нови Гомолицкий был представлен и в других ипостасях. Там появился важный для поэта литературный документ под названием «Священная Лира»[410]410
Новь. Сб. 8 (Таллинн, 1935), стр. 149–153.
[Закрыть]. Начинается он с констатации существования двух концепций в зарубежной русской поэзии, одна из которых исходит из признания поэтов «законодателями мира» (Шелли), а вторая рассматривает поэзию как «тихое, лунное дело», по выражению Г. Адамовича. Автор статьи, неизменно отстаивавший первую, «гордую» точку зрения в своих боевых выступлениях в Мече, в данной статье признает и законность второй трактовки, сближая ее с положениями философской системы Лао-Тсе. Значение этого признания становится ясным в свете того факта, что Гомолицкий никогда не позволял себе в публичных высказываниях такую слабость, как солидаризацию с Адамовичем. С дебатами в редакции За Свободу! Молвы и Меча соотносилось утверждение о том, что подлинный «активизм» проявляется не в политической области, а в поэзии. Подхватывая тезис Цветаевой в недавней ее статье в Современных Записках о власти поэта над словами и, следовательно, над вещами в мире, автор переходил к вопросу о «зауми». Он и раньше, в статье «Религия озарения» в Журнале Содружества (июль 1935), затронул этот вопрос, когда, сославшись на монографию Д. Г. Коновалова, упомянул об «экстазных молитвах русских сектантов на заумном “иерусалимском” языке». На сей раз Гомолицкий счел нужным дать дефиницию зауми, свидетельствующую о том, что она становилась актуальной в его размышлениях о будущей собственной поэтической работе. «Не “воспоминание древности”, не эстетический каприз (как объясняют), заумный язык, – заявляет автор, – но погружение в магическое знание – его лаборатория. Заумный язык – настройка священной лиры, после нее лира звучит “оглушительно” тихо, западая на всю жизнь до смерти и на после смерти в слух, память, стремясь воплотиться в мысль и действие»[411]411
Подтолкнула Гомолицкого к размышлениям о зауми, можно полагать, статья Юлиана Тувима «Atuli mirohłady» в Вядомостях Литерацких, на которую он отвечал в своей статье «От заумности сквозь молчание…», опубликованной по-польски в мае 1935 года в Скамандре. См.: Lew Gomolickij, «Od pozarozumowości poprzez milczenia…», Skamander. Miesięcznik poetycki. Rok 9, zeszyt 58 (1935, maj), str. 140–147.
[Закрыть]. Незадолго перед тем Гомолицкий ознакомился с сочинениями Велимира Хлебникова (о присылке их он еще в 1933 просил Чхеидзе), и его апология зауми, конечно, была следствием этих чтений.
Объявив в «Священной Лире» о плане издания поэтической (а не политической) газеты и давая ее адрес: «Зарубежье (от рек Манчжурии через океаны и суши до холмов Волыни)», статья завершалась указанием: «Издателя нет. Ответственный редактор – ИА-ФЕТ». Последнюю эту фразу можно интерпретировать или как простую констатацию факта, или как подпись под статьей. В зависимости от этого и статью приходится считать либо анонимной, либо псевдонимной. Избранное имя редактора было каламбуром: оно одновременно отсылало и к третьему сыну Ноя Яфету, и к «Фету»[412]412
В январе 1936 г. издатель Нови П. И. Иртель выпустил «Священную Лиру» отдельным оттиском. См. письмо Л. Гомолицкого к А. Л. Бему от 2 февраля.
[Закрыть].
Дальше в томе помещены были под разными именами еще несколько заметок и статей Гомолицкого. Единственной среди них за полной его подписью была заметка «Несколько слов по поводу “Белладонны” Н. Гронского». Написанная по поводу посмертно напечатанного произведения трагически погибшего молодого поэта, заметка еще четче, чем «Священная Лира» Иа-фета, излагала основы новой поэтики Гомолицкого. Заключались они в призыве вернуться к оде XVIII века. «Мы не отдаем себе отчета, – заявлял автор, – что влекущее нас в лучших поэтах последержавинской эпохи есть воспоминание о тех чистых образцах первоначальной лирики оды». Ссылался он при этом не только на Тютчева, архаистические корни которого были раскрыты Тыняновым в книге Архаисты и новаторы, но даже на самого Пушкина. «Реалистическому роду поэзии по мере того, как он отходил от высокого языка оды, суждено было выродиться, стать вялым и невыразительным, окончиться вдохновенною прозою в стихах. <…> Видимо, простота, возводившаяся в идеал законодателями литературных вкусов прошлого столетия, и “современный”, “живой” язык вовсе не обязательны для поэзии. Язык ее может быть “мертвым”.
…И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба».
Истолковывая «Белладонну» Гронского как возрождение оды, Гомолицкий заключал: «Для нашей трагической эпохи нужны гордые слова, пронзающие, как вихрь, слух»[413]413
Л. Гомолицкий, «Несколько слов по поводу “Белладонны” Н. Гронского», Новь, Сб. 8, стр. 192–193.
[Закрыть].
Этой заметкой Гомолицкий присоединялся к трактовке творчества Гронского, выдвинутой в некрологической статье Юрия Иваска в Журнале Содружества[414]414
Юрий Иваск, «Памяти Николая Гронского», Журнал Содружества, 1935, № 9, сентябрь, стр. 29–32.
[Закрыть]. В ней Иваск назвал умершего поэта не просто «архаистом», но «крайним архаистом», «иногда даже архаиком», и в этой связи вернулся к общему вопросу о роли «высокого стиля» в поэзии современности, упоминая о стилистических тенденциях Вяч. Иванова, Мандельштама, М. Кузмина, Цветаевой, Вадима Андреева «и в особенности Божнева». Аттестуя творчество Гронского как «героическую поэзию», служащую оправданием всей текущей эпохи, он противопоставил его «смутному романтизму». Целостная «историко-литературная» концепция – а не одна лишь характеристика данного произведения Гронского – была целью и заметки Гомолицкого о «Белладонне». Если в статье 1934 года Иваск[415]415
Юрий Иваск, «Цветаева», Новь. Сб. 6 (1934), стр. 61–66.
[Закрыть], как мы помним, выдвигал предположение, что Цветаева-«архаист» – не зачинатель, а «завершитель» данной поэтической традиции, то появление «Белладонны» Гронского толкало и самого Иваска, и Гомолицкого к выводу, что у традиции этой появилось продолжение и что продолжателем стал начинающий, безвременно умерший поэт. Гронскому Гомолицкий вскоре посвятил еще и другую, специальную статью, написанную после выхода посмертной книги стихов Гронского[416]416
Л. Гомолицкий, «Героический пафос», Меч, 1936, 31 мая, стр. 5.
[Закрыть]. Как и многие другие его газетные литературно-критические выступления, она также была подчинена полемическим целям борьбы, поднятой «провинцией» против «Парижа». В ней утверждалось, что на «монпарнасе» к Гронскому не питали ни малейшего интереса и он стоял особняком, не принимая участия в тамошней литературной жизни. «Открыла» его провинция – Прага, Таллинн и Варшава. Определение специфической черты поэзии Гронского – «героический пафос» – следовало характеристике, выдвинутой Иваском; при этом Гомолицкий настаивал, что нужно было много «силы и отваги», чтобы писать так, идя наперекор общему вкусу. В поэзии Гронского Гомолицкий выделял и особенно близкий себе «пафос религиозный», образцы которого можно найти лишь «среди одописцев екатерининского времени» и который сопутствует «свободному полету на грани между риторикой и боговидением». В своей статье он также указывал на то, какой отклик нашла поэзия Гронского и вне эмигрантской аудитории, на страницах польской литературной прессы. В январе 1936 г. в журнале К. А. Яворского Kamena была напечатана статья Иваска[417]417
Juryj Iwask, «Piewca Pic-Madonny i trzech alpinistów», Kamena. Miesięcznik literacki. Rok III, nr. 5 (1936, styczeń), str. 88–90.
[Закрыть], где дан был очерк литературной генеалогии молодого поэта; он предварял полный перевод «Белладонны», выполненный редактором журнала. Спустя месяц эти материалы вышли отдельной книжкой в серии «Библиотеки Камены». Эти акции были предприняты непосредственно по инициативе Гомолицкого[418]418
В начале 1936 Гомолицкий написал статью о Гронском на польском языке «Życie „urwało się”… życie „skończyło się”», которая, по-видимому, не была опубликована. Она сохранилась в машинописи в архиве Юлиана Тувима в Варшаве. Muzeum Literatury im. Mickiewicza. Archiwum J. Tuwima. Sygn. 3116.
[Закрыть].
Остальные статьи Гомолицкого в том же томе таллиннской Нови включали помещенные рядом одна за другой заметку о Ежи Либерте[419]419
Л.Г., «Георгий Либерт (О польском поэте)», Новь, Сб. 8, стр. 164–166.
[Закрыть], навеянную летним пребыванием в имении Ляски-Ружана, когда у него возникало ощущение, что к нему пробивается, сквозь шум хвойных деревьев, голос покойного польского поэта; очерк о прошедшей в Варшаве выставке средневекового польского искусства[420]420
Е.Н., «Выставка готического искусства (Письмо из Варшавы)», стр. 167–169.
[Закрыть]; отчет о десяти собраниях первого года существования «Домика в Коломне»[421]421
Е.Н., «Домик в Коломне», стр. 169–170.
[Закрыть]; и, наконец, историко-«некрологическая» заметка о варшавском Литературном Содружестве[422]422
Е.Н., «Варшавское Литературное Содружество закрылось», стр. 170–171.
[Закрыть], распущенном в марте 1935 года решением его основателей[423]423
Между тем извещение о закрытии оказалось преждевременным: в начале 1936 г. группа варшавских поэтов, в том числе Соломон Барт, порвавший с Гомолицким отношения, предприняла попытку возродить Содружество. См.: Л., «Вечер Литературного Содружества», Меч, 1936, 23 февраля, стр. 6.
[Закрыть].
Таким образом, в 8-й книжке таллиннской Нови Гомолицкий был представлен с беспрецедентной многогранностью – и как лирический поэт, и как прозаик, и как критик, выдвигающий определенную литературную платформу, и как участник и летописец культурных организаций русской Варшавы. Сборник отличался обилием материалов, полученных из разных эмигрантских центров, но по широте и разнообразию участия Гомолицкий заслонял других авторов. Том Нови был издан с особой полиграфической роскошью и содержал многочисленные репродукции. Вдобавок его украшало личное приветствие главы Эстонского государства. Мало какие издания русской эмиграции могли соперничать с Новью по респектабельности и богатству. Поэт возлагал большие надежды на дальнейшее сотрудничество с ревельцами, найдя в них близких единомышленников.
Приветствуя возросшую роль «провинции» в молодой эмигрантской литературе, М. Осоргин выделил появление «Священной Лиры»:
В журнале «Новь» есть оригинально и очень занятно написанная статья за подписью «la-фет», уверенная и несколько страшная апология кастового характера поэзии, того отграничения стихотворства от литературы, которое уже многих талантливых писателей сломило и увлекло от подлинного творчества в блистательную пустоту стихоизлияния[424]424
Мих. Ос<оргин>, <рец.:> «Новь, № 8, Таллин, 1935. – Врата, № 1 и 2. Шанхай, 1935», Современные Записки 60 (1936), стр. 468.
[Закрыть].
При том что Осоргин определил Новь как журнал «расцветающий», восьмой том оказался последним. Из-за разногласий относительно отбора публикуемого материала «Цех поэтов» распался еще до выхода книги, и поздней осенью 1935 года издатель альманаха П. Иртель остался в одиночестве[425]425
И. Белобровцева, «К истории раскола ревельского Цеха поэтов и конца сборника “Новь”», Балтийский Архив. Русская культура в Прибалтике. ХI. «Таллиннский текст» в русской культуре (Таллинн: TLÜ kirjastus, 2006), стр. 181.
[Закрыть].
Сотрудничество Гомолицкого с Иртелем после этого длилось недолго. В апреле 1936 в Таллинне вышли сразу две его поэтические книжки – Цветник. Дом и Эмигрантская поэма[426]426
Зимой 1934–1935 гг. таллиннский Цех Поэтов взял на себя распространение книжного издания поэмы Гомолицкого «Варшава». См.: «Цех поэтов (из дневника)», Новь. Седьмой сборник, стр. 108. До таллиннского издания «Эмигрантской поэмы» Гомолицкий сам выпустил ее тиражом в 20 экземпляров (один из них был послан А. Л. Бему и находится в его архиве).
[Закрыть]. Как и «Варшава» (1934), они изданы очень малым тиражом – каждая в 100 экземпляров[427]427
Причина, по которой тираж был так мал, состояла в сознательной установке автора на «кастовость» (как отметил Осоргин) поэзии, которую он провозгласил и в рецензии на «Шершавые вирши» Б. Новосадова: «Книга его выпущена в ограниченном количестве экземпляров. Эта традиция, установившаяся теперь за рубежом, в данном случае, я бы сказал, просто полезна. Не дай Бог, если “Шершавые вирши” действительно дойдут до “читательской массы”, в то время как распространение ее среди литературных сверстников поэта должно производиться в порядке живого обмена творческим опытом».
[Закрыть]. Распад «Нови» нанес удар по стратегическим расчетам Гомолицкого.
Не налаживались у него и сношения с Прагой. Становилось всё яснее, что новая, архаистическая программа, вырабатываемая Гомолицким, оказывалась в разладе с направлением, по которому двигался «Скит». Задор, с которым Бем и Гомолицкий нападали на «монпарнас», молодых пражан отталкивал, а не воодушевлял. Уже осенью 1934 г. Н. Е. Андреев предупреждал о нежелании их ввязываться в разгоравшуюся полемику эмигрантских центров:
Недавно в варшавском журнале «Меч» (ныне превратившемся в еженедельную газету) пражане с удивлением и любопытством читали несколько фантастическую, вольную, созданную в полемике и потому не претендующую на сходство, характеристику «молодой русской литературной Праги»; Прага противополагалась «климату Парижа», парижским литературным настроениям. Читали; иронизировали; кто-то, шутя, предложил «усугубить полемику», послав опровержение «по пунктам»; посмеялись и над этим воображаемым текстом «письма в редакцию». Но, и смеясь, признали, что в основе своей мысль «Меча» – верна: «климаты» существуют, литературные «месторазвития» зарубежья замкнуты, отчуждены друг от друга; и дело, конечно, не только в степени культурности (настоящей или кажущейся) отдельных групп, но также и в «природной» разнице организма[428]428
Н. А-в (Прага), «Осенние листья», Новь. Седьмой сборник, стр. 90.
[Закрыть].
По его отчету, русская Прага находилась, по сравнению с 1920-ми годами, «на ущербе» и «Скит», формально насчитывавший 30 членов, переживал кризис: «Собрания посещают семь-восемь человек; и из них не все упорно работают над стихами; совсем замолкли прозаики. Традиционно открытого вечера в этом году устроено не было»[429]429
Н. А-в (Прага), «Осенние листья», Новь. Седьмой сборник, стр. 90–91.
[Закрыть]. Автор первой, после «Звездного крена» Вяч. Лебедева (1929), индивидуальной поэтической книжки «скитовского» происхождения Алла Головина была самым талантливым из членов группы, образовавших «внутренний» или «малый» «Скит», ставший в оппозицию к А. Л. Бему[430]430
См.: Л. Белошевская, «Пражское литературное содружество “Скит”», в кн.: «Скит». Прага. 1922–1940. Антология. Биография. Документы, стр. 23; cp. примечания Д. С. Гессена к архивным материалам его брата, Евгения Гессена. Hoover Institution Archives, Dymitr Hessen Papers, Box 3.
[Закрыть]. Ее «Лебединая карусель», вышедшая в конце 1934 г., вызвала у Гомолицкого прохладный отклик. Возводя ее поэтическую генеалогию к «капризному пастернаковскому стилю и гумилевскому напеву», рецензия осуждала Головину за проявления «манерности», за то, что «мир ее “комнатный”. Это мир городской квартиры»[431]431
Л.Г., «Лебединая карусель», Меч, 1934, 16 декабря, стр. 4.
[Закрыть]. Тяготение к «монпарнасу» проявилось на вечере «Скита», устроенном 4 июня 1935 года, и в третьем коллективном сборнике, выход которого был приурочен к этому мероприятию. Присутствовавшая на вечере Е. Д. Кускова вынесла о нем тягостные впечатления, сравнивая эмигрантскую молодежь с прежней, в дореволюционной России:
А здесь – мелко. Как ни укрупняй, как ни углубляй – всё мелко! Не так? «Духа» нет. Вот вчера была на вечере «Скита». Слушала прелестную Аллу Головину, Ратгауз, Мансветова и других юных наших поэтов. Как грустно было! Тон – будущих самоубийц… Говорила им – чего это Вы все?.. А в глазах у них (у молодых!!) бездонная какая-то тоска. Природы нет, любви нет, пафос больной, искривленный какой-то[432]432
Письмо Е. Д. Кусковой к Н. Н. Берберовой от 5 июня 1935. Hoover Institution Archives, B. I. Nicolaevsky Coll. Box 401, folder 42.
[Закрыть].
Главный упрек, который предъявил третьему сборнику «Скита» Гомолицкий, была подражательность, пренебрежение родной традицией, «ассимиляция духа»:
Язык еще сохранен свой, но думаем и чувствуем мы уже иностранно. Придет время – не нужен станет и язык, и мы окончательно будем поглощены чужою стихией. Судьба наша сейчас трудна и трагична. Не легко решиться принять на себя ее тяжесть, если великий соблазн расширить понятие эмиграции до «эмиграции из жизни»[433]433
Л. Г-ий, «Скит III. Прага 1935», Меч, 1935, 7 июля, стр. 6. См.: Л. Белошевская, «Пражское литературное содружество “Скит”», в кн.: «Скит». Прага. 1922–1940. Антология. Биография. Документы, стр. 63.
[Закрыть].
В 1936 г. участники «Скита», взвешивая возможность издания ретроспективного сборника своей группы, пригласили и Гомолицкого. Идея эта отпала, однако, когда он послал им кусок своей новой «Оды смерти», характеризовавшейся резко-архаистической стилистикой. Отклонение предложенного текста редакция объяснила тем, что решено было ограничиться лишь пражанами (сборник в конце концов не вышел).
В итоговой статье о «Ските», написанной по поводу последнего, IV сборника группы (1937), Гомолицкий отметил беспрецедентность в эмиграции самого по себе факта самостоятельного существования этой литературной организации на протяжении 15 лет. В отличие от Парижа, где доминировали поздние адепты акмеистского движения, Прага, по его словам, олицетворяла совсем иную линию литературной преемственности, шедшую от символизма к футуризму. Другая особенность «Скита» состояла в увлечении советской поэзией – первоначально Маяковским, а затем, «после первых лет поисков и увлечений “широкими полотнами”», кружок пошел по пути Пастернака – по пути превращения автономизированной метафоры в лирический «стиль». Но в последнее время былое единодушие членов кружка утрачено. Он раскололся на оставшихся верными прежнему пути и капитулировавших перед «Парижем»: «Парижские веяния, захватившие Прагу, очевидны. Не только в опрощении стиля, освобождении от языка метафор, но в самых интонациях, в самой конструкции стиха». Ссылаясь на примеры Мансветова и Аллы Головиной, Гомолицкий заключал статью словами: «Отсюда равно близко и к философии ненужности, призрачности искусства, – мысли, – слова, наконец, – отжившее, и к формуле Адамовича: стихи – слабое, “лунное дело”, “пишите прозу, господа”»[434]434
Л. Гомолицкий, «Скит поэтов», Меч, 1937, 18 июля, стр. 6. См.: Л. Белошевская, «Пражское литературное содружество “Скит”», в кн.: «Скит». Прага. 1922–1940. Антология. Биография. Документы, стр. 64.
[Закрыть].
В этот момент, после выхода двух книжек Гомолицкого в Таллинне весной 1936 года, появилась статья о нем А. Л. Бема[435]435
А. Бем, «Вскипевшая жизнь эмигранта. О стихах Льва Гомолицкого», Меч, 1936, 14 июня, стр. 5; Альфред Людвигович Бем. Письма о литературе (Praha: Euroslavica, 1996), стр. 262–269.
[Закрыть]. Это был первый его печатный отзыв о поэте, за ростом которого он наблюдал в течение 15 лет и который был ближайшим ему соратником в литературной борьбе 1930-х годов. Начав статью с утверждения, что «есть поэты, неудачи которых дают больше, чем блистательные удачи других. У Льва Гомолицкого пока всё, что он напечатал, воспринимается именно как такая волнующая и чарующая неудача», Бем косвенно сослался на рукописи периода «Дуновения» – периода в творчестве поэта, который никому в эмиграции, за исключением, пожалуй, выпавшего из ее литературной жизни Витязевского, не был известен. Произошедшую с того времени эволюцию поэта критик определял как «усиление земной струи», «высвобождение себя из-под слишком опутавших его тенет духовности». «Новую полосу» он возводил к поэме «Варшава», в которой впервые Гомолицкий заговорил «полным поэтическим голосом». Ее Бем назвал «первой эмигрантской поэмой, в которой тема “эмиграции” поэтически осознана и поставлена» в плане личной судьбы индивидуума, «в разрезе судьбы личности, над событиями поднявшейся». При этом она осталась незамеченной, потому что автор пошел вразрез с остальной эмигрантской поэзией, в которой возобладали эстетические критерии «Парижа», вытеснившего наследие первого, «героического» периода эмигрантской поэзии. Новые книжки Гомолицкого, по Бему, сводят воедино две линии в его творчестве – прежнюю лирическую «напряженную духовность», с одной стороны, и обращение в «Эмигрантской поэме» к принципам «героического» периода молодой эмигрантской поэзии, как он был представлен в раннем «Ските», – с другой. Обе они влекут автора к «архаизации формы», к XVIII веку. «Это не случайность; здесь он соприкасается с Мар. Цветаевой, здесь он идет по одному пути с Н. Гронским», – добавлял Бем. «Эмигрантскую поэму» он счел «менее цельной» («в ней немало срывов») и, приветствуя в ней постановку большой темы (нашего «великого неблагополучья») и поиск новых форм для ее поэтического выражения, в мягкой форме огласил предостережение автору:
Думаю, ему придется в будущем отказаться от чрезмерной стилизации, которая излишне затрудняет поэтический ход его стиха. <…> Возврат назад, к XVIII веку может быть только тогда плодотворен, если он не вырождается в стилизацию, а входит в языковую стихию сегодняшнего дня, не воскрешает старое, а создает новое.
Более поверхностным, однозначно-комплиментарным был отзыв Пильского[436]436
П. П-ий, «Мосты, перекинутые через века. Державинские образы. – Стихийная сила и земной мир. – Воскресшие божества. – Дом большой и дом малый», Сегодня, 1936, 16 июля, стр. 8.
[Закрыть], который вообще не уловил, что «Цветник» и «Дом» были двумя разными циклами (а в историческом плане и разными периодами в лирике Гомолицкого), и счел их двумя вариантами заглавия. Аттестовал он новые книжки Гомолицкого в расплывчато-импрессионистических выражениях: «Массивность, выразительная тяжеловатость, звон меди, высящийся мир древности, ее величественность, ее голоса и зовы слышатся, видятся в этих стихах, – грандиозность, неподвижность», восхищался тем, что «в напевах Л. Гомолицкого звучат мотивы державинского красноречия, державинских образов», и находил, что в «Эмигрантской поэме», «несмотря на совершенную обособленность тем, звучат те же мелодии», что и в «Цветнике». «В толпе современных поэтов Гомолицкий приметен, его дыхание глубоко, его постиганья инстинктивны, тут много бессознателльного, угадок, провидений, иллюзорных мостов, перекинутых через бездну столетий», – заключал рецензент. Отзыву Пильского противостояло издевательское упоминание «Эмигрантской поэмы» походя в годовом обзоре поэтических новинок у Юрия Терапиано, отказавшегося формулировать свое мнение, предоставив читателю самому вынести ей оценку на основании приводимой им цитаты[437]437
Ю. Терапиано, «О новых книгах стихов», Круг. Альманах. <2> (Берлин: Парабола, <1937>), стр. 173. Ср. отпор, данный ему А. Л. Бемом: А. Бем, «Письма о литературе. Порочный круг», Меч, 1938, 16 января, стр. 6; Альфред Людвигович Бем. Письма о литературе (Praha: Euroslavica, 1996), стр. 311.
[Закрыть].
Неожиданно горячий поклонник Гомолицкого обнаружился в Выборге. В сжатом отзыве на Эмигрантскую поэму И. Басин[438]438
О И. Я. Басине (род. 1905) см.: Редакционная переписка «Журнала Содружества» за 1932–1936 годы. С приложением Полной росписи содержания журнала. Из истории русской эмиграции в независимой Финляндии. Издание подготовил А. Г. Тимофеев. (С.-Петербург: Мiръ, 2010), стр. 579.
[Закрыть] подчеркнул метафизическую сторону содержания произведения и смысл его увидел в призыве к «приближенью к истокам жизни», к погружению в личный опыт, поскольку «эмигрантская судьба практически создает условия для углубления такой личной жизни – своего рода “пустынножительства”». О новых стилистических чертах поэзии Гомолицкого Басин писал:
Формально Гомолицкий резко отличен от общего тона, принятого большинством эмигрантских поэтов. Быть может, только у Гронского и Цветаевой найдем мы сходное отношение к слову. Язык Гомолицкого, тяжелый и пышный, изобилует архаизмами и словообразованиями, нередко чрезвычайно смелыми. Синтаксис его часто запутан и труден, но стих выразителен и отчетлив и временами достигает большой силы[439]439
И. Басин, <рец.:> «Л. Гомолицкий. Эмигрантская поэма. Издание “Нови”. 1936», Журнал Содружества, 1936, № 6 (42), стр. 27.
[Закрыть].
Общее состояние эмигрантской поэзии стало предметом бурной полемики, когда в конце 1935 года вышел составленный Г. В. Адамовичем и М. Л. Кантором сборник Якорь. Антология зарубежной поэзии. В сборнике было представлено 77 поэтов разных литературных поколений, представлявших основные центры русской диаспоры. Возникавшую из полученного из разных мест материала новую картину эмигрантской поэзии Адамович в предисловии к книге охарактеризовал с неожиданной благосклонностью, находившейся в противоречии с его недавним тезисом о «кризисе стиха»: «Поэзия по мере сил исполнила свое назначение, и если это мало кто склонен сейчас признать, вины тут ее нет. Без громких фраз – этот сборник обращен скорей к будущему, чем к настоящему, и, может быть, будущее найдет общее наше оправдание там, где большинство современников, столь охотно толкующих о всякого рода “миссиях”, видело лишь легкомыслие, баловство и скуку»[440]440
Якорь. Антология зарубежной поэзии. Составители Г. В. Адамович и М. Л. Кантор (Берлин: Петрополис, 1936), стр. VIII–IX.
[Закрыть].
Главными трудностями, вставшими перед составителями, были сбор информации о потенциальных авторах на местах и установление контактов с ними. Работа эта легла на М. Л. Кантора. Когда он набросал циркулярное письмо с извещением о работе над сборником, предназначенное для помещения в газетах, Адамович написал ему: «Ваше циркулярное письмо я вполне одобряю. Но без Варшавы нельзя. Если не в “Меч”, то можно обратиться в Союз писателей. <…> Пожалуй, туда писать правильнее всего»[441]441
Якорь. Антология русской зарубежной поэзии. Под ред. Олега Коростелева, Луиджи Магаротто, Андрея Устинова (С.-Петербург: Алетейя, 2005), стр. 293.
[Закрыть]. На направленное в Союз русских писателей и журналистов в Варшаве письмо ответил 26 сентября Гомолицкий, бывший секретарем правления. Список предложенных им в сборник русских поэтов в Польше включал А. А. Кондратьева, С. В. Барта, В. В. Бранда, В. С. Чихачева, О. Ф. Колодия, С. И. Нальянча, В. С. Байкина, Д. Д. Бохана, Н. В. Болесциса, С. Е. Киндякову, С. Л. Войцеховского, К. И. Оленина, Л. Э. Сеницкую, И. Ф. Кулиша и Д. М. Майкова. Большинство из них проживало в провинции, вне Варшавы, и Гомолицкий рекомендовал адресату обратиться в Вильно (по адресу газеты «Наше Время») и Ровно (по адресу Л. Э. Сеницкой). Дав в постскриптуме сведения и о самом себе, Гомолицкий упомянул свою варшавскую книгу 1921 г., «Дуновение»
1932 г., «Дом» 1933 г. и только что вышедшую в журнале и отдельным изданием поэму «Варшава»[442]442
Якорь. Антология русской зарубежной поэзии. Под ред. Олега Коростелева, Луиджи Магаротто, Андрея Устинова, стр. 293–294, комм. 294–301.
[Закрыть]. В предисловии к Якорю Л. Гомолицкий был назван в числе нескольких лиц, которым составители выразили благодарность за содействие в работе. Но из всего предложенного им списка в антологии остались лишь двое – он сам (напечатанные в 1932 г. в Молве стихотворения «С нечеловеческим тупым расчетом», открывавшее Дом 1933 г., и «Дни мои… я в них вселяю страх…») и С. Л. Войцеховский («На русской границе»). Лаконичная справка о Гомолицком, помещенная в книге[443]443
«Гомолицкий Лев Ник. (Варшава). – Вып. “Варшава” (1934)» – Якорь. Антология зарубежной поэзии. Составители Г. В. Адамович и М. Л. Кантор, стр. 239.
[Закрыть], из всех сообщенных им заглавий вышедших книг оставила лишь последнюю. И всё же, на фоне прежних снобистско-высокомерных газетных отзывов Адамовича о Гомолицком, включение поэта в антологию выглядело беспримерно великодушным.
Отбирая авторов в антологию, составители руководствовались не всегда и не обязательно чисто эстетическими или чисто литературными достоинствами, и «польский» раздел книги это показывает. При решении ввести в антологию лишь двух поэтов из Польши Гомолицкий был избран, скорее всего, по «политическим» соображениям – во-первых, в качестве секретаря Союза писателей, проявившего недюжинную энергию в последние год-полтора (реакция на советский номер Вядомостей Литерацких) и вдобавок оказавшего услугу составителям тома, а во-вторых, как единственный из всего списка, кто проник уже в парижскую литературную печать (недавно вышедший последний том Чисел). Войцеховский же (порвавший с Философовым и его ближайшим окружением в конце 1933 г.) был введен из-за его газетно-журналистской деятельности: он был постоянным варшавским корреспондентом газеты Возрождение, с которой Последние Новости Милюкова вели упорную борьбу, и включение его в антологию Адамовича и Кантора должно было оградить Якорь от упреков в политической предвзятости. При этом за бортом сборника оказались имена, не менее ценные для общей картины эмигрантской поэзии, чем Войцеховский. Особенно вопиющим выглядело отсутствие Соломона Барта, которого в своем списке Гомолицкий поставил сразу вслед за Кондратьевым[444]444
Делясь с Адамовичем новостями о работе над Якорем, М. Л. Кантор 26 июля 1935 сообщал: «Савина похоронили, как и Барта, из которого при желании можно было взять что-либо – да надобности нет». – Якорь. Антология русской зарубежной поэзии. Под ред. Олега Коростелева, Луиджи Магаротто, Андрея Устинова, стр. 273.
[Закрыть]. В 1932–1934 гг., после пятнадцатилетнего ухода из литературы, С. Барт переживал подлинный подъем поэтического творчества, активно участвовал в литературных дебатах, обретая собственный голос трагической пронзительности и глубины и выпуская поэтические книги, свидетельствовавшие о превращении его в большого поэта. Тесно сойдясь с Гомолицким вскоре после прибытия последнего в Варшаву, Барт с зимы 1933–1934 гг. стал от него, однако, отдаляться. Его отталкивала политическая активность и вызванная «групповыми» инстинктами борьба с литературным Парижем; ему претил и поворот Гомолицкого к общественной тематике, сопровождавшийся резкой переменой поэтического стиля. По адресу Гомолицкого, по-видимому, метила статья Барта, в которой утверждалось, что поэты увядают, как только начинают теоретизировать, и что стилизация означает смерть творчества[445]445
С. Барт, «О вымирании поэзии, новаторстве и стилизации», Меч. Еженедельник, 1934, № 11–12, 22 июля, стр. 11–12.
[Закрыть].
Сильно искажал картину литературной жизни Зарубежья в Якоре и вообще сам по себе факт игнорирования других, помимо Варшавы, центров русского поэтического творчества, существовавших в Польше. Между тем важной особенностью, резко отличавшей ее от других стран русского рассеяния, была как раз высокая степень «регионализма», наличия активно действовавших местных гнезд литературного творчества на русском языке[446]446
Ярким свидетельством этого явился уже Сборник русских поэтов в Польше, выпущенный Витязевским в 1930 г. во Львове, в котором «столичных» поэтов не было вообще.
[Закрыть]. Такой «регионализм» выглядел сродни регионализму, свойственному самой польской литературе, выражавшему ее богатство и разнообразие[447]447
Сергей Кулаковский, «Несколько слов о современной польской литературе», Новь. Седьмой сборник, стр. 97–99.
[Закрыть]. Понятно поэтому, почему такое возмущение виленского критика Д. Д. Бохана вызвало то, что из всей Польши в Якорь допущены были лишь два поэта, и оба из Варшавы:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?