Читать книгу "Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том I"
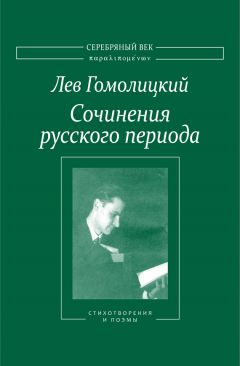
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Тем временем сборник Дуновение вызвал отклики в печати. Первая рецензия принадлежала перу Соломона Барта, который после многолетнего молчания вдруг вернулся к стихотворству и в литературу. В творчестве его в ту пору – благодаря знакомству с Гомолицким и его стихотворениями – происходил поразительный перелом. Барта в Дуновении привлекло «приобщение человека к космическим тайнам, т. е. религиозно-философское просветление», то, как в этих религиозно-философских размышлениях и настроениях автор «находит свой путь к приятию мира». Отмечая стилистическое своеобразие книги, он говорил:
Всякое истинное искание в искусстве отдает косноязычием. Для обычных переживаний имеются под рукой готовые штампы, гладкие формы, гладкие слова. Временами тяжелый, перегруженный стиль Гомолицкого свидетельствует о напряженной борьбе поэта с собой и с готовыми образцами.
В книжку Гомолицкого надо вчитаться, она написана не для любителей поэзии, а для любящих ее[300]300
С. Барт, «Приятие мира», Молва, 1932, 18 сентября, стр. 4; перепеч. в кн.: Соломон Барт. Стихотворения. 1915–1940. Проза. Письма. Издание второе, дополненное. Подготовили Д. С. Гессен и Л. С. Флейшман (Москва: Водолей, 2008), стр. 234–235.
[Закрыть].
Раздался отклик и из парижских Чисел. В краткой рецензии на все четыре вышедших к тому времени сборника членов варшавского Литературного Содружества Н. Оцуп каждому из них посвятил по нескольку строк довольно сдержанной оценки, приведя при этом цитату лишь из Гомолицкого:
У Л. Гомолицкого есть пафос и размах, но за риторикой еще нельзя разобрать его лица. Приятны строчки, неожиданно для Гомолицкого, чуть-чуть напоминающие Анненского:
Зимой 1932–1933 гг. Гомолицкий сравнительно редко печатался на страницах Молвы – много времени уходило на заботы по устройству домашнего очага.
События в международно-политической жизни повлекли за собой резкие расхождения среди руководителей газеты и привели к переменам в составе ее редакции. Если Философов, вместе с большинством в редколлегии встревоженный приходом Гитлера к власти, расистскими теориями новых правителей Германии, их планами «экспансии на Восток», отказывался верить в их благотворную роль в борьбе с советским коммунизмом[302]302
«Новый сдвиг в международном положении (Публичный доклад Д. В. Философова 26 марта с. г.)», Молва, 1933, 29 марта, стр. 2–3.
[Закрыть] и заявил о категорическом неприятии воинствующего антисемитизма[303]303
Д. Философов, «Самопровокация Гитлера», Молва, 1933, 30 марта, стр. 2; см. также: В. Бранд, «Германские аппетиты», Молва, 1933, 9 апреля, стр. 2.
[Закрыть], то С. Л. Войцеховский, не скрывавший своего ликования по поводу появления в Европе силы, способной, наконец, противодействовать советской диктатуре, утверждал, что реакция демократической Европы на приход Гитлера не имеет ничего общего с интересами России и что русской прессе ни к чему возмущаться антиеврейскими акциями в Германии[304]304
С. Л. Войцеховский, «Без истерики», Молва, 1933, 13 апреля, стр. 2.
[Закрыть]. 18 мая Войцеховский подал в отставку, и в редакционный комитет вместо него вошел Г. Г. Соколов[305]305
«От редакционного комитета», Молва, 1933, 18 мая, стр. 3.
[Закрыть]. Политические бури никак не коснулись Гомолицкого, пока осенью 1933 обстоятельства не втянули его в развертывавшуюся литературно-общественную борьбу – впервые в его жизни с такой силой.
6 июля по приглашению редактора официоза Газета Польска депутата Сейма Б. Медзинского в Варшаву приехал Карл Радек, видный деятель революционного движения, уроженец Галиции, в прошлом – один из высших руководителей Коминтерна, прекрасно знавший польские дела, участник партийной оппозиции в РКП(б), находившийся несколько лет в опале, а ныне занимавший ответственный пост заведующего отделом иностранной политики в московской газете Известия. Западные журналисты считали его «“чрезвычайным послом Сталина”, делегированным специально для ведения важных политических переговоров»[306]306
См.: «Советская Россия разорвала военный договор с Германией», Молва, 1933, 23 июля, стр. 1.
[Закрыть]. Визит его протекал на фоне лихорадочной международно-политической деятельности, поисков новой системы европейской безопасности, вызванных приходом Гитлера к власти. Советское государство достигало в новых условиях впечатляющих успехов по упрочению своего положения в мире. Одна за другой европейские страны спешили заключить с ним новые мирные договоры, готовилось установление дипломатических отношений с США. Взятый Западом курс на сближение с Кремлем приводил к замалчиванию жестокостей советского режима по отношению к населению, к игнорированию ужасов коллективизации и невиданного в истории страны голода.
В середине июля, когда Радек еще продолжал свою поездку по Польше, было объявлено о предстоящем выпуске специального, увеличенного объема, с большим количеством иллюстраций, номера еженедельной варшавской газеты Вядомости Литерацки, целиком посвященного достижениям советской литературы и искусства. План предполагал участие советских инстанций, осуществлявших руководство культурной политикой. Анонсированные материалы свидетельствовали о стремлении московских властей бороться с негативным отношением к советской литературной действительности, выразившемся, в частности, в очерках Антони Слонимского 1932 г. о его поездке в СССР. Обещаны были статьи крупнейших советских мастеров литературы и театра, завоевавших международное признание, включая таких, кто на протяжении долгого времени подвергался нападкам рапповских функционеров за чуждость советской идеологии. В их числе были Андрей Белый, Алексей Толстой, Сергей Третьяков, Всеволод Мейерхольд, Михаил Слонимский, Александр Таиров и др.[307]307
«Советский номер “Вядомостей Литерацких”», Молва, 1933, 15 июля, стр. 4.
[Закрыть] Не только объявленное содержание номера, но и самый факт тесного сотрудничества влиятельного, авторитетного польского еженедельника с советской стороной, факт совместности этой акции – не имели параллели в европейской печати тех лет. Это решение Молва осудила как попытку польской либеральной интеллигенции придать легитимность тем явлениям советской жизни, разоблачение которых газета Философова считала своим кровным долгом. В частности, она поместила статью, в деталях разбиравшую постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. о создании союза советских писателей, анализировавшую содержание появившегося тогда лозунга «социалистический реализм» и вскрывавшую действительные причины его выдвижения[308]308
А. Палицын <А.М. Хирьяков>, «“Социалистический реализм”», Молва, 1933, 27 июля, стр. 2–3.
[Закрыть].
24-страничный номер Вядомостей Литерацких, вышедший тиражом в 10 тыс. экземпляров 29 октября[309]309
См. о нем: Agata Zawiszewska. Recepcja literatury rosyjskiej na łamach «Wiadomości Literackich» (1924–1939) (Szczecin, 2005) (Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia. T. 565), str. 136–147.
[Закрыть], открывался статьей К. Радека «Культура рождающегоося социализма»[310]310
Спустя неделю статья была помещена в московских Известиях.
[Закрыть]. Она начиналась с того самого сопоставления, которое обсуждалось недавно в собраниях Литературного Содружества, – со сравнения польской эмиграции XIX века с современной русской «белой» эмиграцией. Польская эмиграция создала великую литературу. В отличие от этого, Сотни тысяч русских капиталистов, помещиков, чиновников, офицеров, писателей, смытых шквалом революции с лица родной земли и разбросанных по всему миру, не сумели в продолжение пятнадцати лет дать ни одной повести, ни одной драмы, ни одного сборника стихов, которые потрясли бы до глубины, которые рассказали бы миру – хотя бы тому миру, который относится к ним с действительной симпатией, – о том, что русские эмигранты пережили, выстрадали, продумали. Историк, который через сто лет будет писать о них, вероятно, вспомнит лишь трогательную песенку Вертинского – кабаретного поэта – о «сумасшедшем шарманщике». Вот всё, что современная русская эмиграция сумела «спасти» из культуры Пушкина, Гоголя, Толстого.
Различие между культурным творчеством польской эмиграции и творческой немощью русской эмиграции надо взять исходным пунктом для размышлений о процессах развития, которое переживает культура в Стране Советов, о величайшем процессе нарождения новой культуры на территории бывшей царской империи[311]311
См.: Карл Радек, «Культура рождающегося социализма», Известия, 1933, 7 ноября, стр. 2.
[Закрыть].
Положение о бесплодности существования литературы эмиграции было до Радека «общим местом» в литературной критике Зарубежья. На протяжении ряда лет это твердил М. Л. Слоним[312]312
См. об этом в тезисах выступления А. Л. Бема на пражском вечере в 1932 г. См.: «Скит». Прага. 1922–1940. Антология. Биография. Документы. Вступительная статья, общая редакция Л. Н. Белошевской. Составление, биография Л. Н. Белошевской, В. П. Нечаева (Москва: Русский путь, 2006), стр. 656–657.
[Закрыть]. Новую остроту разговору о кризисе эмиграции и измельчании ее литературы придал Владислав Ходасевич. В напечатанной в парижском Возрождении в конце апреля – начале мая статье «Литература в изгнании» он, оспорив (ссылкой на «Божественную комедию» Данте) утверждение Слонима, что литературное творчество в эмиграции в принципе невозможно, заявил, что русской зарубежной литературе грозит конец не потому, что она эмигрантская, а потому, что оказалась «недостаточно эмигрантской и даже вовсе не эмигрантской»: она не выработала «хотя бы некоего стиля, на котором лежал бы отпечаток совместно и ненапрасно прожитых лет»[313]313
«С чужих полей». «В. Ф. Ходасевич “Литература в изгании”», Молва, 1933, 7 мая, стр. 2; 14 мая, стр. 3.
[Закрыть]. Не менее мрачным был взгляд представителей младшего поколения эмигрантской литературы в Париже. Юрий Терапиано отмечал, что с 1931 года в эмиграции «кризис и пустота начали ощущаться всё с большей остротой». Вместо былого энтузиазма и подъема наступили «эмигрантские будни». Искусственное новое образование по имени «Зарубежье» утратило масштаб великой России, потеряло органическую связь с великой культурной традицией, превратилось в затхлую культурную провинцию[314]314
Ю. Терапиано. «На Балканах», Числа. Кн. 9 (1933), стр. 139–140; Юрий Терапиано. Встречи. 1926–1971 (Москва: Intrada, 2002), стр. 184–186. Ср.: Е. В<ебе>р, «Страна “Зарубежье”», Молва, 1933, 25 июня, стр. 3.
[Закрыть]. Присоединившийся к дискуссии А. Л. Бем, откликаясь на тезис Ходасевича о разрыве между писателем в эмиграции и читателем, об отсутствии «литературной атмосферы» вокруг писателя, возложил вину за это на литературную критику, оказавшуюся совершенно беспомощной даже в основном вопросе – об отношении к советской литературе. «В самый расцвет советской литературы, тогда, когда выдвинулись Леон. Леонов, Всев. Иванов, Конст. Федин, Бабель, Ник. Тихонов и др., когда был заложен весь основной фонд советской литературы, в это время эмигрантская критика этого расцвета не замечала <…> То же было и в области поэзии – Маяковский, Есенин, Гумилев, Ник. Тихонов, Бор. Пастернак не только читались, но и определяли собою литературные вкусы; я могу это положительно засвидетельствовать, так как находился я тогда в непосредственной связи с молодыми литературными кружками Варшавы и Праги. Но всего этого наша критика не видела». Ныне же наблюдается досадное недоразумение: в то время как «литература в советской России переживает самый тяжелый период своего существования» и «находится в периоде упадка», а «уровень ее за последние годы чрезвычайно снизился и ни в каком сравнении не может идти с тем, что было в период преднэповский и нэповский», – какой-то «снобизм» толкает отводить целые фельетоны в эмигрантских газетах (А. Л. Бем имел в виду в первую очередь Георгия Адамовича и Последние Новости) самым заурядным явлениям советской литературы и реальная перспектива совершенно искажается. Реальная же перспектива, по Бему, была такой: «Объективно, как ни относиться к отдельным явлениям эмигрантской литературы – в данный момент она по своему уровню, чисто литературному, несравненно выше того, что появляется в литературе советской»[315]315
А. Бем, «Кто виноват?», Молва, 1933, 2 августа, стр. 2.
[Закрыть]. С этого момента А. Л. Бем стал посылать из Праги свои «Письма о литературе» в Молву, причем первое из них было как раз посвящено литературе Зарубежья – двум большим писателям, А. М. Ремизову и М. И. Цветаевой, не вмещавшимся в рамки господствовавших в ней литературных и общественных групп[316]316
А. Бем, «Письма о литературе. Правда прошлого», Молва, 1933, 20 августа, стр. 3; Альфред Людвигович Бем. Письма о литературе (Praha: Euroslavica, 1996), стр. 114–118.
[Закрыть].
Не ясно, до какой степени К. Радек или готовившие его статью референты были информированы об этих дискуссиях в эмигрантской критике. Но его высказывания о зарубежной русской культуре редакция Молвы приняла в штыки. В газете был напечатан ряд статей, отвечавших на материалы в «советском» номере Вядомостей Литерацких. Е. С. Вебер подчеркнула, что произведенные «на экспорт» автобиографические декларации советских писателей никакой содержательной ценности не имеют: «Мы знаем непреложно, что советский писатель сказать о себе, своей работе и своих чаяниях полной правды не может. Рукописи, которые были доставлены “Вядомостям Литерацким”, прошли через весьма суровую партийную и правительственную цензуру в советской России». Она указала на качественное снижение литературы в СССР по сравнению с 1920-и годами. Писатели ездят по колхозам и пишут о выполнении плана. Всё это никакого отношения к искусству не имеет, зато красноречиво говорит о положении писателя в советской России[317]317
Е. С. Вебер, «Советские писатели о себе», Молва, 1933, 29 октября, стр. 3.
[Закрыть]. В ответ на утверждение Радека, о том, что эмигрантская литература не создала ничего ценного, Д. В. Философов предложил создать эмигрантскую Академию литературы по образцу создаваемой польской Академии литературы (открытой спустя несколько дней, 8 ноября)[318]318
«Торжественное открытие Польской Академии Литературы», Молва, 1933, 10 ноября, стр. 3.
[Закрыть]. Идея эта родилась у него не только в противовес московским заявлениям, но и из-за плачевного положения, в которое были поставлены писатели эмиграции и в котором он обвинял вершителей эмигрантской политики в Париже[319]319
Д. Философов, «Воскресные беседы. Академия литературы», Молва, 1933, 29 октября, стр. 2. Ср.: Iwona Obląkowska-Galanciak, «Из истории русской эмиграции межвоенного периода. Проект Литературной Академии», Studia Rossica. V (Warszawa, 1997), str. 131–136. Аналогичную идею спустя четверть века предложила и Ирина Сабурова, не упомянувшая, однако, философовского проекта. См.: Ирина Сабурова, «Эмигрантская литературная академия», Новое Русское Слово, 1959, 13 декабря, стр. 8.
[Закрыть]. 4 ноября Философов поместил в Молве список писателей эмиграции, живших в Париже и Праге, которые могли бы претендовать на членство в Академии, и попросил читателей присылать дополнения. В нескольких номерах газеты этот список пополнялся и расширялся, включив литераторов из Польши и других стран рассеяния[320]320
Д. В. Философов, «Просьба к читателям», Молва, 1933, 5 ноября, стр. 2; здесь же – «Русские писатели в изгнании»; Д. Философов, «Русские писатели в изгнании», Молва, 1933, 8 ноября, стр. 2; Д. Философов, «Русские писатели в изгнании», Молва, 1933, 9 ноября, стр. 2; «Русские писатели в изгнании», Молва, 1933, 12 ноября, стр. 2; «Русские писатели в изгнании. Общий список», Молва, 1933, 19 ноября, стр. 3; «Русские писатели в изгнании. Общий список», Молва, 1933, 26 декабря, стр. 4.
[Закрыть].
4 ноября Литературное Содружество провело вечер, целиком посвященный советскому номеру Вядомостей Литерацких. Главным оратором был Лев Гомолицкий[321]321
Ант. Д<омбровский>, «В Литературном Содружестве», Молва, 1933, 7 ноября, стр. 3.
[Закрыть]. В статье, написанной на основе этого выступления, он заявил, что «от каждой строки» помещенных в советском номере материалов «нагло выпирает явная, неприкрытая пропаганда марксизма»[322]322
Л. Гомолицкий, «Русский писатель в СССР и в эмиграции», Молва, 1933, 10 ноября, стр. 2.
[Закрыть]. «Парадная» картина показывает реальное положение в искаженном виде, и в номере не представлены большие писатели, составившие славу русской литературы в 1920-е годы, – Замятин, Вересаев, Булгаков, Пантелеймон Романов, Зощенко. Жалкими выглядят потуги «попутчиков» доказать свою гражданскую полноценность. В противовес помещенным в Вядомостях автобиографическим высказываниям Андрея Белого и Алексея Толстого, удостоверявшим благотворность для них возвращения на родину, Гомолицкий сослался на умолкшего после возвращения в СССР Александра Дроздова, прославившегося в эмиграции в 1920–1922 гг.[323]323
В его берлинском журнале Сполохи состоялся один из «дебютов» Гомолицкого.
[Закрыть] Он отверг обвинение, брошенное Радеком против эмиграции, будто «ничто, кроме ненависти, не связывает ее с жизнью России», указав на то, что «Русская эмиграция всё время напряженно следит за всяким проявлением гонимого и загнанного духа в России», и на то, что произведения советской литературы перепечатываются в эмигрантских газетах и издательствах. «И кто же ослеплен ненавистью, советские писатели и публицисты из “Вядомостей Литерацких” или русская эмиграция, которая не кладет партийной грани между художественным словом там в СССР и здесь за рубежом, где, вопреки уверениям большевиков, русская литература жива, богата, свободна и уважаема другими европейскими литературами?» В заключение Гомолицкий предложил эмиграции ответить на выпады Радека сбором доказательств ее жизненности и миссии по спасению традиций родной культуры[324]324
Л. Гомолицкий, «Русский писатель в СССР и в эмиграции», Молва, 1933, 10 ноября, стр. 3.
[Закрыть].
Следует отметить, что в предпринятой кампании Молва действовала в одиночку. Органы печати в других центрах русского Зарубежья не спешили присоединяться к инициативе философовской группы, а проект эмигрантской Академии вообще сразу объявили утопичным[325]325
Бэта, «Русская Зарубежная Академия Литературы», Молва, 1933, 12 декабря, стр. 4; «О русской зарубежной академии», Встречи. Ежемесячный журнал под ред. Г. В. Адамовича и М. Л. Кантора, № 1 (январь 1934), стр. 35; «Эмигрантская Литературная Академия», Числа. Кн. X (Париж, 1934), стр. 247–248.
[Закрыть]. Для опровержения толков о «полном ничтожестве русской зарубежной литературы» Гомолицкий на заседании правления Союза Русских Журналистов и Писателей в Польше (в которое он был избран в сентябре 1933 г.[326]326
«Общее собрание членов Союза Русских Писателей и Журналистов», Молва, 1933, 16 сентября, стр. 3.
[Закрыть] и в котором был самым молодым членом) предложил протестовать «против заведомой лжи К. Радека и других советских публицистов» и «обратиться в другие зарубежные Союзы писателей и журналистов с предложением присоединиться к этому протесту». На заседании было решено запросить у русских писателей-эмигрантов «подробные сведения об их работе за рубежом, чтобы с материалом в руках доказать всю лживость утверждений Радека и Компании». За подписью председателя правления Союза А. М. Хирьякова и секретаря Л. Н. Гомолицкого были посланы письма 50 литераторам и старшего, и молодого поколений. Уже к 3 декабря прибыло много ответов – от К. Д. Бальмонта, В. Ф. Ходасевича, М. Л. Слонима, М. А. Осоргина, Ю. К. Терапиано, Н. Н. Берберовой и др. и из Парижского и Белградского союзов[327]327
«Союз Русских Писателей и Журналистов в Польше собирает материалы для опровержения лжи Радека и Ко», Молва, 1933, 3 декабря, стр. 5.
[Закрыть]. Поступавшие автобиографические заметки стали печататься в Молве, причем особый интерес у варшавян вызывали писатели молодого поколения. Первыми были помещены в газете, в номере за 23–25 декабря, заметки С. И. Шаршуна (из Парижа) и К. А. Чхеидзе (из Праги)[328]328
В сущности, заметка Чхеидзе была составлена Гомолицким на основании присланного ему материала из чешской печати.
[Закрыть]. Публикация продолжалась до конца лета 1934 года.
Поступившие документы дали толчок идее составления Словаря русских зарубежных писателей[329]329
До этого, в 1929–1931 гг., сбором автобиографических материалов по истории эмиграции занялась баронесса М. Д. Врангель. См.: Ирина Шевеленко. Материалы о русской эмиграции 1920-1930-х гг. в собрании баронессы М. Д. Врангель (Архив Гуверовского Института в Стэнфорде) (Stanford, 1995) (Stanford Slavic Studies. Vol. 9).
[Закрыть] и были позже, в 1937 г., переданы в Прагу В. Ф. Булгакову, взявшемуся за ee осуществление[330]330
Рашит Янгиров, «К истории издания Словаря русских зарубежных писателей В. Ф. Булгакова», From the Other Shore: Russian Writers Abroad. Past and Present. Vol. 1 (2001), pp. 71–80.
[Закрыть]. Кампания, поднятая Молвой, подчеркивая значение творчества молодых[331]331
Гомолицкий писал Д. Кнуту: «Собственно, это первая попытка подвести итоги молодой зарубежной литературы».
[Закрыть], способствовала осознанию единства эмигрантской культуры. Она возбудила интерес к младшему поколению эмигрантской литературы и среди представителей польской культуры, с которыми Литературное Содружество и Союз русских писателей и журналистов в Варшаве находились в тесных отношениях. Деятельность варшавян стала по-новому восприниматься в других центрах русского Зарубежья. Варшава, получившая мощного союзника в лице А. Л. Бема в Праге, стала с этого момента восприниматься как реальная альтернатива и соперник «русского Парижа».
Активная роль Гомолицкого в общественной кампании, поднятой Молвой, и в сборе документальных материалов из разных стран заставляла по-новому отнестись за рубежом к этому молодому, прежде совсем незаметному варшавскому поэту. По времени это совпало с выходом его новой книжки Дом, выпущенной в ноябре 1933 г. Она носила еще более интимный характер и имела более «персональный» облик, чем Дуновение 1932 г. Это была автографическая книжка, в обложке, украшенной ксилографией работы поэта, изготовленная в числе то ли 10, то ли 15 экземпляров, предназначенная не для продажи, а «для немногих», для избранных. Выпуская ее, Гомолицкий вдохновлялся рукописными книжками А. М. Ремизова и один экземпляр послал ему – единственному из писателей, к которому (как он признавался Довиду Кнуту) испытывает «трепетную любовь». По совету Ремизова Дом был послан и на организованную художником Н. В. Зарецким в Праге выставку автографов, рисунков и редких изданий русских писателей и экспонировался там[332]332
См. письмо Гомолицкого к Д. Кнуту от 9 января 1934. Об этой выставке см. заметку: Е.Н. <Л. Гомолицкий>, «Рисунки русских писателей», Молва, 31 декабря 1933 – 1 января 1934, стр. 3.
[Закрыть]. О работе над книжкой Дом Гомолицкий стал думать сразу по приезде в Варшаву и сообщал о ней уже в письме к А. Л. Бему от 4 сентября 1931 года. Из вошедших в Дом стихотворений два взяты были (с изменениями) из Дуновения 1932 года, два были раньше напечатаны в Молве, восемь появлялись впервые – шесть из них больше не перепечатывались нигде, а два (с изменениями) вошли в таллинское издание 1936 года Цветник. Дом. Одно из новых, открывавшее книжку стихотворение было написано белым стихом (четырехстопными ямбами), у Гомолицкого избегаемым. Рукописная книжка обратила на себя внимание в Париже, и отзывы о ней появились в солидных «столичных» изданиях, прежде Гомолицкого не замечавших.
В Современных Записках была напечатана рецензия М. О. Цетлина (заведывавшего отделом поэзии в журнале). В ней говорилось: «“Дом” – это стихи бездомного поэта, поэта-эмигранта. Но автор берет свою тему шире. Дом для него не родина, не Россия. Он тоскует не о реальном скитании и изгнании, а о метафизической, “мировой” бездомности человека и о его вечном скитальчестве». Дав обзор главных мотивов, рецензент замечал: «Всё это выражено стихами вполне “грамотными”, не чуждыми умелости, хотя и лишенными легкости. Из литературных влияний нам послышались в них отзвуки некоторых (далеко не лучших) белых стихов Волошина». В заключение он писал: «Заслуживает быть отмеченной одна особенность книжки Гомолицкого: вся она написана от руки, красивой, четкой вязью, от руки же сделана и обложка. Экземпляр, присланный для отзыва в “Современные Записки”, носит номер десятый. Рукописная книга в наше время “технических достижений” говорит о бедности эмигрантского книжного рынка, но еще больше о любви поэта к книге и к своему искусству. Она останется любопытным памятником русской литературы в изгнаньи»[333]333
М. Цетлин, «Л. Гомолицкий. Дом. Варшава (Без даты)», Современные Записки 55 (1934), стр. 421–422. Этот экземпляр из собрания М. О. Цетлина поступил в Еврейскую Национальную библиотеку (Иерусалим). Копия его предоставлена нам была Владимиром Хазаном.
[Закрыть].
Отзыв Г. В. Адамовича содержался в рецензии на несколько сборников второстепенных поэтов-новичков. Все они, в его глазах, подтверждают тезис о кризисе, наступившем в русской поэзии и встреченном полным равнодушием читателей: «Поэты пишут для самих себя, для своих знакомых, для двух-трех друзей или соперников, – и утешаются тем, что их оценит будущее». Кризис – следствие того, что поэзия в современную эпоху, как в Зарубежье, так и в советской литературе, вообще исчерпала себя: «Почва истощена, иссякла, – в ней ничего не может уже родиться», «<…> пушкинский, “пушкинообразный” стих настолько сейчас обескровлен, что вернуть его к жизни уже невозможно. Едва ли в будущие ближайшие десятилетия “центр тяжести” русской литературы будет находиться в поэзии». О рецензируемых книжках критик заявлял: «книги эти не имеют большого значения, сами по себе они важны только в массе, как симптом, как явление… Авторы их вовсе не бездарны. Но гораздо важнее для литературы вопрос, почему заранее, еще до чтения, к ним, к этим чистеньким, гладким сборникам не чувствуешь большего доверия, чем то, как относится к смерти г. Икс из Гельсингфорса, или на каком основании г. Игрек из Харбина полагает возможным назвать стихотворение без рифм в шестнадцать строк сонетом».
Бо́льшая часть статьи посвящена была Гомолицкому и его Дому. Даже о самом изяществе оформления книги Гомолицкого Г. В. Адамович отозвался пренебрежительно, как о проявлении неискоренимой графомании. Столь же высокомерными были его рассуждения о стихах, составивших книгу:
Сборник, изданный «от руки», – на мой личный вкус, лучший из тех, которые перечислены в подзаголовке этой статьи. Автор его – Л. Гомолицкий называет сборник «Дом». Не то, чтобы в нем было что-то резко-своеобразное, запоминающееся или бесспорно-удачное… Нет, но сквозь тускловатые строки Гомолицкого слышится голос, слышится интонация, т. е., в сущности, заметно отношение к миру. К этим стихам нельзя остаться вполне безразличным. Если в них и нет поэзии, то есть во всяком случае какое-то смутное обещание ее или воспоминание о ней… Кое-где заметно влияние Д. Кнута, – если только это не просто подражание его манере.
Последнее замечание о Кнуте, служащее коррективом к статье Цетлина, – пожалуй, наиболее проницательное и верное в этой характеристике (хотя к такой догадке критик мог прийти, услышав о варшавском поэте в беседе с Кнутом). Завершалась статья безапелляционным советом:
В общем – всё недурно. А все-таки с тем большей настойчивостью хочется еще раз сказать, что на нашем «поэтическом фронте» крайне неблагополучно. С тем большей уверенностью хочется повторить то, что давно сказал Брюсов:
– Пишите прозу, господа![334]334
Георгий Адамович, «Стихи» <Л. Гомолицкий. «Дом», 1933. – Н. Дешевой. «Листопад», 1934. – Б. Волков. «В пыли чужих дорог», 1934. – В. Галахов. «Враждебный мир», 1933. – П. Гладищев. «Сны наяву», 1934>, Последние Новости, 1934, 8 февраля, стр. 2; перепеч.: Г. Адамович. Одиночество и свобода. Составитель, автор предисловия и примечаний В. Крейд (Москва: Республика, 1996), стр. 301–303.
[Закрыть]
С такой безрадостной картиной Адамовича оказался солидарен В. Вейдле в написанной независимо от той рецензии и гораздо четче формулирующей свои положения статье, которая оперировала не одним русским материалом, но всей новой европейской литературой. «Сумерки стиха» он усматривал в «исчерпывании или омертвении всевозможных строфических форм» и в последовавшем за этим исчерпании стихотворных размеров. «Стихи утомляют, стихи надоели, стихами никого не удивишь, стихов никому не нужно <…>»[335]335
В. Вейдле, «Сумерки стиха», Встречи (Париж), 1934, № 3 (март), стр. 105–108. Эту статью Вейдле, как и «Стихи» Г. Адамовича, процитировал К. Гершельман в полемической статье «О современной поэзии» (Новь. Шестой сборник ко «дню русской культуры». Издание комитета «Дня русской культуры» в Таллинне, 1934, стр. 50–56). Соглашаясь с положением о «кризисе», он выразил уверенность, что эмигрантская поэзия сможет выйти из него, отойдя от чистого эксперимента и обратившись к углублению содержания.
[Закрыть]. Вслед за ними повторил этот мрачный диагноз и М. О. Цетлин[336]336
М. Цетлин, «О современной эмигрантской поэзии», Современные Записки 58 (1935), стр. 452–461.
[Закрыть].
Дал отпор этим утверждениям о кризисе и сумерках стиха сам Гомолицкий в статье, напечатанной в журнале Числа. Это было первое его выступление в парижской печати. Не упоминая ни словом рецензии Адамовича и сосредоточившись на споре с В. Вейдле, Гомолицкий заодно метил и по адресу той статьи в Последних Новостях. Тезису о гибели он противопоставил заявление о необходимости и неизбежности революции в стихе, революционизирования стиха. «Невозможна и оскорбительна» ныне не только «бальмонтовская сладкопевность», но и «напряженное сладкогласие» Блока. Будущую «революцию», как явствует из контекста, Гомолицкий видел в обращении к большому эпосу (новой «Магабгарате») или «молитвенному распевному складу», в отказе от «легкого» стиха и, видимо, от камерной лирики вообще – во имя эпоса. Наперекор заклинаниям о гибели он выдвинул утверждение об уже совершающемся «рождении стиха»: оно «происходит в суровой молитвенной обстановке, в большой скупости слов, в многозначительном молчании»[337]337
Л. Гомолицкий, «Рождение стиха», Числа. Кн. X (Париж, 1934), стр. 241–242.
[Закрыть]. Эта статья стала ядром, из которого вырастала вся литературно-критическая программа поэта второй половины 1930-х годов.
«Рождение стиха» было не единственным выступлением Гомолицкого в этом томе парижского журнала. В пику той же статье Г. Адамовича (где критик язвительно упомянул о расплодившихся в провинции всевозможных поэтических содружествах) редакция Чисел пригласила корреспондентов с мест прислать отчеты о деятельности таких организаций. Хотя помещенный к книге подробный отчет о варшавском Литературном Содружестве не был подписан, нет сомнения, что прислал его Гомолицкий[338]338
«Литературные содружества. Литературное содружество в Варшаве», Числа. Кн. X (Париж, 1934), стр. 243–245.
[Закрыть]. Богатство информации в представленном материале способствовало дезавуированию высокомерных сентенций Адамовича.
Но напечатанный в Числах отчет имел и другую пользу: он детально освещал собрания 24 февраля и 3 марта 1934, состоявшиеся в момент, когда газета Молва закрылась и в распоряжении содружества впервые не оказывалось своего печатного органа. Грозные предвестия краха газеты появились с декабря. В. В. Бранд писал Н. А. Цурикову: «С газетой совсем плохо, если не случится чуда, то мы погибнем. Кто нас убьет: наборщики, типография или налоги, не знаю. Возможно, что и все вместе. Грустно об этом писать. Вообще к Новому Году настроение создалось совсем не праздничное»[339]339
Письмо от 27 декабря 1933. Hoover Institution Archives. N. Tsurikov Papers. Box 13.
[Закрыть]. 4 февраля он же сообщал Бему:
31 января вышел последний номер «Молвы», номер от 1 февраля был уже набран, но выйти не смог. Почти два года мы боролись за существование газеты, ведя ее без денег, но в конце концов безденежье и современная политическая обстановка нас убили. Конечно, нашей газете можно многое поставить в упрек, и наши недостатки явились одной из причин нашей гибели, но не в них основная причина. Основная причина в равнодушии русских людей к русскому печатному слову, каждый промах ставят в строку, требования предъявляют громадные, а достоинств не замечают и ничего сами не дают. Довольствуются бульварными польскими газетами, а в русской ищут откровений и если их не находят, то осуждают газету. Сыграло большую роль и то обстоятельство, что непримиримое отношение к большевикам сейчас не в моде. Трудно определить причину смертельной болезни, всё равно как у человека не определишь, где и когда он простудился.
Складывать оружия мы не намерены. В чем выразится наша деятельность, еще сказать трудно. Может быть, кое-как договорившись с кредиторами, начнем издавать еженедельник, может быть, будем стараться проводить свои мысли путем докладов, лекций и т. п. Пока еще не знаю. Одно только можно сказать с уверенностью: катастрофа не только не разбила нашу политическую группу, но еще больше ее сплотила, и ред<акционный> комитет «Молвы» работает по-прежнему в полном единении. Так как наш комитет представляет собой пример широкой коалиции, то существование группы «Молвы» мы считаем очень важным. Тяжело писать о смерти газеты, как будто сообщаешь о смерти дорогого человека. <…>[340]340
Literární archiv Památníku Národního písemnictví (Прага). Архив А. Л. Бема.
[Закрыть]
Для Гомолицкого прекращение газеты стало тяжким ударом: только благодаря Молве ему удалось освободиться от «грубой» работы, которой он занимался до приезда Евы в Варшаву, и получить хоть и изматывающую, но кабинетную, в редакции[341]341
«Я же непосильно много работаю, работой не своей – сижу над цифрами в администрации, над переводом хроники», – извещал он Д. М. Кнута 23 ноября 1933 г.
[Закрыть]. На следующий день после краха он писал К. А. Чхеидзе:
Письмо ваше очень растрогало меня, дорогой Друг, тем более, что пришло оно в такую тяжкую для меня (и морально и житейски тяжелую) минуту. «Молва» скончалась. Теперь – страшно голода, бездомья, прозябанья, но еще страшнее, что больше нельзя печататься. С заграничными изданьями нет такой тесной связи, да если бы и была – откуда взять средств на переписку. Заканчиваю последние письма, пока еще есть возможность разослать их, чтобы потом замолкнуть. <…>
Когда я впервые узнал о конце газеты (это было внезапно), – я перенес это мужественно. Мужественно скрыл от жены в первый вечер о нашей катастрофе… <…>
Потерять в изгнании свою газету – то же, что вторично пережить потерю Родины. <…>
М. б. даже нельзя будет писать. Рухнет мой «дом» (вся моя личная жизнь держалась на скромном заработке в газете). А я уже устал, очень устал бороться. Думаю, что и всё поколение наше устало, как Сизиф, вечно тащить в гору и вечно выпускать у самой вершины камень маленького житейского благополучия.
До закрытия газеты, в ее рождественском номере, в серии откликов писателей Зарубежья на ноябрьское обращение варшавского Союза писателей и журналистов, была напечатана автобиография Гомолицкого[342]342
«Эмигрантские писатели о себе. IV. Л. Н. Гомолицкий», Молва, 1934, 6 января, стр. 3.
[Закрыть]. Значение этого документа проясняется при сопоставлении с заметкой, опубликованной ранее в Сборнике русских поэтов в Польше. То была скорее мировоззренческая декларация, единственными конкретно названными фактами в которой была революция и «моею первою любовью был – Бог». Никаких других, равно как и никаких написанных произведений («Дуновение») или книг (1918 и 1921 г.), названо не было. Не говорил, однако, о вышедших книгах поэт и сейчас, в 1934 г. Вместо этого он рассказывал о поисках религиозно-философского мировоззрения, о внутренней борьбе, сопряженной с ними, и о собственных незаконченных или законченных, но не опубликованных сочинениях:
До сих пор написано и лежит в рукописном виде: «Лирическая поэма», Мистические стихи (Крест из шиповника, Умной свет, Ритмы), «О смерти», «Солнце», «Цветник», «Дом».
Сейчас пишу книгу о Боге (готовы уже 2 части: «Тайна зерна», «Запечатленные книги»). Начал писать лирическую драму «Голем».
Нам не известно практически ни одно из этих сочинений. Можно, правда, допустить, что последние два названия в первом из цитируемых абзацев вошли в таллиннскую книжку 1936 года. Но при общей «текучести» стихотворного творчества у Гомолицкого, когда он свободно переносил тексты из одного «цикла» в другой и присваивал одно название разным произведениям или сборникам, никакой уверенности, что это не просто «внешняя» синонимия, нет. Замечательно, что ни словом не упомянута только что вышедшая (пусть и адресованная «немногим») книжка Дом. «Лирическая поэма» не только не известна, но и невозможно догадаться, какое из известных нам, пусть и никогда не печатавшихся, произведений под такое определение подошло бы. Мы знаем, что «Ритмы» были отброшены Гомолицким после критических замечаний С. Рафальского и А. Бема. Сейчас обнаруживается, что они могли вернуться и составить раздел целого сборника – «Мистические стихи». Основания отождествить эти «Мистические стихи» с законченной рукописью Дуновения 1928 года у нас нет (хотя такое определение ей прекрасно бы подошло): перечисленные разделы частям композиции того сборника не соответствуют. Сразу встает другой вопрос: а почему вообще Дуновение – ни рукописное, ни изданное Литературным Содружеством, поступившее в продажу и встреченное отзывами печати – в этом подробном списке не названо? К «Книге о Боге» можно было бы отнести ранее появившиеся тексты – «Дорожное распятие» во львовской газете Русский Голос (1930), стихотворение, вошедшее в подборку, помещенную в Сборнике русских поэтов в Польше (1930), и три стихотворения под общим названием «Бог», опубликованные в чикагском журнале Москва в октябре 1930 г.; к «Солнцу» – два недавно напечатанных в выборгском Журнале Содружества стихотворения и другой «диптих», появившийся в декабре 1935 г. в Мече; с «лирической драмой» «Голем» можно было бы связать одноименное стихотворение в антологии Витязевского. Но слишком несопоставимыми кажутся эти лирические «миниатюры» с «большими» проектами, названными в Автобиографии, чтобы к таким уравнениям отнестись с доверием. Хуже всего, что в то время, как многие неопубликованные стихи Дуновения известны нам не только по рукописям 1920-х годов (и, разумеется, по изданию 1932 года), но и по разделу «Отроческое» свода стихотворений, собранного Гомолицким в начале Второй мировой войны, – эти названия, упомянутые в Автобиографии 1934 года, никакого отражения там не находят. Создается впечатление, что этот кусок автобиографии граничит с масштабной мистификацией. Но зачем нужна была она поэту и вяжется ли с его слишком серьезным – по наблюдению Рафальского – характером? Как согласовать такую разговорчивость относительно, может быть, никогда не законченных, а то и ненаписанных вещей со скрытностью по поводу реально написанных и изданных произведений? Обращает на себя внимание и то, что Гомолицкий избегает упоминания Острога (вместо этого он мимоходом, в описании революции, говорит об «отсиживаньи в погребе во время обстрела волынского городка»)[343]343
В Сборнике русских поэтов в Польше Острог был указан в публикации при имени автора, как указывалось место проживания и других участников книги.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































