Читать книгу "In medias res"
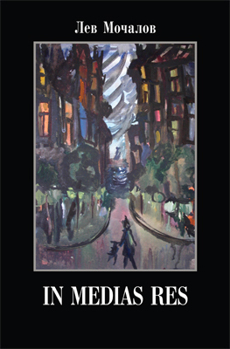
Автор книги: Лев Мочалов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Первые самостоятельные шаги
Странно… Но между мной и моими родителями не было пресловутого конфликта отцов и детей. Должно быть, я понимал: для меня делают всё, что могут. А если не делают, – значит, не в состоянии этого сделать. Потому я никогда ничего не просил, не выклянчивал. Мои вожделения, если они и возникали, то гасились сами собой – пониманием, сочувствием к старшим.
Конечно, и меня чем-то радовали. Но не баловали, не осыпали подарками по малейшему моему капризу. Был, пожалуй, случай… Мы с мамой – мне лет 8–9 – оказались в ДЛТ. И в отделе игрушек я зачарованно замер перед авиаконструктором. Темно-голубым авиаконструктором, из деталей которого можно было самому, с помощью винтов и гаек, составлять модели самолетов. Хочешь – монопланов, хочешь – бипланов… Наверное, я закусил губу, но ни слова не проронил. Однако мама, стоявшая рядом, почувствовала, какая страсть обуревает меня. И купила конструктор. За 30 рублей! По тем временам немалые деньги! Думаю, это был едва ли не единственный сюжет подобного рода. Потому он мне так и запомнился…
А самый трудный – переходный – возраст пришелся на Войну. И тут, что называется, клин вышибался клином: само время было трудным. И в эвакуации, помимо учебы, приходилось делить с родителями все заботы. Сажали и выхаживали, как могли, картошку. На двух участках – километрах в 2—3-х от дома. Урожай – в мешках – таскали на себе. В основном мне приходилось ухаживать за ближним огородным участком на территории завода, где вахтером работала мама. Овощи требовали почти каждодневной поливки, прополки. И я ничуть не тяготился этой нагрузкой. Ведь это – для семьи и для себя самого. Потом – интересно: как это? – Из семечек, почти соринок – и вдруг! – ростки!
Первая моя «зарплата» – поллитровая бутылка водки, которую мне выдали (по талону) за оформленную мной к празднику 7-го ноября стенгазету для строительного Института, где работал отец. Мама выменяла на что-то съестное эту «ценность», и тогда выполнявшую роль «твердой валюты». – Как постоянно выменивала на барахолке и еще какие-то вещи из нашего небогатого запаса, который удалось захватить с собой.
А выехали мы из Ленинграда 31-го июля, – шел 41-ый год. Отца, которого с колонной автомашин в составе истребительного батальона, отправленного на Лужское направление, я проводил из Летнего сада (где формировался батальон), в первые дни Войны, Институт отозвал обратно. Когда мы уезжали, Ленинград еще не бомбили. Но в пути – по краям железнодорожного полотна – то тут, то там валялись разбитые вагоны, грузовики, трактора; как маленькие озерца проплывали воронки от бомб, наполненные водой. Раза два-три поезд останавливался, и мы ссыпались в ближний лесок, где, как ни в чем не бывало перед нами, растянувшимися на траве, покачивались лиловые колокольчики…
А потом опять тряслись, – на самодельных полках большого товарного вагона (пульмана), напоминая каких-то нервнобольных. И так – несколько дней, вместивших в себя множество впечатлений. До города Саранска.
В 41-м году мне исполнилось 13. Соответственно: в 42-м и 43-м – 14 и 15 лет, – возраст определения жизненного пути. Перед Войной я успел проучиться один год в Средней Художественной школе при Всероссийской Академии Художеств. И в Саранске, – хотя и отыскал местную Художественную школу, размещавшуюся в обычной избе, правда, – с большой горницей, уставленной фикусами и завешенной гипсами (атмосфера в школе была самая домашняя!), все же, настоящей среды не хватало. Я остро это чувствовал и боялся упустить время. После окончания семилетки пришлось бы идти на завод, к станку, как пошли мои ровесники. Но у них был технический уклон. Я же хотел продолжать свое ученье.
Какими-то непростыми путями мне удалось узнать, куда эвакуировалась Академия. Тайком от родителей я отправил в Самарканд (в библиотеке, то бишь, в книжном шкафу местной Художественной школы я наткнулся на какой-то журнал с самаркандскими минаретами, подогревавшими мою мечту!) письмо и… получил вызов из СХШ. Пожалуй, он оказался и моим единственным «вызовом» родителям. Не помню, где в то время был отец. Возможно, на строительстве укреплений по Суре. Или, скорее, в командировке. Но он (всегда и подчас довольно прямолинейно побуждавший меня к рисованию), конечно, не возражал бы. Но – мама! Какой сюрприз преподносил я ей! Сейчас я ломаю голову и удивляюсь – почему не возражала она?! У нее не было и тени сомнения – отпускать меня 15-летнего мальчишку, единственного сына, через всю – переживавшую страшнейшую Войну – Россию, куда-то к черту на кулички… В Среднюю Азию…
Оставаясь фактически совсем одна, она вправе была бы запретить мне мое столь дальнее и в общем-то рискованное «путешествие». Но она этого не сделала, – ведь и сама когда-то «ушла из родительского дома», уехала учиться в Саратов, а потом – в Москву. К тому же, несомненно, понимала, что, привязывая меня «физически», она отдалила бы меня от себя духовно. (А для нее последнее – всегда первенствовало!) И напротив: разлука еще более усиливала доверие между нами и – бессловесное понимание. А шел 43-ий год. Бомбили Горький. И как повернется дело, как порешит История, еще никто не мог знать…
И вот мы с мамой в Рузаевке (тогда – день езды от Саранска), крупной узловой станции, через которую проходили поезда и с Востока на Запад, и с Севера на Юг, в Среднюю Азию. Залы ожидания – зрелище из тяжкого сна. Вповалку спали, лежали гонимые судьбой люди. В основном – освобожденные из мест заключения, а также – казахи, узбеки… Все изможденные, с болезненными, пыльными лицами. И – во вшах. Сидели – очумело чесались.
Билет – по вызову – мы купили еще в Саранске. Но прокомпостировать его оказалось невозможно; «мест нет». И в поезд – не попасть. В столпотворении, помимо отталкивающих локтей, срабатывали и какие-то заградительные меры… Измотанные и расстроенные, мы вернулись домой. Но и тут мама не отговаривала меня! И, несмотря на неудачу первой попытки, через неделю мы снова отправились в Рузаевку. Кругом творилось то же, что и в прошлый раз. Но когда подошел поезд, мама сумела подмигнуть проводнице, показав из-за полы ватника поллитровку, припрятанную за пазухой…
Так мы расстались – неведомо на какой срок. Так началась моя самостоятельная жизнь.
Конечно, мама не могла не тревожиться за меня; не опасаться, отпуская меня в неизвестность, за мою судьбу. (Это – вдобавок к ее переживаниям за Нюру, оставшуюся в блокаде!) Но за мое поведение, насколько я понимаю, она ничуть не тревожилась. Знала, что ничего худого я не сделаю, не «собьюсь с пути». Полностью мне доверяла. И я, наверное, еще не вполне осознанно, чувствовал это доверие и не мог его не оправдать. Доверие – обязывало.
Поначалу я был упрятан в угольный тамбур. И стоял почти всю ночь, смотрел в зарешеченное окно, размазывал по щекам слезы. Кругом уже лежал снег. Было начало ноября. И только луна неотступно следовала за мной – летела вместе с поездом, упрямо пробиваясь сквозь обнаженные ветви деревьев, проносясь над их вершинами. Лишь под утро проводница пустила меня в вагон, предоставив третью, багажную полку. И для меня начался уже как бы вполне обычный путевой быт, тянувшийся, должно быть, не меньше недели.
Я оказался в офицерском вагоне. Лейтенанты, капитаны… Кто – ехал на побывку, в отпуск, кто – из госпиталя. Наверное, потому и настроение у них было приподнятое. Но, кроме того – их озаряла душевная щедрость, питаемая, как я теперь думаю, чувством своей правоты как поколения, на долю которого выпала задача спасения Отечества. Это были добрые люди. Ни у кого из них не возникло и малейшего сомнения по поводу законности моего пребывания в их среде. Никто даже не спросил, как я затесался в их вагон! Я сказал, что еду учиться – в Художественную школу при Академии, в Самарканд. И это не только сняло все возможные вопросы, но и встретило полное понимание и даже – уважение. «Учиться едешь? – Молодец!»
Душой компании – был старший лейтенант Сусанов. (До Войны он работал в каком-то клубе с Лебедевым-Кумачем). Заводной, веселый рассказчик, не избегавший в своих повествованиях и историй, связанных с личными похождениями. Он сказал как-то: «Ну, что у тебя козлиный пух на подбородке, – давай, обреем!» И меня торжественно посвятили в «мужское сословие».
Еще в купе ехал бледный черноволосый капитан с характерным еврейским профилем. Он спросил: «Нарисуешь меня?» В вагоне трясло. Карандаш дергался. И не знаю, что уж у меня получилось на тетрадном листке в клеточку. Но капитан посмотрел и – «признал себя». Все подтвердили: «Похож!» Он взял и спрятал рисунок, а в знак благодарности сам предложил мне прокомпостировать мой билет. Сошел в Ориенбурге, где поезд стоял довольно долго и «узаконил» мое существование в офицерском вагоне. Ведь до этого я ехал как бы зайцем и очень боялся, что меня «попросят»…
Помню главное мое чувство от встречи с этими веселыми и душевно открытыми людьми: я среди них – свой, как младший брат – среди старших.
Как-то ночью, на одной из станций вдруг раздался дикий крик: «Не дашь матрас – психану!» – Сообразительная проводница быстро погасила шум – нашедшимся, конечно же, матрасом. А новым пассажиром оказался капитан – летчик, с которым мне еще предстояло встретиться.
…Подолгу глядя в окно на медленно колышущиеся степи, где порой глазу не за что было уцепиться, и сочиняя стихи, (пытаясь сочинять, ибо получалась в основном первая строка: «Я навстречу солнцу качусь…»), через какое-то время я, наконец, доехал до Ташкента. Языком суровых лет Ташкент был осмыслен как место, где всё тащат. То есть крадут. И я крепко прижимал к себе чемодан со своими пожитками. До Самарканда – еще день езды. А поезд – надо брать штурмом. Кое-как я пристроился между вагонами на переходе, где под ногами ходили железины. Сильно продувало, и я замерз. Хотя утро было солнечное, но под зелеными, усыпанными плодами, деревьями на траве лежал иней. Только к вечеру, когда поезд вошел в горы, удалось протиснуться в блаженно душный тамбур вагона. В тесноте какие-то солдатики, видно, из музыкантской команды, пели тогда лишь появившуюся песню: «Темная ночь, только пули свистят по степи…»
И в Самарканде, встретившем меня очень редкими огнями, ночь была и впрямь темная. Непроглядная. Куда идти? Куда деваться?.. Вдруг слышу: «А ты что тут делаешь?» – Знакомый по офицерскому вагону (впрочем, там мы с ним и не перемолвились!) капитан-летчик, тот самый, который грозил проводнице: «Не дашь матрас – психану!» Я объяснил, что не знаю, куда идти. «Ладно, завтра утром разберешься – идем со мной!» (Сейчас я поражаюсь, что у меня не возникло ни сомнения, ни недоверия!) Пошли. В сплошной темноте. Но капитан шел среди дувалов, как по своей квартире. Останавливаемся перед каким-то домом. Он стучит. За дверью – женский голос. «Люся? – Открой, это я». Входим. Что-то вроде общежития или дома крестьянина. «Вот, устрой нас с другом». Комната. Две постели. Чистое белье. После дороги – блаженство! Так мы и проспали до утра. Никакой платы никто с меня не спросил. «Счастливо!» – сказал летчик. И – всё… К стыду своему, я даже не спросил, как его зовут.
Выяснилось, что Академия – совсем неподалеку, в здании обычной школы, на улице, по которой дважды в день ходил в Старый город крикливый паровозик-кукушка, а иногда улица наполнялась плывущим звоном колокольцев, – величественно колыхаясь, передвигался караван верблюдов. Экзотика! А в интернате жили впроголодь. И мамину заботу – реально – я ощущал всякий раз после того, как, продав на барахолке очередную рубашку, из тех, что мама напихала мне в чемодан, покупал грецкие орехи, урюк, изюм или рис – варил с другом на костерке кашу.
Мама оставалась в Саранске совсем одна. Отец в это время уже вернулся с Институтом в Ленинград. А мама не поехала – ждала меня. И в марте 44-го, когда Академия реэвакуировалась из Самарканда в Загорск, я по пути, сойдя с эшелона, «завернул» к маме… Привез ей немного урюка и полмешка (килограммов пять)…соли. Когда я жил еще в Саранске, то, что-то делая на кухне, нечаянно выронил банку с солью, и она почти вся угодила в крысиную дыру. К тому времени, когда я навестил маму, соль уже не была драгоценностью. Но я как бы исправлял свою оплошность, хотя мама меня за нее и не бранила…
* * *
Когда-то меня поразила – уходящая в историю – геометрическая прогрессия числа моих предков: родителей – двое, бабок и дедов – четверо, прабабок и прадедов – восьмеро и т. д. Словом, ко времени Куликовской битвы мои предки – весь народ. (Я как-то высказал это соображение Илье Фонякову, и он оформил его в собственных стихах). Но дело не только во впечатляющей арифметике. Суть в том, что (прежде всего!) через своих прямых родственников мы приобщаемся к народу. И народ предстает перед нами – нет! – входит в нашу жизнь (становясь чем-то сокровенным) – лицами наших родных, самых близких. Ими – повернут, обращен к нам. И у меня эти лица добрые. Души добрые… Они принадлежали людям бесхитростным и праведным. Были ли у них свои слабости? Конечно, были. Но добрые качества перевешивали. Среди них не было стяжателей, хапуг лжецов. Все работали, не щадя себя. Жили – заботой о детях. А мама и Нюра – вообще натуры редкостные по своей преданности и самоотверженности. Самоотверженность и жертвенность – «доказательство» их любви, их святости. Для меня, во всяком случае… И они – прежде всего! – мой народ…
Да и отец вовсе не был персонажем отрицательным. Ну, увлекался женщинами. Выпивал. Но, может быть, в те времена и трудно было иначе («Отважно пил со стукачами, дабы лояльность доказать», как писал я о нем в шуточном юбилейном поздравлении к 70-летию). Работать-то отец умел. Его ценили и коллеги, и ученики. Дома – до Войны – стоял его чертежный стол под лампой, движущейся на роликах. И сколько раз, бывало: просыпаясь ночью, я видел в щель из-под двери – полосу света из соседней комнаты. Отец работал.
Вокруг сюжета о воробыше
«Как ныне сбирается Вещий Олег» – начинал патетически декламировать отец.
Это было именно декламацией. Она возбуждала, завораживала своей чеканной поступью, затягивала куда-то своим властным течением. Но я уже знал, что Вещий Олег должен погибнуть. Коварная змея, шипя, непременно выползет из конского черепа и – ни за что! – смертельно ужалит Вещего Олега. Я не хотел его смерти. Я боялся ее, каким-то краешком детского разумения догадываясь, что это и МОЯ смерть… И чтобы не допустить ее, не дойти до нее, крепко-накрепко затыкал уши, а вдобавок кричал во всю мочь и топал ногами.
Отец прекращал декламацию. Но явно не понимал меня…
* * *
…Не так-то легко было отличить правый ботинок от левого. Еще труднее – попасть в дырочку ботинка размахренным шнурком. Немножко лучше окружающий мир виделся исподлобья, в прищуре… Мама заметила эти прищуривания и отвела меня к врачу. Он прописал очки.
Двор отреагировал сразу же и четко, по законам стаи отторгая отклонение от нормы. Моя беда – мне же ставилась в вину. Очкарик! Четырехглазый! Слепой! – Дразнилка выделяла, отчуждала, давала неоспоримую санкцию не допускать в особо серьезные игрища и затеи. Правда, как выяснилось, с помощью очков (+5) иногда удавалось прикуривать от солнца. Это несколько повышало мои акции, как-то примиряя обитателей нашего двора со мной. При том, что аргумент «Уйди, очки разобью!» всегда был наготове.
Но клеймо отчуждения оказалось и тем, что заставляло, замыкаясь в себе, задумываться, сосредотачиваться на тех вещах, которые – в противном случае, – возможно, меня бы и не задели. Отчуждением подстегивалось пробуждающееся самосознание. Иго – со временем – переплавлялось в благо…
* * *
Ну, конечно, помнишь, не можешь не помнить: мы сидели на скамейке в сквере недалеко от метро «Парк Победы». Что-то пережидали и ели мороженое. Рядом, у наших ног, чирикая и трепыхаясь, прыгали воробьи. Как не понять – тоже хотели полакомиться! И ты стала бросать им кусочки мороженого. Они резво склевывали его, а ты бросала еще и еще… И был среди них, в их бойкой стайке, какой-то захудалый и нерасторопный воробыш. Тебе хотелось подкормить и его, поддержать невезучего. Не тут-то было! Дружный воробьиный коллектив не подпускал его ни к тому, ни к другому кусочку. Братья как будто были в сговоре и с единодушным азартом набрасывались на него, – клевали беднягу, оттесняя, отгоняя прочь. «Нормальные» воробьи отбраковывали «ненормального». Он был неполноценен и потому обречен. И помочь ему было невозможно… Воробьи учили нас уму-разуму. Разыгрывали притчу, суть которой давно угадывалась нами, но вдруг проступила с ясностью математического закона.
Много позже я прочитал в газете заметку о белой вороне, которую пришлось спасать, потому что на нее всем скопом набрасывались серые подруги. Ворона, вроде бы, не была неполноценной, но слишком выделялась среди своих сородичей. И ее ожидала та же участь, что и нашего воробья. Природу не переспорить, а она стремилась сохранить свой стереотип. Не случайно наш язык ввел «белую ворону» в поговорку, имеющую уже символический смысл. Да и каждый из нас – так или иначе – ощущал себя среди других «белой вороной»… Только «белые вороны» – из числа людей – становятся теми, кто начинает задумываться или заниматься нелепыми делами – рисовать, писать стихи…
Вспомнил я еще и давнюю ситуацию: в школе, где я начинал свое ученье, в нашем классе, был ученик по фамилии Верхушкин, – обсыпанный веснушками, рыжий. Вспомнил, как ему ни за что, походя, доставались щелбаны и подзатыльники.
Потом я даже написал стихотворение:
* * *
В каждом классе непременно
рыжий должен быть,
чтоб его
на переменах
можно было
бить! —
Потому что отвернулся,
лишь увидел
шиш,
потому что подвернулся,
потому что – рыж!
Среди умных – ну, конечно! —
глупый должен быть,
чтоб над ним работать
нежно,
направлять,
учить.
А иначе бы едва ли
в областях страны
сами умные узнали,
что они – умны!
Стихотворение шуточное. Но – с подковыркой. Тогда, в 50-е годы каждый пишущий мог легко стать предметом «дружеской» проработки, идеологическим козлом отпущения. Я уже вполне понимал это. И все же, не подозревал о том, что прикоснулся к одной из вечных и стержневых проблем человечества – проблеме «одного» и «всех».
* * *
Поскольку люди стали жить общественно, и поддержание универсализма общества в приспособлении к меняющимся обстоятельствам требовало специализации индивидуумов, коллектив сохранял (хотя и не всегда: пример Спарта, где слабых младенцев бросали в пропасть) «ненормативные» человеческие особи. Нестандартность человека могла сработать на пользу коллектива в определенных условиях. Всё же, по-видимому, нестандартность принималась до каких-то пределов. Консолидация членов коллектива всегда предполагала их нивелировку – в том или другом плане. Чему и служили заповеди, каноны поведения. – Писанные и не писанные.
* * *
Мне года четыре… И меня с группой других ребят нашего двора кто-то из взрослых вводит в большую комнату на первом этаже соседнего дома, тускло и, мне кажется, таинственно освещенную голой электролампочкой. Какой-то праздник. Скорее всего – 7-е ноября. Скопление народа, толчея, оживление и предвкушение чего-то особенного. Детям раздают подарки! Топчемся у столов, заваленных пакетами. Наконец, подходит и моя очередь. Но моей фамилии в списке нет. Мне подарка не положено. В памяти оседает чей-то голос: «Они богатые!» Лишь постепенно догадываюсь, что это о моей семье. Непонятно. Мы, также, как и наши соседи, ежедневно жарим картошку, варим пшенную или перловую кашу… Не в силах осмыслить, за что меня – ТАК, плетусь обратно к двери. Какая-то женщина подходит ко мне, как будто давно знает меня, начинает утешать. Тут до меня что-то доходит, и слёзы сами выкатываются из глаз, текут по моим щекам. Женщина гладит меня по голове, пытается чем-то угостить. Но я реву. Первый раз в жизни мне дали понять, что я не такой, как другие. Меня отделили, отсеяли, отсортировали. Я – не со всеми…
Ранние травмы – самые глубокие, остающиеся навсегда. И, вспоминая описанный эпизод, я уже не довольствуюсь той мотивировкой – они, мол, богатые; богатыми тогда могли быть разве что нэпманы, – еще не вполне придушенные. Богатство в те суровые годы – 32-33-ий – слишком бросалось в глаза. Скажем, если у кого-то из ребят появлялся – нет, не велосипед, – самокат! – они стали появляться года с 36-го, – это становилось событием всего двора. Суть заключалась в ином. Отец мой был архитектор. Вежливо изъяснялся даже с дворниками. Говорил культурно. Это все знали. Но это, видимо, и инкриминировалось ему как признак барства, принадлежности к интеллигенции. Интеллигенция же числилась «не своей», чужеродной и пребывала под подозрением. Ее надлежало укорачивать, показывать ей «свое место». Мне – четырехлетнему – и показали! – Не думая о том, какую честь мне воздают!
* * *
Как правило, чем-то выделяющийся человек вызывает реакцию неприятия, отторжения. Убить его, чтобы ассимилировать духовно, – вот закон отношений личности и коллектива, неповторимого и стереотипного. И посмертная слава убитому – покаяние перед ним. Так складывается и вновь, и вновь проявляется ритуал жертвоприношения. Он, в чем убеждает Фрезер, универсален для всех человеческих сообществ.
* * *
Страсть, злость, ярость – чувства животного. Покаяние – чувство человека. Лишь побывав животным, отдав себя ярости, человек постепенно осознает свою вину, приходит к покаянию и только тогда в полном смысле слова становится человеком. Человек – животное кающееся.
* * *
«Быть, как все» – это защитная реакция, направленная на то, чтобы достичь определенного среднего уровня массы и раствориться среди других. Реакция, призванная скрыть неуверенность в себе. Акт самообороны. А, может быть, и мимикрия…









































