Читать книгу "In medias res"
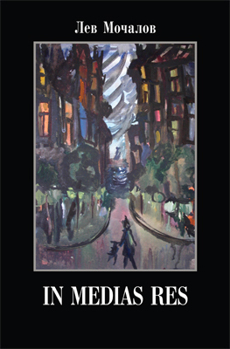
Автор книги: Лев Мочалов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Где кончается село?»
Сон: кто-то показывает мне книжку. (Кажется, Клод Моне, – письма) – с прелестными, пушисто-нежными, как бы робкими рисунками. Они виделись мне очень отчетливо. И первая радостная мысль: «Покажу Асе!» И тут же – отрезвление: Аси нет. Как от толчка просыпаюсь.
* * *
Иногда, когда ей было особенно тяжело, и приходилось подолгу лежать неподвижно, она, преодолевая боль, все же подтягивалась на раме, прикрепленной к кровати, стараясь заглянуть куда-то вбок.
– Ты что? Там что-нибудь увидела?
– Да, нет. Так…
Потом, по прошествии скольких-то лет, мне тоже пришлось лежать больным на том же месте. И я часами смотрел на окно. Сквозь его переплет виднелся дом на противоположной стороне улицы. Трудно было пошевелиться. И окна дома напротив словно бы пристывали, примерзали к переплету моего окна. И хотелось сломать это впечатление. Доказать, что они настоящие, а не нарисованные…
* * *
Плакала (правда, очень редко): «Птичку жалко». Никакой птички не было. Но было усиленное, должно быть, болью, – чувство отпадения. Отпадения от всех, прощания с собой.
Еще до поездки в Москву (в специализированную клинику) Ася как-то призналась мне: «Папа, я уже устала… А главное – рвутся ниточки… Мечтала о телефоне у постели, а вчера – на каталке – подъехала к телефону в коридоре… А позвонить – некому! Кому я нужна?..»
* * *
Все доводы разума «за». Надо что-то делать. А значит, рисковать. Это дает хоть проблеск надежды. Но ляжет на операционный стол Ася, а не я, резать будут не меня, а её. Вправе ли я подвигать свое дитя на новые испытания, новые муки, которые могут и не принести результатов? Увы, нам не дано ведать, что мы творим.
* * *
Тебе необходима была надежда. Ты надеялась. И твоя надежда обязывала меня выбирать, принимать решения. Твоя судьба делала меня своим орудием: нельзя кормить надежду бездействием. Нужно хотя бы начать действовать. И то, что было очень и очень нелегко, – попасть в эту, недавно открытую (и разрекламированную!) московскую клинику, как бы подтверждало необходимость попасть именно в нее.
* * *
Старшая медсестра – женщина, одухотворенная своей уходящей красотой, – вскинула на меня серьезные и внимательные глаза. Нет, она не оттолкнула, не отвела в сторону мою руку, протягивающую ей коробку конфет. Должно быть, понимала, что это вовсе не взятка, а лишь подобие умилостивительной жертвы, глухой отголосок того, что некогда было приношением в храм. – Она с этим сталкивалась не однажды; и только сказала: «Зачем?» – протяжно посмотрев на меня; не с высокомерием, но с какой-то печальной отстраненностью, из далекого далека… Только впоследствии прорезалось значение этого взгляда. Да. Она была причастна к высшим силам, но и она ничего не могла сделать, – сверх того, что должно было произойти.
* * *
Положив на каталку, Асю оставили в больничном коридоре и как будто забыли о ней. Не дали даже одеяла. Она терпела, пыталась улыбнуться. Десять минут, пятнадцать, двадцать. Никого нет. Во мне всё закипало. Я пошел и разыскал дежурного врача. Не спеша, неуклюжей, развалистой походкой он подошел к каталке. Огромный, гориллоподобный. Еле сдерживая себя, стараясь не слишком повышать голос, я разрядился: «Как Вы могли оставить больную?» Он не обращал на меня внимания, что-то поправлял (или делал вид, что поправляет) в каталке. А когда я не выдержал и почти закричал: «Вы не думаете, что можете ответить?», он, выпрямившись, спокойно и внятно проговорил: «Перед кем?» На меня дохнуло таким холодом имперсональности, идущим не иначе, как из космических бездн, что я осекся…
Ася потом меня корила: «И чего ты стал качать права с этим мясником?» Как выяснилось после, он был хирургом. Но не нейрохирургом. И именно он делал Асе операцию.
Действительно, перед кем ему было отвечать?..
* * *
Доходило с большим опозданием: больница – это решето. Это лишь ускоритель процесса естественного отбора: одного – направо, другого – налево. Кого еще держит сама жизнь, тот не проходит в ячейки решета. А кого жизнь держит уже слабо – проскакивает.
Веселая миловидная медсестра несет по коридору наполненный шприц, даже не прикрыв его ватой…
* * *
По выражениям лиц, замкнуто-ритуальных, по скупым жестам и многозначительным сценическим паузам я читал или, скорее, реконструировал мысли врачей: «Мы не лечим. Мы разве что создаем критические ситуации, которые позволяют ускорить процесс – отделить жизнеспособных от нежизнеспособных. Мы – ассистенты судьбы, подручные, обеспечивающие декорум».
* * *
«Какой смысл бороться за жизнь человека, который сам себя хотел вычеркнуть из жизни?» – такова мораль большинства «нормальных» людей. Помню, как отреагировала чиновница из Смольного, к которой пришлось мне придти на поклон. Переспросила: «С четвертого этажа? На асфальт?» И – высокомерно усмехнувшись: «А теперь – жить хочется?»
* * *
Я доверял им, – врачам. И тем самым как бы участвовал в их заговоре. Заговоре профессионального бессилия. Они, видимо, гораздо раньше самых тяжелых дней считали Асю безнадежной. Дежурный врач, которому пришлось принимать ее смерть, сказал, имея в виду девушек, лежащих вместе с нею: «Ведь все они обречены. Днем раньше или чуть позже». Он хотел нас (меня и Нюру) утешить…
* * *
Прежде – в дедовские времена – приборы, с помощью которых брали кровь, стерилизовались на месте. И было много случаев внесения инфекции. Теперь их стерилизуют централизованно и «спускают сверху». Случаи заражения не прекратились и даже не сократились. Но была найдена формула коллективной безответственности. Когда «никто не виноват» (и не с кого спросить), – всех это устраивает. То, что нисходит сверху, нисходит от Бога.
* * *
В поведении и манере держаться Главного угадывалась своя философия. Докучливых родственников следует внимательно выслушивать, но ничего определенного не говорить. Очень важно поставить перед ними задачу. Скажем, какое-то лекарство мы получаем через два дня. Но пусть – уж очень заботливый и дотошный – папаша достанет его сам. Пусть побегает, поищет. Поднимет на ноги всех своих знакомых. Займется делом. И нас не будет тормошить. Пусть поизрасходует свой порох. Достанет – так успокоится на время. И будет уверен, что трудность поисков лекарства будет способствовать более успешному лечению: дефицитное – значит самое эффективное.
А еще лучше намекнуть, что, де, в недрах военных предприятий уже изготовляют некий препарат… Пусть отправляется за Жар-птицей!..
* * *
И когда человека уже нет, врачу никто не предъявит счет: исключен сам повод для тяжбы, предмет разговора. Ничему не поможешь, ничего не вернешь. А по записям в журнале всё и должно было так быть, как стало. В чем же тогда ответственность врача? Выходит, он всегда прав и никогда не ошибается. Коллеги же его не будут судить, потому что завтра сами могут оказаться в таком же положении. Это этика профессии, круговая порука посвященных, прикосновенных к игре жизни и смерти…
* * *
С «удачливого» суецидника и взятки гладки! А с «неудачливого» – уж извините! – Самоубийство – аномалия, извращение, таящее в себе вызов! И кроме физических мук, уж будь любезен испить чашу мук душевных. Да, ты (пока!) остался жив. Но ты не такой, как все. И не только потому, что покалечен. Но и потому, что думаешь иначе. Что ж, ты, каракатица, сейчас-то цепляешься за жизнь? За такую вот… А?..
* * *
После вливания крови, выражаясь терминами медицины, Ася дала температурную реакцию. «Странно, – сказал лечащий врач, – второй случай! Надо проверить поступившую партию». (Имелась в виду консервированная кровь). Он – лечащий – был добрым и примирившимся со всем человеком. И, пожалуй, подошел бы больше к роли священника, чем врача. Очевидно, он знал, что Ася умрет в воскресенье, 19 августа. И его в этот день не было. Принимал смерть Аси другой врач. Тот, который говорил в утешенье, что здесь все обречены…
Как я узнал потом, медсестра еще в начале дня сказала Нюре, отозвав ее в сторону: «Сегодня Ася умрет». Они знали… У них всё шло по расписанию. А мы шли утром в больницу, как обычно. Уже успев привыкнуть к маршруту, сначала на автобусе, потом в метро, через весь город. Шли с чувством оцепенелой надежды… Светило солнце. И только в мозгу у меня (подсознательная самозащита, заслонение?) назойливо крутилась какая-то дурацкая скороговорка. Но я и в мыслях не допускал того, что было уже предуготовано на сегодняшний день…
Ася обливалась потом. Я думал, что это кризис. Ведь, все-таки, было поначалу какое-то улучшение. Нюра постоянно меняла ей рубашки, – выносила то одну, то другую во двор, просушить на солнце. И заодно вдыхала глоток свежего воздуха, – она уже знала…
* * *
– Чем же она тебе не нравится? – спросил я Асю об Оле, её соседке по палате, тоже спинальнице.
– Она слишком хочет жить, – ответила Ася. И слово «слишком» было подчеркнуто интонацией. Это желание для Аси, как видно, выпадало из каких-то представлений о порядочности. Казалось неэстетичным, что ли.
Я возразил: «Ведь это естественно, человек и рождается для того, чтобы жить». Ася смолчала. Хотя довод мой явно не убедил её. У нее была своя позиция и своя правда. И она сама подготавливала себя к приятию своей судьбы. Искала аргументы. Но, конечно, ждала и их опровержения.
* * *
Всегда ли правильно судить «с позиций жизни»? То есть, предполагая жить дальше. Может быть, иногда человек вправе судить с позиций «после жизни»? И тогда – он более свободен? Может быть, потому и вызревает презрение умирающих к живущим? Ведь это – защитная реакция перед лицом вплотную приблизившейся смерти.
* * *
Но, возможно, она знала предел своей жизни, и жизнь эта вовсе не оборвана, а завершена, как и положено быть завершенной её жизни. – Подобно картине, оставленной в стадии эскиза, гениального намека, которую и невозможно, и не нужно продолжать: продолжишь – испортишь; закончишь – потеряешь счастливое озарение начала… Или это я, в очередной раз, сам себя успокаиваю, обманываю, ищу оправдания?..
* * *
И опять возникала потребность говорить о себе в третьем лице…
Не оттого ли что у него фактически не было отца как учителя, наставника, как старшего друга-мужчины, в нем самом обострилась эта жажда: возместить – ему недоданное, отдавая себя – своим детям. Причем, девочкам. Одна из них, старшая, с первых же лет взбунтовалась против «его» истины. В ней – в старшей – слишком давало о себе знать женское, непосредственно эмоциональное начало. Другая, более похожая на него и тоже очкарик, уловила то, что исповедовал он – приоритетность творческого устремления, восприняв «его» истину со всей доверчивостью, серьезностью и пылом. По силам ли была ей эта «истина»?
* * *
Как отец мог не желать сына? И возможно, его второе дитя догадывалось о сокровенном отцовском желании и ощущало себя без вины виноватым? И, наверное, стараясь походить на отца, предъявляло к себе завышенные и даже чрезмерные требования. Девочка неосознанно искала в себе мальчика. В нравственном смысле она была максималистом. В физическом же – нескладешкой. Спотыкалась там, где легко пробегала ее старшая сестра.
* * *
Вот и повторяй, повторяй: «Дитя мое, прости меня!.. Я, бог-отец, отвечаю за всё произошедшее. Я не только послал тебя на крестные муки, главная моя вина в том, что я передал тебе бремя представлений, оказавшихся для твоей земной ипостаси непомерными. Непомерными именно потому, что ты приняла их – как свое, кровное»… Но мог ли я не стремиться передать тебе самого для меня дорогого?
* * *
Мать девочек погибла, когда одной было 8, а другой 5 лет. Ему приходилось совмещать роли матери и отца. Но заменить мать, конечно, он не мог. А отцом для каждой из них он оказался разным. Младшая, нуждавшаяся в его поддержке, тянулась к нему, а это не могло не вызывать ревнивого отторжения старшей. Получалось, что любил он только младшую. И – будто бы! – во всем ей потакал. А он лишь стремился ее защитить, подстраховать…
* * *
Вместе с чертами лица она унаследовала от него те же диоптрии. Когда еще не носила очков, надевала тапки на «безразличную» ногу. Это выражение стало семейным присловьем: у Аси опять всё «на безразличную ногу». Он-то помнил, как неимоверно трудно было ему в детстве зашнуровывать ботинки: металлический наконечник очень быстро соскакивал со шнурка – и попасть растрепавшимся концом в дырочку составляло сущее мученье. Потому он не только понимал, что её нельзя оставить в состоянии беспомощности и сам постоянно старался помочь ей, но и чувствовал её изнутри, как себя. И, наверное, тем больше было искушение творить её по своему образу и подобию. Это ли не было грехом?
* * *
О чем же был этот последний Большой Разговор? Не помню. Начисто ушло из памяти – будто и не было самого предмета разговора. Не помню, и с чего он начался. Вроде бы, с какого-то чисто бытового ничтожного повода. Но – подобно обвалу от малого камушка – обрушился лавинообразно. Как сон, его трудно пересказать, но от этого он для меня не менее реален. Сохранилось в памяти лишь волнение того разговора, нервная, мучительно-запинающаяся интонация, составляющая смысл его катастрофической мелодии. Должно быть, смысл этот уплотнился со временем и – в перспективе лет – обозначился как разреженный туман, сгустившийся по мере отдаления от него…
А было это, когда жить оставалось Асе несколько дней. Когда на нее периодически накатывали приступы озноба. В кратком промежутке между ними. Она в чем-то меня упрекнула и продолжала настаивать, возводя из ничего свою обиду. Я, не чувствуя себя виноватым, так как, по-моему, претензии были нелепы, оправдывался, возражал. И, должно быть, слишком горячо. Да, да, не следовало мне с такой одержимой настойчивостью отстаивать свою правоту. Какое затмение на меня нашло? – Она ведь искала признания, оправдания, что, может быть, хоть немного помогло ей существовать. Её упреки были как бы последним вызовом жизни. Последней надеждой на то, чтобы закрепиться на этом берегу. Если бы я принял их! Несмотря на всю абсурдность предъявляемых мне обвинений, я должен был «покориться». Признав себя виноватым, я признал бы правой её. Правой – «сейчас», а не «потом», когда её уже не стало, и когда всё равно на меня легла вина перед нею. Мне было предложено такое испытание, которое я не выдержал…
Словно уже эхом самой себя, она еще продолжала меня упрекать, а я – как будто о чем-то начиная догадываться – умолк. И только гладил и гладил её руки. Но она уже отплывала, и незримый прогал между нами безмолвно ширился…
* * *
Я спускался в кабине лифта с женщиной-врачом, очень внимательной, почти кроткой, напоминавшей ангела. Она только что смотрела Асю. Это было в пятницу. Ася умерла в воскресенье. И вот, в кабине лифта, она – врач-ангел – говорила: «Всё еще совсем не безнадежно». Может быть, ангел жалел меня?..
* * *
Бессмысленно добиваться от врача, чтобы он явил «истину». У него всегда есть оправдание: «Я не Бог». И как бы ни было безнадежно положение больного, врач должен поддерживать веру – его и его близких – в чудо. В то, что иногда случается, но во что он сам не очень-то верит. И только тогда, когда наступит конец, он скажет: «Всё было предрешено». Хотя вчера еще говорил: «Да, нет, не всё еще безнадежно». Тогда надежда была его святым сомнением в правоте науки.
* * *
Как белка в колесе… Вновь и вновь живу тем последним днем Аси. И не выйти из него. Не вырваться из этого круга воспоминаний. Стремительно пробегаю их, как будто где-то, все-таки, затерялся поворот сюжета в другое русло…
* * *
Трезвые люди говорят: «Пусть жестоко звучит, но поставлена какая-то точка». Со стороны всё ясно…
Борьба за жизнь Аси – всех нас держала. Своим горизонтальным положением она заставляла нас чувствовать свою «вертикальность». А теперь хочется упасть и не подниматься. Пустота… Зияние пустоты…
И всё звучат ее последние слова, сказанные Нюре, пославшей меня домой за боржомом, якобы, необходимым для Аси: «Папочка, наверное, заблудился»…
* * *
Как будто в боржоме было дело. Как будто он был той живой водой, которая могла принести спасение! – Я сам себя убедил в этом и поверил в это. И мчался на такси через всю Москву, туда и обратно.
Когда возвращался, – над домами, в перспективе улиц, – лопающимися почти одновременно ракетами дымно расцветал салют. Был какой-то праздник… Ася, как потом рассказала мне Нюра, тоже видела этот салют. Спросила: «Что это?» – Нюра ответила. – «Ладно, – сказала Ася, – мне это уже неинтересно»…
Я очень спешил. Когда вернулся, Ася еще судорожно глотала кислород, не приходя в сознание. Но – несколько секунд – и врач вынул кислородную трубку из ее рта…
* * *
Не могу себе простить того, что не был с Асей в последние минуты ее сознания. Поддался самообману. Убедил себя в необходимости того, что делаю. Еще надеялся, хотел надеяться. Потому и готов был верить…
Нюра прикрыла меня собой…
* * *
И еще – из вспоминаемого…
Толя Дмитренко, замещавший директрису, подчеркнуто пренебрегая официальной субординацией, выкатил на меня глаза: «Какого хрена примчался? Уж если ты такой щепетильный, мог бы послать телеграмму о продлении отпуска». Поэтому убеждать себя, что я приехал на один день из Москвы в Ленинград по делам службы, было ни к чему. Грех играть с собою в прятки, прибегая к мотивировкам, оказывающимся на поверку уловками. Просто – мне была необходима передышка. Пусть хотя бы на день – но заслониться от неотвратимо надвигающегося. Схватить глоток воздуха перед неизбежным погружением в глубину…
Ты встретила меня, ни о чем не расспрашивая. Тихо, светло… Сон растворил мое состояние приговоренности. – На мгновение. Мгновение я младенчески спал после бессонной ночи в поезде. Потом – звонил телефон. Жизнь сохраняла видимость прочной обыденности. Надо было ехать в Музей – за билетом. Говорить с Толей. Вот тогда-то, когда он сказал «какого хрена», мне стало ясно, зачем я приезжал. Но я еще недопонимал, что приехал именно к тебе – антиподу Аси (заменить мать которой ты и не пыталась!) – молить тебя о пощаде. Как Бога, как Судьбу. – В своем покаянии перед тобой уповая на твое всевластие… Ты услышала только то, что могла услышать. Слишком долго я делил себя между вами…
А еще – в тот день – был удивительный город, Петроградская. Шел август. Безветрие, ясность. Но солнце не резкое и какое-то пристальное. Краски глубокие, четко выявляющие рельеф каждой формы – эркеров, скульптурных вставок, причудливых и немного наивных башенок, оставленных эпохой модерна. Город был таким, каким, наверное, хотел бы запомниться…
* * *
Директором ЦДЛ, где проходила выставка асиных работ, был пожилой и весьма благожелательный человек, старый хозяйственник. Звали его Борис Михайлович. Как мне сказали еще до устройства выставки, он всем заправляет и во всем может помочь. Когда Ася умерла, я пришел к нему в кабинет и сообщил об этом, – имея в виду, что мне придется вскоре снять и забрать работы. Он с серьезным вниманием принял известие о кончине моей дочери. Задумался. Затем, после паузы (как будто он открыл рецепт воскрешения Аси!) решительно произнес: «Да. Надо повесить объявление. Сейчас же распоряжусь» Сам акт деяния (не столь уж важно – какого) для него, видимо, только и мог быть подобающим ответом… Когда мы ехали в такси к моргу и на похороны, то проезжали как раз по улице Герцена. Мимо ЦДЛ. Аси уже не было. А работы ее еще висели. И люди подходили к ним…
* * *
…Тогда я еще не был лично знаком с Д. С. Бисти. Ему очень понравились асины работы. И он написал заметку, которую напечатала «Правда». Ася успела увидеть ее. Прочитала название: «Узнай незнакомку» и усмехнулась: «Что они прицепились к «Незнакомке»? (Несомненно, так окрестил заметку редактор). Это был один из самых ранних ее циклов, исполненных еще в художественной школе. Она давно его переросла. А прочитала напечатанное о ней очень спокойно, почти равнодушно. Тщеславие никогда ей не было свойственно.
* * *
Мои последние отчаянные попытки как-то помочь Асе ни к чему не привели. Бисти связал меня с неким светилом, работающим на космос. «Космический» врач позвонил Главному врачу Клиники и говорил с ним. Потом, не вдаваясь в подробности, сказал мне: «Положитесь на судьбу». Это означало: «Смиритесь! – Судьба сама допишет свой сюжет».
* * *
Как же, все-таки, старшая медсестра, еще продолжавшая нести свою увядающую красоту, посмотрела тогда на меня? – С царственным безразличием? Нет, пожалуй, с охлаждающим спокойствием Снежной королевы. Ее сердце помнило, что оно вовсе не ледяное, но в стране белых – снежных! – халатов не могло быть иным.
Не тогда ли ее аккуратно подведенными глазами как-то по-особому, с почти заботливой пристальностью глянула на меня Судьба?
* * *
Каждый день Ася ждала меня. Я был ей необходим. Я должен был держаться, чтобы поддерживать ее. Вопрос стоял так: стараться сохранить то, что имеешь, или попытаться что-то предпринять – с надеждой на улучшение. Шансов было немного. Но и ничего не делать – тоже не значило обрести спокойствие. Всё равно над Асей висел Дамоклов меч. Ей грозил уросепсис.
* * *
Опять и опять всплывают в памяти какие-то детали…
Мое письмо Асе из подмосковного Дома творчества – в октябре 1974 года – шло семь дней. Пришло тогда, когда Ася уже лежала на операционном столе. Если бы она получила его накануне!.. Может быть, всё сложилось бы иначе…
* * *
Снится сон, в котором есть что-то от многосерийного телефильма. Я вновь и вновь попадаю в него. И снова – в этом сне – встречаюсь с Главным врачом и разговариваю с ним, продолжая неведомо когда начавшийся разговор. Странен этот разговор. Я ничего не спрашиваю. Но врач слышит мои вопросы. Он ничего не произносит, но по едва заметным изменениям лица, по редким и вроде бы малозначащим жестам я улавливаю мысли, которые лишь по пробуждении облекаются в слова…
…«Вы же понимаете, Клиника – форпост ХХI-го века. И Вам необходимо понять его философию. Поймите, лечение – это вторжение в организм. Но любое вторжение обостряет противоборство начал жизни и смерти. Схватка их становится более интенсивной и драматичной, а исход борьбы – ускоренным. Вы доверили свою дочь нам, но тем самым согласились с этими условиями игры…»
* * *
Главный врач говорил уже как Главный – в каком-то расширительном значении… Он продолжал.
«Предлагая медикам задачу очень и очень нелегкую, прямо скажем, связанную с огромным риском, мы как бы требуем от них ускорить решение проблемы. И они ускоряли! Всеми силами старались помочь больной… И Вы знали, что гарантий в нашем деле быть не может. Конечно, конечно. Не говорили… Искусство врачевания – искусство сокрытия от больного истины его положения. Врач как можно дольше говорит и больному, и его близким нечто обнадеживающее или неопределенное. И только в последний миг у близких, а иногда и у больного открываются глаза. Но этот миг краток. Сделать его как можно более кратким – высший пилотаж врачевания. А потом – совершившийся факт. Родные плачут. (И это хорошо как проявление Жизни!) Ну, дадим брома. В конце-концов и они согласятся с фактом. Примут его, чтобы жить дальше…
* * *
…Нет, что Вы!.. Мы не обманывали. Всегда остается – пусть ничтожная! – доля вероятности, что человек выкарабкается. Сколь ни многоопытна наша наука, она все же не в полной мере способна учесть все прихоти природы. На эту ничтожную долю вероятности, если хотите – на чудо, и вправе надеяться родственники больного.
Повторяю, Вы же сами заключили с нами некий договор. А значит, стали нашим сообщником… И это – всего лишь целесообразность.
* * *
Наша Клиника – зародыш общества, нравственным принципом которого является гуманизм целесообразности. С точки зрения общества, нецелесообразно влачить существование калек. Нет, общество не убивает их. Но оно не мешает им естественно развиваться, то есть идти к своему логическому концу. Это не более, чем выражение энтропийного процесса, присущего любой системе. Общество может противостоять энтропии лишь в определенных – перспективных! – направлениях. Иначе говоря, заниматься тем, что целесообразно.
* * *
…Вы правы, при современных средствах медицины имеются возможности поддерживать существование почти любого тяжелого больного. Однако в таком случае общество было бы отягощено непосильным бременем затрат, не обеспечивающих никакой отдачи. Причем, количество его бесперспективных членов неуклонно бы возрастало…
И незачем пенять на персонал. Больничные работы запрограммированы лишь на определенный уровень точности, степень «пригонки» действий персонала к личности больного. Более точная «пригонка» нерентабельна, нецелесообразна. А наш гуманизм, Вы уже усвоили, гуманизм целесообразности. Безнадежному больному следует помочь возможно более спокойно уйти из жизни. Однако – давая ему надежду. И соответственно. иллюзию его лечения. В выдаче надежды – сервис. Да, мы поставляем надежду – безнадежным…
Полагаю, Вы согласитесь: наша Клиника – модель «Острова Блаженных». Недалеко то время, когда вся Земля станет им. И все люди, наконец, будут счастливы. Ведь Вы же проходили: «Человек рожден для счастья, как птица для полета»…
* * *
…Общество счастливых и может основываться только на неведении. Счастливые – это незнающие. Они и не должны знать, что существуют тысячи несчастных. Незнание оберегает их. И лишь тогда, когда человек сам сталкивается с несчастьем – люди не застрахованы абсолютно от болезней и травм – он начинает понимать, что есть и страдание. Но страдание – это, все-таки, свидетельство жизни…
* * *
…В нашем обществе количество несчастных случаев сведено к минимуму. Техника безопасности поставлена неплохо. Датчики следят за неправильными действиями человека и машины, моментально реагируют. Но мы не можем пока предотвратить попыток суицида. Поэтому самоубийство – по какой бы причине оно ни совершалось – рассматривается как преступление против общества. Преступление – с точки зрения социально-нравственной. Хотя с точки зрения научной – это не более чем форма саморегуляции природы, ее естественная автоселекция. Неприспособленные к жизни существа, так сказать, осуществляют самопрополку. И это – в программе высшего разума мира….
* * *
…Собственно говоря, самоубийство – один из путей проявления свободы воли. А свобода личности у нас гарантирована. Поэтому мы не пытаемся предупреждать суицид. – Ни на психическом, ни на генетическом уровне. По гуманным соображениям. Человек как член общества обязан сознательно бороться со своими антиобщественными устремлениями.
Если же он неспособен… Что, – внутреннее состояние?.. Аффект?.. Ну, не говорите… Есть поводы, а есть причины. Впрочем, иногда нам удобнее выдавать поводы за причины. И разве Вы не поступаете аналогичным образом, когда восклицаете: «Ах, если бы мое письмо пришло на день раньше?» Но это так, к слову…
* * *
…Если позволите продолжить, – у нас все счастливы. Вот Вы видите: под молоденькими тенистыми липками ветераны (они заслужили отдых!) играют в шашки. Один – выигрывает. Понятно – он преисполнен уважения к самому себе и вполне доволен. Другой же, хотя он и проигрывает, тоже ничего не теряет! Ибо голос всеобщего самосознания говорит ему (как – это дело чистой техники!) – играли-то в поддавки! И, стало быть, он тоже выиграл! И значит, – оба счастливы!.. И не смотрите скептически. Сказать себе, что игра велась в поддавки, – надежнейшее утешение! Не этим ли держатся великие религии Мира? Вот Вы считаете, что проиграли, что Вас обидела судьба. А разве не выигрыш – задуматься над тем, над чем в ином случае Вы не задумались бы? И уж простите, разве Вы не стали хоть немножечко мудрее?..
* * *
…Взгляните-ка! – Еще перед Вами сценка: старики и старушки на солнечной лужайке. Бодрые, подвижные. Бегают с сачками и ловят бабочек. Замирают в странных и чуточку смешных па. Соревнуются! Кто больше поймает – тот самый ловкий и юный. А кто меньше – тот самый добрый, душевный и дальновидный. Охраняет матушку-природу. Охраняет, конечно, символически. Потому как бабочки – электронные. Живых практически не осталось…
* * *
…Реальность?.. Какова она, мы никогда не узнаем… Тем не менее всегда как-то относимся к ней… Ах, это зависит от освещения. В нашей власти что-то осветить, что-то оставить в тени. Ничего страшного! За оставленное в тени нас еще больше уважать будут! – Потому как мы знаем то, чем они себя не обременяют…»
В таком роде Главный мог просвещать меня бесконечно…
* * *
Вдруг я понял, что с твоей смертью кончилась одна жизнь и началась другая, Есть та жизнь и эта. С тобой и без тебя. А наша память сохраняет лишь то, что нам нужно для продолжения своего существования. Человек прощает себя собственным забвением.
* * *
Нюра предложила мне примерить асины тренировочные брюки. Я отказался. Не смог. Слишком болезненны напоминания. Они вдруг оборачиваются вещественными доказательствами – уликами. Но если бы меня спросили – хотел ли бы я отказаться от памяти, стереть ее, как стирают запись на магнитофонной ленте, я ответил бы: «Нет, конечно!» Всё, что было со мной, – мое. И оно для меня – высшая драгоценность.
* * *
Сон. Я стою, склонившись над столом, заставленным баночками с красками и завинчиваю их крышками. По ощущению – это какая-то новая, отдельная квартира. И слышится голос. Говорит некто (осознаваемый как Инспектор), что если это – очевидно, имеются в виду баночки с красками, оставленные на столе, будет продолжаться, то нас выселят. Каким-то дуновением доходит до сознания мысль о том, что краски оставлены Асей. (Ну, конечно же, это она вечно забывает прибрать за собой!) И откуда-то слева, приоткрывая тихонько дверь, входит Ася. Я знаю, что она лежит в больнице и ходить не может. Но она входит. Худенькая девочка, как до травмы. И держит на руках – запеленутого в тряпицу – крохотного младенца. Это – сразу видно – кукла. Поблескивает ее целлулоидный лоб. А подбородок почему-то прикрыт подобранными друг к другу и стоящими, как жабо, прутиками, примотанными ленточкой. Ася наклоняется к своему «ребеночку», что-то поправляет у него на голове, безусловно зная, что это кукла, но явно выполняя какую-то приготовленную, (предуготованную!) ей роль, смысл которой проясняется для меня уже тогда, когда я просыпаюсь…
Должно быть, разыгранная притча проста. Ну, и принесла бы, как говаривали старики, в подоле младенца. И что бы было? Да, ничего! – Не хуже, чем получилось! Не реализованная возможность казнит (и всегда будет казнить) случившееся. А может быть, в том, не случившемся, как раз и был выход?.. И не было бы этого отчаянного шага с подоконника четвертого этажа… Не было бы и пятилетних (одних операций – девять!) страданий Аси.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































