Текст книги "Исповедь"
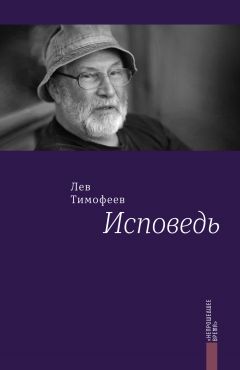
Автор книги: Лев Тимофеев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
3. Мой партбилет
Мне только однажды посчастливилось быть автором «Нового мира» при Твардовском. Году, кажется, в шестьдесят седьмом или восьмом там был напечатан мой очерк или, вернее, рассказ, стилизованный под очерк, озаглавленный «В селе Благодатном».
Этот жанр – беллетризованного физиологического очерка, традиционный для русской литературы, в ту пору переживал свое возрождение. Забытый было со времен Глеба Успенского, он вновь вошел в употребление в шестидесятые годы и оказался весьма удобен. Как ни странно, в условиях жесткой и жестокой цензуры в очерке иногда удавалось сказать больше, чем в художественном произведении. Трудно объяснить, почему так случалось. Если беллетрист хоть чуть выказывал критический настрой по отношению к существовавшим порядкам, бдительные цензоры (а за их спинами соответствующее управление КГБ) видели, вероятно, в его рассказах или повестях опасное разрушительное обобщение. А вот скромный очерк, казалось бы, на широкие обобщения не претендовал, и для его оценки могла быть использована приемлемая для цензуры формула «встречаются у нас еще порой кое-где…»
Скорее всего это была такая игра: все, включая цензоров, как бы договаривались считать обобщающий вымысел автора беллетризованного очерка всего лишь неким частным случаем, что и определяло более снисходительное отношение.
Впрочем, любая толерантность властей – хоть к сюжетному художественному вымыслу, хоть к очерковой прозе – имела свои границы, переступать которые что автору, что редактору было опасно: могли последовать и административные репрессии, и даже уголовное преследование. (Как это в конце концов и произошло и с «командой» Твардовского, и с некоторыми его авторами.)
В те времена, при невозможности какой бы то ни было политической оппозиции, «Новый мир», его редакция, авторы (вы легко вспомните эти великие имена) и симпатизирующие журналу читатели понимали себя оппозиционным сообществом или даже некоей культурно-критической партией. Впрочем, так же их понимали и идейные противники.
Понятно, что и «Один день Ивана Денисовича», и другие опубликованные тогда произведения А. И. Солженицына не могли появиться нигде, кроме как в «Новом мире». С другой стороны, сам факт какой бы то ни было публикации в «Новом мире» означал, что автор принадлежит к той же партии, что и Солженицын с Твардовским.
Теперь уж трудно вспомнить наверняка, но возможно, эти соображения и подтолкнули меня принести свой очерк именно сюда (да и вряд ли где еще его опубликовали бы). Полагаю, что в ту пору для меня важным было и то, что членом редколлегии, курировавшим отдел публицистики, был великий мастер беллетризованного очерка Ефим Дорош. Его очерки об обыденной жизни людей в некоем обобщенном райгороде были исполнены искренней любви и печали.
До простой и великой истины, что нужно «жить не по лжи», тогда еще мало кто дорос (солженицынский призыв прозвучал несколько позже), и мерой литературной правды было представление об искренности, впрочем, впервые сформулированное в оттепельную пору также на страницах «Нового мира».
Очерк, который я принес в редакцию, был о запрете, а значит, и об отсутствии какой бы то ни было предпринимательской инициативы на селе и изначально озаглавлен был пушкинской строкой: «Зима. Что делать нам в деревне?..» Но когда я пришел читать уже набранный текст (ныне забытое слово «гранки»), то увидел, что редакция сменила заголовок. «В наше время заголовок не может содержать слово зима: цензор воспринимает это как определение политической ситуации», – объяснила мне милейшая женщина (имя-отчество запамятовал, прошу извинить) по фамилии Лерер, бывшая тогда заведующей отделом публицистики и очерка. Я был счастлив уже самим фактом, что мой текст приняли в «Новом мире», и спорить не стал.
Очерк был опубликован. Как в те времена было принято, мне выдали его отдельный оттиск – в нескольких экземплярах, причем каждый был аккуратно заделан в голубую новомировскую обложку, – такой своеобразный партийный билет размером А4. Один экземпляр до сих пор где-то лежит среди неразобранных бумаг тех лет. И я до сих пор считаю себя рядовым членом партии, к которой тогда принадлежали А. Твардовский, А. Солженицын. Е. Дорош и многие другие. Если бы кому-то пришла в голову мысль официально зарегистрировать эту партию, то, думаю, было бы уместно назваться ей солженицынским призывом: партия «Жить не по лжи!». Эта партия и сегодня, слава богу, жива, и вы, конечно же, сможете назвать сами многих, кто в нее входит и поддерживает ее идеи. И тех, кто еще недавно входил в нее, но кого уже нет с нами – умерли или погибли, были убиты…
В следующий раз я был автором «Нового мира» через двадцать с лишним лет. Но это были уже совсем другие времена: то, что я там опубликовал, могло появиться в любом другом журнале, и вообще любая публикация стала делом совершенно обыденным – особо и рассказывать не о чем.
4. «Не в кассу…»
Итак, я жил тогда в Рязани… Бездельничал (получал армейскую пенсию, уволившись по здоровью) и пописывал фрилансером в местную комсомольскую газетку. Не знаю, о чем будет этот мой рассказ… Может, о поэзии, или о России, или, скорее, так, ни о чем. А вспомнилась мне эта история год назад потому, что в 1962 году, когда происходило дело, июнь был такой же холодный и дождливый, как прошлогодний (ну или близко к тому).
Конечно, мало кому нравится, но все же есть, есть люди, которые такую погоду любят. А некоторые даже готовы этой своей любовью поделиться с другими – в стихах. И вот именно такие стихи и были напечатаны в одном из июньских номеров газеты «Рязанский комсомолец» пятьдесят семь лет назад… и какого же наделали шуму! (Сожалею, фамилию автора я не удержал в памяти, впрочем, право, стихи того и не заслуживают.)
Итак…
Закройся, солнце, тучами от взоров
И в одиночестве костер дожги.
Я этим летом полюбил дожди
За их художнический норов.
И брежу вольной их судьбой,
Когда они возводят травы
Или смывают переправы
Над обезумевшей рекой…
Стихи как стихи, довольно посредственные. Так, молодежная самодеятельность. Ладно. Вышла газета, автор пришел в редакцию с бутылкой, но разлили не сразу, решили дождаться обеда. И тут же звонок из обкома комсомола: главного редактора к Первому на ковер – какие такие стихи в газете напечатаны?! (А туда, оказывается, уже звонили и «с третьего этажа», т. е. из обкома партии, и еще откуда-то, и еще…)
Главный редактор был где-то в отъезде, и замещал его мой друг, добрейший выпивоха Лева Филимонов. (Он и стихам добро дал, очень ему понравилось, что дожди «смывают переправы над обезумевшей рекой»: «Прямо “Медный всадник” какой-то!») И побрел Лева в соседний подъезд, к комсомольскому начальству (хорошо, с бутылкой повременили).
Возвращается бледный, лица на нем нет. Говорит, заходит в кабинет, а там их трое: и сам главный комсомолец, и тот, что «с третьего этажа» по идеологии, и человек в сером костюме – из КГБ. «На меня так орали, что я в окно видел: люди на другой стороне улицы головы поднимали, пытались понять, откуда крики». «Что орали-то?» – «Не помню… Отключился».
Впрочем, тут же вспомнил: орал только Первый. Идеолог «с третьего этажа» сурово поддакивал. А человек в сером вообще молчал, но в конце концов негромко, но внятно произнес только одно слово: диверсия! И тихо стукнул кулаком по столу. И все замолчали, и всё стихло. И все трое молча уставились на бедного Леву…
Нет, вам сегодня непонятно. А дело-то все в том, что той весной по всей Рязанской области богатейшие заливные луга, столетия снабжавшие первоклассным сеном крестьянскую скотину, были, по велению московского Самого, все до единого распаханы и засеяны кукурузой. А какая тут кукуруза, да еще в такую погоду? И сена нет. Предстоял голодный год – и скотине, и людям.
Ясное дело, Леву Филимонова, объявив ему выговор по партийной линии, понизили до литсотрудника. Главному редактору молодежки (кажется, его фамилия была Кожемяко и он потом сделал карьеру в центральной газете «Правда») пришлось оправдываться, что он и сделал, поместив на первой полосе своей газеты гневную статью, где трактовал в пользу партийности литературы и, цитируя злосчастные стихи, размазывал автора за безыдейщину.
Бутылку ту мы все же открыли, но не за обедом, а дождавшись конца рабочего дня, – тут же в опустевшей редакции. И еще за одной сбегали: «За кукугузу, будь она неладна», – чокаясь редакционными стаканами, каждый раз громко произносил Лева.
Ну вот о чем эта история? О том, что в России диверсией всегда называют не преступления московского Самого, но напоминание об их последствиях (пусть даже косвенное)?
Или история действительно об ответственности художника («с кем вы, мастера культуры»)? Дожди-то все же во вред были.
Или о том, что я вот так вот всю жизнь и во всем попадаю «не в кассу»: в любом климате и при любой погоде. Стихи-то, чего уж там, конечно, мои были.
5. Об охоте
В молодости я любил и рыбалку, и охоту. Подолгу жил в деревне, в далеком Шацком районе Рязанской области, где и рыбы, и дичи было полно и каждый молодой мужик был и рыбак, и охотник. Не знаю, как там теперь, впрочем, не стану привирать и широко руки расставлять, но скажу, что и недавно еще, лет 15 назад, хорошую щучку на пару килограммов я в тех местах вытаскивал на спиннинг…
Нет, теперь-то мне уж не до рыбалки. А вот охотиться я и вовсе перестал давным-давно, еще в конце шестидесятых. И мало сказать, перестал: в один прекрасный день случилось нечто, после чего я решительно и резко оставил это занятие навсегда и никогда после уже не сделал ни одного выстрела из своей замечательной хорошо пристрелянной «тулки», которая с 40 метров запросто снимала глухаря с верхушки ели. Ружье было простое, серийное, совсем недорогое, с легкой доплатой куплено на гонорар за большой сельский очерк в «Новом мире» (тогда еще журнал Твардовского – Дороша). Покупка, казалось, была вполне в стилистике жизни писателя-деревенщика, к которой я, тогда молодой литератор, примерялся.
А вот продал то ружье в середине восьмидесятых и за хорошие деньги (у ружья была прекрасная репутация в округе) уже не я, но мой друг Николай Панин, директор тамошней школы. Продал после того, как стало ясно, что я не только охотиться не приеду, а и вообще долго в деревне не появлюсь: предстояли шесть лет лагерей плюс пять ссылки. Спасибо продал и деньги отвез моей жене, что было очень-очень кстати.
Но все это происходило уже потом, а прежде, в шестидесятых, охота была моим и моих сельских друзей постоянным, круглогодичным увлечением. Зимой – на зайца и лисицу: зайцы шли в тот же день под водку, а лисьи шапка и воротник уже и в недавнее время возникали где-то при семейных перетрясках старой рухляди. Пару раз кто-то из друзей получал зимой лицензию на отстрел лося, но, слава тебе господи, обе попытки оказались неудачны: собаки брали след, и мы видели следы копыт, но на самих лосей так и не вышли… В конце зимы – токовища: бывало, укрытия строили, но тоже: глухарь или тетерев редкая добыча. Весной, понятно, разнообразная утиная охота, токующий вальдшнеп. В конце августа – снова утки.
В сентябре-октябре у моих друзей бывало межсезонье. Но не у меня. У меня в это время наступал сезон охоты на диких голубей-горлинок. Надо сказать, что голубиная охота – занятие, почти полностью лишенное спортивного азарта. Это, можно сказать, просто добыча некоторого продовольствия. Серые горлинки по осени летают большими стаями, пасутся на опустевших хлебных полях, налетают и прямо-таки накрывают громадной серой стаей колхозный ток, долгими рядками рассаживаются на проводах вдоль дороги. Если удачно подошел, стреляешь, почти не целясь, и с большой вероятностью каждый выстрел оказывается добычливым.
Нюра Маслова, повар в школьной столовой, замечательно приготавливала дичь, и мне, лейтенанту-отставнику, жившему в то время на совсем небольшую армейско-инвалидную пенсию, это было очень кстати.
Так продолжалось до тех пор, пока не оказалось, что мне уж и вовсе не надо далеко ходить за голубями. На задах дома, где я жил и сочинял свои не помню уж какие тексты, на огородах, на беспризорном участке, каких в деревне было немало, кто-то посеял коноплю. Возможно, кто-то из приезжих городских – такое здесь бывало: весной приехал на день – посеял, ближе к осени снова на день приехал – убрал. Кто в этот раз был хозяин посева, не знаю: посеять-то посеял, а убирать так и не появился. Стебли поникли, конопля то ли уже осыпалась, то ли начала осыпаться, и это стало привлекать большую серую стаю голубей. Ну куда еще ходить на охоту!
Я как-то не сразу собрался, но вот однажды утром вышел из дома, сделал полсотни шагов, из-за куста сразу увидел огромную, плотную голубиную стаю, живым серым ковром покрывавшую конопляную делянку, тихонько поднял ружье и выстрелил, как обычно, не целясь.
Тут же, закрывая солнце, плотная серая голубиная туча с шумом поднялась и подалась в сторону леса. Серая стая улетела… а на земле передо мной бился и вскоре затих большой ослепительно белый, именно что ослепительной чистоты, белый-белый голубь… Моя добыча.
Вот и всё. Я не помню, как я поступил с этой дичью. Не могу сказать, что, мол, тогда испытал или теперь испытываю какие-то сильные чувства или тем более какие-то мистические озарения. Нет, ничего такого не было и нет. Мало ли – белый голубь в стае серых птиц… Но вот с тех пор я не сделал ни одного выстрела. Не знаю. Просто не хочется.
III. Глазами ребенка
Воспоминания Сони Тимофеевой
Моя книга-исповедь по жанру своему – «рэгтайм», рваная хроника значительной части моей жизни. А моя жизнь – это и жизнь моих близких, моей семьи. Поэтому я посчитал вполне уместным разместить здесь воспоминания старшей дочери Софьи (с ее разрешения, разумеется). Воспоминания были опубликованы в Живом Журнале[7]7
https://nenyk.livejournal.com/123303.html
[Закрыть], здесь же, на мой взгляд, они очень удачно связывают предыдущие разделы книги с последующими.
Когда в марте 1985 года арестовали папу, мне было 11 с половиной лет. Я мало помню цельных событий того времени, все больше обрывками, но довольно хорошо помню свои эмоции.
К тому моменту я училась в пятом классе. Год перед этим, в четвертом, я проболела почти весь – держалась непонятная температура, поднимавшаяся в середине дня. Училась я во вторую смену, поэтому в обычную школу мама меня не пускала, а в художественную с утра я ходила. Но к концу зимы меня вылечил известный тогда в Москве иглотерапевт Дима (упокой его, Господи; фамилию его мы никогда и не знали, да и ни к чему было) – и в третью четверть я пошла в школу. В классе меня забыли, а друзей у меня не было, поэтому в школе поначалу было очень неуютно.
Родители позволяли мне быть самостоятельной во многом, как казалось. С четвертого класса я сама ездила в художку (автобус, метро с пересадкой, троллейбус) и возвращалась сама (нужно было только позвонить из метро, что я приехала на «Юго-Западную» и иду на автобус). Ходила в магазин – и в ближайший, и в дальние, через микрорайон. Гуляла одна и с подружками, и в наш лес мы ходили без взрослых. И на приемы к Диме ездила сама. В остальном же родительское отношение было обыкновенным – понукать, чтобы рисовала для художки, чтобы убиралась в комнате, посуду там помыть, с Катькой посидеть или погулять. Мне кажется, что у меня не было с родителями особо доверительных отношений. Не помню, например, чтобы я обсуждала с ними, что мне неуютно в школе, но хорошо в художке. Я вообще не помню, чтобы я много говорила о чем-то. Я много читала, очень много. Но совершенно не помню, чтобы прочитанное обсуждалось.
Мы, конечно, не были обыкновенной советской семьей. Ни папа, ни мама к тому времени не ходили на работу – папа писал что-то дома, а зарабатывал репетиторством, а мама и вовсе не работала. Мы с сестрой были крещены и года за два до того летом ездили к отцу Георгию (Эдельштейну) на приход, в вологодскую деревню. И крестик я носила. Но все это никак явно не противоречило окружающей советской действительности.
Круг родительского общения был довольно невелик – и, как мне теперь кажется, входившие в него люди не имели привычки вести с детьми «взрослых» разговоров. Никто не объяснял мне, почему папа работает именно так. А может, я и не спрашивала – потому что не с чем было сравнивать. И не с кем. Мы жили в кооперативном доме, заселенном интеллигенцией – журналистами, преподавателями. Помнится, мамина безработность была как-то более тревожной. Наверное, вокруг не было неработавших мам. Откуда берутся деньги, я, наверное, тоже не знала. Но все это домыслы в конечном счете.
Но вот что точно – это что родители никогда «нами не сражались», не стремились противопоставлять нас существовавшим тогда порядкам. Несмотря на крещение, я была в третьем классе, как все, принята в пионеры – даже в первых рядах, как почти отличница. И учила клятву. И повязывала каждый день галстук. А как это согласовывалось с выученной молитвой «Отче наш» или со службами у отца Георгия… Не знаю. Но переодеваясь на физкультуру, я старалась, чтобы крестик не заметили. А впрочем, никого это особо не интересовало.
Но незадолго до папиного ареста мне впервые было сказано: «Не надо об этом говорить. Никому!» Мама сказала. Никому не надо было говорить об аресте Юлика – старшего сына отца Георгия. Юлик был иудеем («верующим евреем») и учил других языку иврит. И за это его арестовали.
Боюсь, в голове моей тогда была полная каша. Мало того что я – начитанная, образованная в христианской истории девочка – не могла понять, как сын священника – христианин! – стал иудеем. Мало того, что у нас часто гостила Юлька – падчерица Юлика, дочь его жены Тани (родители оставляли ее у нас, уходя на занятия, проходившие на квартире где-то недалеко). Загадочные отношения («он не мой папа!» – сказала мне Юлька, когда я впервые попыталась понять, кем она кому приходится) и сказочное слово «падчерица» – ничего этого в моем мире до того не встречалось. Мало этого – так теперь еще был какой-то арест. И тюрьма, наверное. И никому нельзя было говорить.
Я, конечно, не выдержала. И рассказала об этом лучшей подруге. Было у нас такое место – недалеко от автобусной остановки, но в стороне от всех людских тропинок лежала бетонная плита с люком теплоцентрали. Она была сдвинута немного, так что открывался спуск вниз, к шумящей горячей воде. Мы часто возле нее играли. И там-то я и рассказала. Про арест Юлькиного не-папы. Про эту неведомую, но злобную силу, которая не хотела, чтобы изучали иврит. Не помню, какими словами я это говорила. Но помню свою убежденность и недоверчивое сердитое молчание подруги… Кстати, не уверена, что тогда вообще шла речь об иврите как о конкретной причине ареста. Как в маминых объяснениях, так и в моих.
Нет, я много чего знала. Точнее, в моей голове было много информации. Но в знание я превращала ее сама, в меру собственных сил. Несколько лет подряд мы летом ездили в Рязанскую область к родительским друзьям, сельским учителям. Ставили палатки на высоком берегу небольшого Багринского озера и жили так месяц. Готовили на костре, ходили за грибами. А вечерами, когда мы, дети, отправлялись спать, взрослые слушали радио. «Голос Америки», «Свобода», Би-би-си – мне были знакомы эти названия. И голоса, и фамилии ведущих. В рязанских лесах глушилки иногда не добивали, и было хорошо слышно.
Дома родители тоже слушали радио. Вечером, когда предполагалось, что я уже сплю. Помнится, родители ко мне даже заглядывали, чтобы убедиться – спит. Но я же много читала. Порой и с фонариком. И с включенной лампочкой над кроватью, которую надо было успеть погасить. И даже на полу под дверью, в полосе света из коридора.
Шипение радио было сигналом – можно читать. Но иногда сквозь глушилки пробивались ясные голоса. И так – может, мне приснилось это, а может, и правда – я однажды услышала под конец какого-то отрывка: «Мы читали главу из книги Льва Тимофеева…»
А еще – вспомнилось мне сейчас – были папины рукописи. Точнее, машинописи. В которые я тоже совала нос, совершенно точно совала… Но ничего из этого не обсуждалось. Ничего. Это были их, взрослые дела. О них нельзя было спрашивать – потому что спросить означало выдать себя, подслушивавшую и подсматривавшую. Никак нельзя.
Я читала очень много. Бианки, Андерсен, Линдгрен, Дюма, Вальтер Скотт. Пеппи, Муми-тролли, три мушкетера, король Матиуш. Много-много хороших книг. Они всегда были в доме. В библиотеку я записана не была – наверное, потому что у папы были эти возможности по доставанию хороших книг.
А еще были школьные книги по чтению. И в них были другие истории. Например, про войну. Катаев, например. Сын полка. И про пионеров-героев. Кажется, на принятие в пионеры, а может, еще на какой праздник мне в школе подарили набор из пяти, что ли, книжечек про пионеров-героев. Я перечитала их множество раз.
Когда в марте 1985 года папа вернулся из магазина в сопровождении непонятных людей, и была суета и толкотня, и мама почему-то сказала, что мне надо уйти гулять… или в школу сходить за заданием – не помню, но на ухо она шепнула: «Позвони бабушке».
Меня проводил на улицу один из пришедших людей. Я знала, что это враги. И смотрела на него, как должен смотреть на врага пионер-герой – сжавши губы и ненавидя изо всех сил. Он проводил меня из подъезда и, кажется, пошел к машине. Я пошла во двор, потом обернулась – не следит ли он за мной – и рванула двором к магазину, где были телефоны-автоматы.
Когда я возвращалась, гордая выполненным заданием, издали увидела, как выходит из подъезда папа, окруженный этими людьми, как они садятся в машину. И мне стало ужасно горько, что я с ним не попрощалась.
Обыск шел весь день. Почему-то мне кажется, что уже вечером, когда я сидела за уроками, ко мне подошел один из них. И негромко, с укором, спросил меня, звонила ли я бабушке. Я сказала, что нет, сжала губы и стала ненавидеть. Он что-то еще говорил, кажется, что, мол, я пионерка, а пионеры не врут. Что-то точно говорил. А я ненавидела.
Потом надолго наступила пустота. Я не помню той весны и того лета. Совсем.
Судя по папиному письму из лагеря, когда он еще был в тюрьме в Лефортово, передач было две. Я точно помню, что с одной передачей – видимо, еще до суда – я ехала в метро, а потом в троллейбусе от Красных Ворот, а потом еще шла пешком. Кто собирал передачу, что в ней было – не помню. Помню, что надо было заполнять какой-то сложный бланк, а в нем указывать в граммах вес продуктов, которые передавались. Помню комнату, в которой все это надо было делать, и маленькое окошко, куда надо было все передать.
Кажется, потом было свидание. То, которое после суда. Суд был в сентябре. Мама заболела, сошла с ума, наверное, сразу от самого папиного ареста. Я чуяла это и не доверяла ей.
На свидании мама была странно суха и не отвечала папе, как будто они поругались. Я это заметила. С папой я старалась говорить бодро, чтобы он увидел, что я все понимаю. Но он все старался добиться маминого внимания. А она на него совсем не смотрела. Папа сказал, что ему нужно на этап собрать передачу. И отдал маме список – положил на стол, присутствовавший надзиратель его прочел и отдал маме. А мама сунула в карман.
А может быть, дело было иначе… Может быть, первую передачу я тоже относила после свидания. Но собрана она была, наверное, моей крестной Анитой Иосифовной – мамой того самого Юлика – не по папиной записке, а по ее собственному уже полученному опыту собирания передач. Кажется мне, что матушка (как мы ее называли) пыталась добиться от замкнутой и закрытой наглухо мамы, просил ли папа что-то конкретно…
Не помню, почему я стала искать ту папину записку. Может быть, мамино молчание меня задело – я же видела список! Может быть, было сказано что-нибудь про этап. Или про суд. Маме я не верила уже совершенно. И я стала искать. И нашла. Тот самый сложенный листок. В котором были названы вещи, необходимые на этапе. Много всего. Очень много. И я совершенно не знала, где все это взять. И откуда-то я знала, что вот этот день, когда я все нашла, – он последний. Что я ничего не успею. И папе не помогу. Я была в отчаянии. И дико злилась на маму.
Мамы дома не было. Аниты тоже. Но нам помогали и другие люди. Кроме бабушки и Аниты помогали соседи по подъезду, с которыми родители общались. Но я всегда была стеснительна и скованна, обратиться к взрослому мне было очень трудно.
Не знаю, почему я пошла именно к этим соседям – может, других не было дома. Но я пошла. И рассказала все дяде Володе с третьего этажа[8]8
Нашим соседом, которого мы звали дядей Володей, был ученый, философ Владимир Вениаминович Бибихин (царствие ему небесное!).
[Закрыть]. И записку показала. И, видимо, сказала, что сегодня – последний день.
Дядя Володя сказал мне, что нужно собрать, что получится. Я рассердилась, но пошла. Помню, что я что-то искала дома и не находила – какие-то папины вещи. Одежду, кажется, надо было найти. Наверное, нижнее белье. Еще были какие-то требования к посуде – и наша никак не подходила. Помню свое раздражение.
Но все же я многое собрала. Наверное, дядя Володя тоже что-то собирал. Что-то он точно мне добавил. Миску стальную вроде… А потом мы сели в машину. И дядя Володя отвез меня к Лефортово. Мы приехали уже в темноте. Кажется, мы успели в последний момент – комната для передач закрывалась. И окошко уже было закрыто. Но дядя Володя постучал. И что-то сказал открывшему окошко человеку. А может, и я что-то сказала. И тот взял у меня передачу. Почему-то мне кажется, что он даже вышел к нам, в эту комнату. И взял передачу у меня из рук.
Из папиного письма из зоны от 21 декабря 1985 года: «Обе Сонькины передачи в Лефортово были хороши и очень кстати – мне было тепло на этапе, и я был сыт».
Мама сходила с ума все сильнее, но в больницу ее положили только в марте 1986 года. Она пролежала там два месяца, и я возила ей через полгорода термос с чаем и какие-то вкусности… Но это, как теперь говорят, уже совсем другая история.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































