Текст книги "Исповедь"
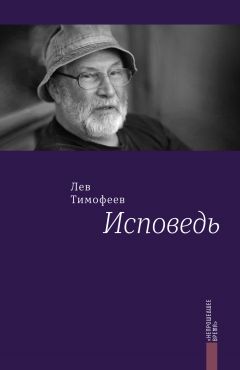
Автор книги: Лев Тимофеев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Во времена более поздние сам я в квартире Поляковых любил бывать и бывал много раз. Она совсем не выглядела похожей на привычное нашему глазу коммунальное или «малогабаритное» жилище. Нет, советские люди так не жили. Скорее, могло создаться впечатление, что в результате многих и разнообразных «уплотнений», отсечений, сжатий в эти комнаты сдвинулось и теперь вынуждено тесниться здесь то, что прежде было содержанием и иных времен, и иных, куда более широких пространств. Некая резервация прошлого. Во всем. А с первого взгляда – в мебели, несколько разностильной, но неизменно старинной, добротной, основательной… Кто что вспоминает в прожитой жизни, а я до сих пор вспоминаю мебель квартиры Поляковых. В столовой одну стену полностью занимал огромный, как я понимаю музейной ценности, буфет черного дерева, и по всему его телу в каких-то нишах была разбросана пестрая коллекция глиняной дымковской игрушки. Над большим круглым обеденным столом под потолком… не годится слово «висела», нет, основательно размещалась дворцовая «екатерининская» люстра – когда ее включали на полную мощность, сразу возникало ощущение праздника и казалось, звучит тихий хрустальный звон. В спальной необъятная кровать с бронзовыми львами по углам спинок. Здесь же в углу секретер с зеленым сукном откинутой столешницы и множеством ящиков и полочек – не за таким ли (не за этим ли самым?) работал еще и Карамзин или даже сам Александр Сергеич? В «гостином углу» (гостиной после «уплотнения» не было, только угол выгорожен в столовой), тоже небось музейный, диванчик-рекамье, кресла красного дерева с высокой охватывающей седока спинкой, ломберный столик (Берта всю жизнь была увлеченная картежница-преферансистка). На стене фото знаменитостей, побывавших в доме, – Михаила Зощенко, Лидии Сейфуллиной, еще и еще каких-то писателей, чьих имен я не запомнил, – все с комплиментарными дарственными надписями хозяйке дома. Тишина, покой, добропорядочность. Случайному посетителю могло показаться, что время здесь остановилось, сжалось до размеров квартирного пространства, окуклилось… что, впрочем, совершенно не соответствовало действительности. Моя мама, например, когда до войны жила в Питере, редко бывала у Берты. «Сам адрес уже такой: кто шел мимо по Невскому, обязательно заходил. Там всегда было полно незнакомых, многолюдно и шумно. Не люблю», – вспоминала она позже.
Я же если не с первых дней жизни, то уж точно с первых шагов по земле охотно бывал в этой квартире… Еще до войны на многолюдных детских праздниках, когда во весь длинный коридор выстраивалась очередь из нарядно одетых маленьких мальчиков и девочек – в ванную мыть руки, перед тем как сесть вокруг огромного круглого стола, посреди которого уже стоял большой-большой торт, ярко освещенный той самой праздничной люстрой… И через годы уже старшеклассником не раз приезжал из Москвы – и во время каникул, и даже на один-два дня в выходные. И в один из таких приездов взрослая Бертина дочь Лина положила передо мной какую-то ординарную советскую поэтическую антологию, открыла заложенную страницу, и я прочитал: «Поля и даль распластывались эллипсом.// Шелка зонтов дышали жаждой грома…» и дальше, и дальше… и с тех пор и по сей день жизнь моя продолжается в мире, который открылся мне вместе с этой страницей… И студентом приезжал много-много раз. И с моим кузеном (тезкой и почти ровесником), и с нашими друзьями и подругами, молодыми литераторами и художниками, мы, видимо, так же богемно проводили время, как, должно быть, в этом доме было принято и за тридцать лет до нас…
Берта Ионина-Полякова была личностью незаурядной. Ее жизнь, ее художественный талант, ее предпринимательские начинания (в советское-то время!), ее любовные истории заслуживают отдельного подробного и пространного повествования, но я даже начинать боюсь: слово за слово уйдешь так далеко в сторону, что потом и вернуться не сумеешь.
В последний раз я пришел на Невский, 76 в тот свой приезд в начале восьмидесятых, когда и Наума навестил. Берта в дальней комнате второй год лежала парализованная – на той самой кровати с бронзовыми львами. Сын Лева давно был в эмиграции. Дочь Лина, которая ухаживала за матерью, и сама была больна: ей казалось, что ее преследует КГБ – «подслушивают и облучают». И поэтому щели и трещины на стенах, углы и бордюры на потолке, соединения труб отопления и даже местами пол – всё было залеплено разноцветным детским пластилином – по всей квартире.
Мы были там вместе с Наумом. Сидели в «гостином углу». Лина подала чай. Наум что-то рассказывал о Зощенко, я снял со стены портрет писателя, чтобы лучше разглядеть. Стена под портретом была залеплена зеленым пластилином. Лина молча взяла фото у меня из рук и повесила на место. Она была явно напряжена, и мы пробыли недолго. Решили пройтись немного пешком. Долго шли молча. «А знаешь, я виноват перед Зощенко, – сказал вдруг Наум. – В сорок седьмом я встретил его вот на этом самом месте, где мы с тобой идем. Тогда все делали вид, что с ним не знакомы: ждановщина. Увидят его издалека и переходят на другую сторону улицы. Вот здесь вот, через широкий проспект, демонстративно. Я тоже увидел его издалека… А мы были знакомы, он прежде бывал у Берты… но не виделись много лет. Я перешел на его сторону. Встретились, поздоровались. Я спросил, как он себя чувствует и чем я могу быть ему полезен. Даже прямо спросил, не позволит ли он мне дать ему немного денег (а я тогда как раз был при хо-оро-оших деньгах). “О, – вдруг сказал он, – Наум Борисович, купите у меня часы. Вот. Золотые”. Я растерялся: “Нет, ну зачем мне часы… я так”. “А так – нет, не надо, спасибо”. И мы разошлись… И только через несколько дней я ударил себя по лбу: дур-р-рак, дурак! Но что поделаешь, не идти же было к нему домой покупать часы».
«Золотуха», «ежовщина», «ждановщина», «сталинщина», думал я, идя рядом с Наумом. Судьба поколения. А ведь можно было и домой сходить… Но этого я ему не сказал.
Через месяц Лина позвонила в Москву сказать, что Берта умерла.
10
Отец был человеком творческим – строитель, созидатель, беспокойный улучшатель. В его бумагах в одной из характеристик я прочитал: «В 1941 году Ионин М. Б. сумел в тяжелых блокадных условиях в Ленинграде переоборудовать большое количество транспорта с бензина на твердое топливо и тем самым бесперебойно обслуживать завод № 7 без наличия на заводе бензина».
В Москве на своей автобазе он много построил. Не по характеру ему было пригнать трофейные автомобили и просто использовать, как они есть. Поэтому плюс к обычным автомастерским и «малярке» сразу после войны заработал уникальный по тем временам гальванический цех – и трофейные б/у автомобили засверкали заново хромированными бамперами, молдингами и др. И сам он живо радовался своим созидательным удачам и привозил меня, школьника, – посмотреть и порадоваться вместе с ним.
Когда в конце пятидесятых ему пришлось попрощаться с автобазой и по воле начальства он занялся в одном из закрытых (причастных к космическим проектам) КБ строительством жилья для сотрудников, он и этой работой увлекся от души. Часть квартала на левом берегу Яузы, чуть выше Преображенского моста – это под его руководством построено в шестидесятые годы. И несколько раз, когда я, уже вполне взрослый, ненадолго возвращался домой из своих странствий, он звал меня: «Поедем посмотрим, еще один дом поставили – красавец!» Но мне все было некогда.
Он и на свое жилище всегда смотрел глазами созидателя и улучшателя. Через несколько лет жизни в «министерских хоромах» на ул. Герцена нашего соседа (его звали Руднев Константин Николаевич) уже и самого назначили министром чего-то там важного, и они куда-то переехали. А в освободившиеся комнаты теперь могли вселить две или даже три семьи, и мы вот-вот оказались бы в многонаселенной, возможно, шумной коммуналке… И тут мой предприимчивый отец совершил исторический подвиг (возвышенный пафос уместен: таков реальный масштаб деяния). Не знаю, как ему это удалось (и сколько денег стоило), но, во-первых, он притормозил вселение новых соседей и, во-вторых, в течение буквально двух-трех недель во всех многочисленных и многоступенчатых московских инстанциях и службах (тут надо поставить три восклицательных знака – во всех!!!) получил соответствующие подписи и разрешения… и перепланировал и перестроил квартиру, разделив ее на две отдельные.
Нет, я не умею найти нужных слов: все это совершилось как одно единое действие, задуманное, подготовленное и выполненное в кратчайший срок целенаправленно и молниеносно. «Как выпад на рапире», сказал бы поэт. Ладно там подписи и разрешения – бумажки. Но ведь страшно подумать о том, что задумывалось и что произошло: центр Москвы, большой старинный жилой, живой дом, десятки жильцов, ни о чем не подозревающих, уходят, приходят, живут себе… и над ними в стенах четвертого этажа полная внутренняя перестройка: перемещаются стены, возникают новые комнаты и коридоры, строятся новые санузлы и кухни. Даже крыша в течение нескольких дней оставалась раскрытой. А если бы дожди – а внизу три этажа – квартиры, люди, мебель, вещи? Отец потом говорил, что в какой-то вечер, подняв глаза и увидев над собой звездное небо вместо крыши, он зажмурился от ужаса, вдруг осознав, что затеял… но отступать было некуда.
В конце концов все обошлось. Перепланировка с перестройкой благополучно состоялась, и мы снова стали жить в замечательной, теперь уже отдельной квартире. И тоже у нас было две комнаты: 20 метров – моя, и 40, альковом поделенная надвое, – родительская. Как я уже сказал, дом старый, еще дореволюционный, если вообще не XIX века, потолки высотой под пять метров, хоть жилую антресоль сооружай. И летними ночами кремлевские куранты отсчитывали нам четверти в открытые окна…
Мало о чем я жалею в былой жизни, а вот ностальгическая память о той квартире, о моей комнате, в которой я прожил все студенческие годы… и кто только не побывал у меня в той комнате, и сколько говорено, читано вслух, выпито, целовано… где они все? – память об этих годах нет-нет да тревожит душу, и кажется, что я и теперь был бы не прочь оказаться в той квартире и остаться жить. Но кто ж пустит…
Отец же, перестроив этаж (кстати, еще до того, как сделался строителем по должности), на этом не успокоился. Месяца два или три у нас в квартире работал некий местный микеланджело и по каким-то специальным, чуть ли не архивным дворцовым каталогам расписывал (надо сказать, отлично расписал) стены и потолки в столовой и спальне, а потолки там были, напомню, под пять метров высотой. Вряд ли отец при этом забывал о судьбе нашего предшественника в пироговской «бонбоньерке». Нет, конечно. Но, похоже, при обустройстве квартиры ни о будущем, ни о прошлом он особо не думал. Так увлеченного художника в момент творчества не заботит собственная судьба, а только общая гармония шедевра, который создается им здесь и сейчас.
Но вскоре после того, как были окончательно обустроены «хоромы» на Герцена, случился инфаркт. Подниматься на высокий четвертый этаж без лифта отцу стало и трудно, и опасно. В «почтовом ящике», где он работал, его ценили и берегли: взамен «хором» дали нашей семье замечательную трехкомнатную квартиру в новом доме (отец и построил) на Сокольнической слободке… Но нет, и здесь покой и гармония не состоялись. Прошло несколько лет, я привел в дом молодую жену, конфликт поколений оказался слишком острым, и отец великодушно отселил нас в однокомнатную квартиру, а они с мамой переехали неподалеку в двушку, о которой я уже вспоминал.
11
Насколько я могу судить, круг знакомых моего отца в Москве был не весьма широк. О министерском начальстве и сослуживцах я говорить не буду: хотя их фамилии я время от времени слышал дома и некоторые даже теперь хорошо помню (например, «управделами Загорулько»). Воочию я этих людей никогда не видел и, по сути, ничего не знаю ни про них, ни вообще о служебных буднях отца. Да, он иногда привозил меня на автобазу в Марьину Рощу, но там у меня был свой интерес: пишущая машинка в комнатке перед его кабинетом – огромный старый Underwood, дедушка Underwood с развернутой кареткой (тоже трофейный?). Молодая секретарша Тамара заправляла под валик чистый лист бумаги (во второй приезд я уже сам умел), уступала мне место, и все время, пока отец занимался своими делами, я печатал: одним пальцем сильно и быстро нажимал на какую-нибудь клавишу, и в ответ из «кассы» маленьких свинцовых букв словно нехотя поднималась одна, ударяла по черной ленте и тут же обессиленно падала обратно в «кассу», и так буква за буквой на бумаге возникало слово (вам знакома эта магия?). Что еще в моей жизни было связано с работой отца, с министерством?.. Да, пару раз меня привозили на детские «ёлочки» в главное здание на улице Горького, и на одном таком утреннике я был совершенно потрясен: музыкальный клоун скрипичным смычком играл на обыкновенной пиле – вот ведь как можно, оказывается!.. впрочем, больше я ничего не помню… Да, я в какие-то годы проводил часть лета в пионерском лагере министерства в Поречье под Звенигородом (о, про ту жизнь я много чего могу рассказывать, но, боюсь, будет не по теме). И хотя старшей пионервожатой в лагере была все та же Тамара, папина секретарша, к нему самому этот лагерь в моем сознании не имел никакого отношения. Словом, ни министерский пионерлагерь, ни утренники в министерстве, ни даже сама министерская автобаза, где он был начальником, ни уж тем более само министерство, это огромное и угрюмое серое здание на улице Горького (кажется, оно облицовано гранитом?) – все это в моем детском сознании никак не хотело (да признаться, и теперь не хочет) связываться с личностью и жизнью отца.
А вот совсем иначе в моем детском восприятии с жизнью отца соотносился, например, футболист «Спартака» Толя Сеглин… Кстати, если уж о нем заговорили. Историки спорта до сих пор вспоминают Сеглина как самого грубого защитника российского футбола всех времен. И в открывшемся сразу после войны чемпионате по хоккею с шайбой он тоже охулки на руки не клал: недавно мне попалось интервью (он умер глубоким стариком в начале двухтысячных), где он вспоминает, как «принял на плечо» своего друга Севу Боброва и в той же игре через пару минут получил от него клюшкой в лицо, и «шесть зубов разом вылетело». Понятно, что он, Сеглин, не забыл этот случай до старости… но ведь и я ту игру, ту стычку живо помню, словно сейчас перед глазами: и тяжело дышащий Бобров, и окровавленный Сеглин… Все и происходило у меня на глазах, в нескольких метрах от меня.
Отец ходил на все игры «Спартака». В первые сезоны (начиная с зимы 1946/47 г.) хоккейную «коробку» ставили на «Динамо» перед восточной трибуной. Война закончилась, народу нужны были зрелища. В любую погоду, в любой мороз зрители плотно заполняли огромную трибуну. Десять тысяч лиц, десять тысяч темных фигур выглядели со стороны как единый темный организм: он одновременно курил тысячи папирос и сигарет и то вздыхал единым общим вздохом, то свистел единым общим свистом, то взрывался единым общим воплем восторга. На эту темную массу я смотрел со стороны: по другую сторону хоккейной «коробки» была сколочена небольшая временная трибуна – человек, наверное, на сто – «для своих». На эту трибуну мы с отцом всегда и приходили. Толя Сеглин нам это «устраивал», отец для него был «свой».
Я не могу сказать, что Сеглин был другом отца – нет, то были совсем другие отношения. За победу в Кубке страны в 1946 году всем футболистам «Спартака» подарили по автомобилю – только-только запущенные в массовое производство на вывезенном из Германии заводе малолитражные «Москвичи» (Opel Kadett K38)… И вот два человека нашли друг друга: с одной стороны мой отец, директор автобазы, страстный любитель футбола и хоккея, преданный болельщик «Спартака», и с другой – ключевой игрок того самого «Спартака» Анатолий Сеглин, чей автомобиль нуждался в техобслуживании, а часто и в ремонте. Их взаимоотношения (назову их уважительными) продолжались несколько лет. Толя Сеглин, кстати сказать, вне игры был славный добрый мужик, и с тем же Бобровым они дружили всю жизнь. А мне, когда я чуть подрос, Толя подарил настоящие «канады», на каких и сам играл. Думаю, на катке стадиона «Красная роза», что был на Девичьем поле напротив клуба завода «Каучук», кроме меня, мало кто (если вообще кто-то еще) на таких катался.
Хоккей хоккеем, но по своей популярности в те годы ничто не могло сравниться с футболом. Если бы велся подсчет, чье имя чаще других повторяется в устной речи, первое место, думаю, занял бы не Сталин, а футбольный вратарь Хомич. Не знаю, что творилось в метро в сторону стадиона «Динамо» в дни важных матчей, но улицы, ведущие к стадиону, все были плотно забиты, и потоки машин то двигались с черепашьей скоростью, то вообще надолго останавливались (напомню: «Лужники» построили лишь в середине 1950-х).
Отец тогда ездил на довольно большом «мерседесе» (Mercedes-Benz 230 W143c) – на таком точно (или на том же?) мы позже увидели Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»[5]5
Спасибо коллеге Ивану Баранцеву, который по старой фотографии точно определил марку автомобиля, да и вообще был мне доброжелательным консультантом по некоторым другим автомобильным вопросам.
[Закрыть]. Думаю, такой автомобиль отец выбрал (а он мог выбирать), чтобы побольше народу поместилось. И действительно, в дни «большого футбола» сзади, бывало, втискивались и четверо, и пятеро, и мне иногда приходилось ехать у кого-нибудь на коленях. Матч от матча состав пассажиров менялся: то брат Веня, живший в Москве, или кто-то еще из родственников, то кто-то из сослуживцев, а то и вовсе люди, объяснить появление которых в жизни отца я не умею… например, разбитной киевлянин Леня Гофман, пилот личного транспортного самолета Никиты Хрущева. Какое-то время Леня часто бывал у нас на Пироговке и однажды при каком-то техническом полете вокруг Москвы даже взял меня прокатиться на своем «дугласе» (мне было лет 10–11). (Вскоре Леню арестовали, но ненадолго. Выйдя, он рассказывал отцу, что его сутками заставляли стоять, не давали сесть: ноги так отекали, что сапоги лопались. Требовали компромат на Хрущева (Берия «копал»?). Леня всё выдержал, и его отпустили.)
Но при всем пестром разнообразии футбольных пассажиров двое в машине присутствовали обязательно: главный администратор Большого театра Жорж Новицкий (надеюсь, память правильно удержала фамилию) и сослуживец отца Л. Г. (единственный из министерских работников, кого я в течение многих лет часто видел и потому хорошо запомнил; почему я обозначил его инициалами, вскоре объясню).
В погожий летний день на футбол выезжала «вся Москва», и матч становился еще и неким «светским» мероприятием. В перерыве у нас с отцом было заведено идти пить томатный сок – он тогда только-только вошел в моду («непременно с перцем и солью: Микоян привез рецепт из Америки, там все так пьют»), и отец по пути приветствовал знакомых. К киоску с разноцветными воронкообразными колбами стояла очередь, и мы иногда опаздывали на второй тайм, но это ничего: ритуал есть ритуал и, не попив томатного сока, мы на трибуну не возвращались.
Почему у отца в машине каждый раз оказывался администратор Большого театра, я понятия не имею. Думаю, мы заезжали за ним по просьбе Л. Г., у которого был неохватный круг подобных знакомств (или, правильнее сказать, деловых связей). Так или иначе, но благодаря футболу и присутствию в «мерседесе» этого доброго человека я еще мальчиком увидел на сцене Большого и на всю жизнь запомнил Лепешинскую и Семенову, Мессерера и Чабукиани, услышал Лемешева, Лисициана, Ивана Петрова.
С Л. Г. отец приятельствовал долгие годы. У того была какая-то официальная должность в Управлении делами министерства, но все это пустяки, потому что его реальная деятельность, ее важность для нормальной жизни и работы всего Министерства вооружений СССР никакими должностями и регламентами не определялись. Л. Г., как я понимаю, был великий «блатмейстер». (У этого слова в русском языке отрицательный семантический ореол, и, хотя, на мой взгляд, это совершенно несправедливо, боюсь, как бы потомки достойного человека не обиделись, и потому обозначаю его инициалами.)
Некий мудрый американец, побывав в Советском Союзе, изрек: «Их система как-то работает только потому, что они не поставили под контроль всё»[6]6
Цитирую по заметке Анатолия Стреляного в Фейсбуке от 25 мая 2020 года.
[Закрыть]. Действительно, если бы не блат, если бы не практика «ты мне – я тебе», «по знакомству», бартерный обмен товаров, услуг, возможностей – если бы не эта экономика физических лиц и рыночная смазка, то «плановую» советскую экономику намертво заклинило бы (в некоторых частных случаях так и происходило). Каждое большое предприятие, каждое крупное учреждение (министерство, завод, научно-исследовательский институт и т. д.) выдвигало на этот негласный рынок своих агентов, у которых мог быть самый широкий круг обязанностей – от поставок сырья и сбыта продукции («толкачи») до «выбивания» санаторных путевок для начальства и сотрудников («профбоссы») и т. д. Насколько я сейчас могу понимать, круг личных связей и полезных знакомств великолепного Л. Г. на этом «сером торжище» спокойно вмещал всю Москву и любые отрасли хозяйства. Он мог все… ну или почти все.
12
Впрочем, на этом всеобъемлющем рынке копошились агенты и помельче, и совсем мелкие – так сказать, любители, непрофессионалы. Директору автобазы в те времена полагался личный шофер (что довольно странно и смешно), но поскольку отец всегда ездил только сам за рулем, его шофер Федя Стеглов, симпатичный молодой мужик из мордовского села, много лет оставался кем-то вроде ординарца у нас в семье. Он ездил на маленьком «мерседесике» (четыре цилиндра, Mercedes-Benz 170V.).
И надо сказать, что с Федей мне несказанно повезло в жизни: у него, не знаю уж на какой основе, был прочный блат в театре Ленинского комсомола, что на Чеховской улице (сейчас – Малая Дмитровка, как и до 1944-го). Я совершенно не помню саму процедуру посещения театра, где и как я сидел, и лишь приблизительно могу сказать, в какие годы это происходило. Но темный зал и на освещенной сцене Гиацинтову, Бирман, Серову и сегодня вижу ясно и четко: они для меня разыгрывали свои спектакли, и я их принял в душу и запомнил. Да и пяток спектаклей, пожалуй, я и сейчас назову.
Мальчиком я верил театру простодушно и безоговорочно. Когда по радио услышал, что умер премьер Ленкома великий Иван Берсенев, последний трагик России, я подумал, что знаю, как это произошло: он выстрелил в себя и сказал: «Как хорошо… как хорошо…» Ну да, именно так он умер в спектакле, на котором я побывал чуть ли не накануне.
Много позже, уже совсем взрослым, я испытал точно то же чувство, услышав сообщение о смерти Михаила Астангова: я был уверен, что он умер во время спектакля «Перед заходом солнца» в театре Вахтангова. На спектакле я поверил в его смерть, и сообщение по радио лишь подтвердило: да, так и произошло. Ну может, не на том спектакле умер, так на следующем. Так должно, так естественно и справедливо! Из-за этого я никогда не оставался «на поклоны»: вдруг выйдет кланяться – живой и уже что-нибудь жующий… Артист должен умереть на сцене. Тогда я об этом даже какие-то стихи написал, но они, слава богу, не сохранились ни в памяти, ни на бумаге.
Федя Стеглов вообще был добрым волшебником моего детства. Он не только возил меня в Большой и в Ленком, но и летом, приезжая на дачу, которую родители обычно снимали в Жуковке (теперь застроенной роскошными особняками, а в те времена обычной подмосковной деревеньке), сажал меня за руль, учил и давал попрактиковаться: мы уезжали купаться к Ильинскому мосту или просто ездили прокатиться по окрестным проселочным дорогам.
Ничто не дает подростку такой уверенности в своих силах, как рано полученное умение управлять автомобилем. Если отсчитывать от тех поездок с Федей Стегловым, то мой водительский стаж – ровно 70 лет (недавно срок последних водительских прав закончился, а новые уже не получить). И эти годы, пожалуй, и есть «срок мужества»: очень многое в мужской жизни возникает, длится и завершается одновременно – интерес к автомобилям, к женской красоте, стремление складывать стихи… ой да много чего другого!
Но еще задолго до летних месяцев в Жуковке, в военные годы Федя, этот сельский парень, говоря высокопарно, «навек подружил меня с книгой». Во время войны купить детские книги было негде. Но именно Федя принес откуда-то весть, что в соседнем с нами доме пожилая женщина продает детскую библиотеку своей выросшей дочери. Вернее, не продает, а готова поменять на мешок картошки (видимо, осень 1944 года). По счастью, мешок с картошкой нашелся сразу (как раз на автобазу привезли машину картошки для шоферов и механиков). И через день в том же мешке из-под картошки (конечно, уже постиранном, чистом) Федя Стеглов притащил и аккуратно вытряхнул на пол: и «Сказки» Пушкина, и «Рассказы для детей» Льва Толстого, и «Остров сокровищ», и «Кондуит и Швамбранию», и стихи Сергея Михалкова и Маршака, и много-много чего еще… например, «Труды и дни Михайло Ломоносова» Георгия Шторма с великолепными иллюстрациями Фаворского. И все это много лет потом читалось и по многу раз перечитывалось… Правда, одну книгу мама сразу из моей библиотеки изъяла и унесла к себе: «Пока еще рано». Сколько помнится, это был том «Жизнеописаний» Джорджо Вазари в прекрасном издании Academia тридцатых годов. Года через три я, конечно, и до «Жизнеописаний» добрался и, никому ничего не говоря, перенес их к себе в комнату. Навсегда. Через много лет во Флоренции в галерее Уффици, стоя перед картинами Тициана, Боттичелли, Джорджоне, я вовсе не испытывал такого душевного трепета, какой охватывал меня, взрослеющего мальчика, всякий раз, когда я открывал Вазари и не мог оторвать глаз от черно-белых иллюстраций… Здесь, пожалуй, надо вспомнить, что мои школьные годы как раз попали на то десятилетие, когда было введено раздельное обучение: мужские школы, женские школы. Я по природе человек незлобивый и многое могу простить даже советской власти, но это насилие над моим поколением – ни-ког-да!..
13
Закрывая тему о влиянии блата на становление личности ребенка в советское время, я, как это ни покажется неожиданным и странным, воспользуюсь случаем вспомнить о судьбе папиного двоюродного брата Яши Цыпкина. Дело в том, что в 1946 году папин друг Л. Г. где-то выбил для министерства несколько путевок в только-только восстановленный после войны и высоко вознесенный советской пропагандой пионерский лагерь «Артек» в Крыму. Одна из путевок досталась мне. А почему бы нет? Я ведь тоже носил пионерский галстук и умел салютовать правой рукой: «Всегда готов!» («к борьбе за дело Ленина – Сталина»). Даже и теперь помню свой восторг в тот день, когда меня приняли в пионеры. Написал и засомневался: а может, восторг этот нахлынул позже, когда меня приняли уже в комсомол? Впрочем, неважно, когда именно, а важно, что в детстве в какие-то моменты я ощущал этот восторг причастности и осознания, что я «такой, как все»… и в этом «как все» у меня совсем не последнее место.
В тот год «поехать в лучший пионерский лагерь страны», видимо, считалось модно и престижно. Например, одновременно со мной, но в старшем отряде присутствовали и царили на волейбольной площадке сын члена Политбюро Лазаря Кагановича (этого я успел запомнить хорошо) и еще кто-то из «детей того же уровня» (Маленкова? Хрущева? не помню фамилий). Видимо, из соображений «а мы что, хуже?» отец и его друг Л. Г. и меня отправили. Но, боюсь, я их огорчил: вернулся из «Артека» совсем скоро и без восторгов. Сам, конечно, виноват. Неприятности начались если не в дороге, то сразу по приезде…
Не могу сказать, что я люблю путешествовать. Туризм – байдарки там, рюкзаки, костры и т. д. – вся эта романтика никогда не казалась мне интересной и привлекательной. Но быть в дороге я люблю. Не самолетом лететь, не машиной ехать, а только в поезде. Вовсе не сторонним наблюдателем принимаю я разворачивающиеся за окном ландшафты или то, что глаз успевает схватить из проходящей мимо жизни деревень и городов. Глядя в окно, я всегда думаю: а вот если бы пришлось мне здесь в горах поселиться… или вот здесь на берегу лесной речки дом поставить… а как бы жилось мне в этом степном городишке? И ничего, всегда получается: всюду я мог бы оказаться, и всюду жил бы, и жил, применяясь к обстоятельствам. Вон живут же люди… В молодости, получив направление на работу в Находку, я специально отправился поездом Москва – Владивосток. Восемь суток перед глазами разворачивалась и разворачивалась бесконечная «панорама возможностей» – и где и кем я только не успел «пожить» за эти восемь суток. Думаю, жизнь была бы неполной, не решись я тогда на эту долгую поездку.
Не помню, был ли такой же взгляд на мир у девятилетнего мальчика, но два дня, что нас везли из Москвы в Симферополь в плацкартном вагоне, я проторчал в открытом окне в маленьком тамбуре перед дверью уборной. Мимо проплывали кудрявые зеленые леса, разноцветные заплаты обработанных полей и огородов, уходящие за горизонт серые степи, черные и коричневые донецкие терриконы, белые украинские мазанки под пирамидальными тополями и много-много еще такого, чего я никогда в жизни не видел. В результате сразу по приезде в лагерь у меня открылся острый конъюнктивит – ветром в глаза надуло, и я полуослеп. Мало того, в первые же дни северные дети набросились на дармовые, прямо с ветки, сливы. Их полно висело вокруг… зеленых (стоял месяц июнь). Весь наш отряд прошиб понос, но почему-то только меня одного в панике положили в изолятор с подозрением на дизентерию, и весь лагерь в тревоге следил за состоянием моего здоровья (страшно подумать, что было бы, если бы подозрения подтвердились). Родителям, конечно, сразу сообщили, и они тут же решили, что я довольно уже отдохнул. И пора домой. А забирать меня как раз и приехал Яша Цыпкин.
Яша привез меня в Симферополь. Вот тогда-то мы и проехали мимо «дома Иониных»… Яша с женой Ольгой (так я это понимал) жили на втором этаже двухэтажного дома, и к их квартире прямо со двора вела наружная лестница, как это часто водится в обыденных южнорусских жилых постройках. Я пробыл там, кажется, неполных два дня, и в памяти на всю жизнь остались два ярких впечатления. Начну со второго. На следующее утро по приезде, когда Яша и Ольга ушли на работу, я открыл входную дверь и увидел, что на нескольких нижних ступенях нашей лестницы тесными рядками, как голубиная стая на проводах, сидят все пацаны здешнего двора. «Москвич, спускайся к нам», – сказал старший – на пару лет, должно быть, постарше меня. «Пересядь», – сказал он кому-то, и мне освободили место на второй ступеньке. На второй или даже на третьей, потому что на первой стояла баночка с тушью и на белом листке бумаги лежали связанные воедино две иголки и коробок спичек. Старший только что сделал себе наколку на левой руке чуть повыше большого пальца. Теперь он стоял внизу перед нами, зрителями, как актер, достойно сыгравший свою роль: «Вот», – и он протянул мне под глаза покрасневшую и начинавшую опухать руку. Надо сказать, что в детстве при виде крови – например, случайно порезавшись, – я терял сознание. Но тут, хоть все во мне сжалось от ужаса, я не мог потерять лицо и спокойно прочитал вслух: «Кэт». «Это его маруха», – сказал кто-то из зрителей позади меня. «А у тебя есть девчонка? – спросил старший. – Могу наколоть».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































