Текст книги "Исповедь"
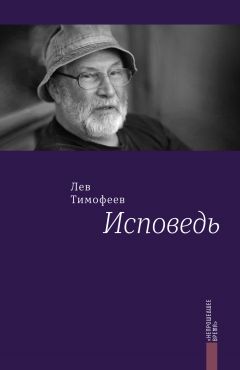
Автор книги: Лев Тимофеев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Нам сегодня трудно понять, что такое табачный рынок в конце XIX – начале XX века. Не сразу сообразишь, какой бы аналог назвать в сегодняшней жизни… ну разве что нынешние рынки энергоносителей или телекоммуникаций, да и они, пожалуй, меньшего размаха. Где-то я прочитал: в Петербурге в начале прошлого века ежегодно распродавалось один миллиард 853 миллиона 146 тысяч штук папирос и сигар на сумму девятнадцать миллионов тогдашних рублей (почти полтриллиона на нынешние деньги). Согласитесь, если уж ты в этом бизнесе, то на рынке такого размаха разве что ленивый или вовсе уж не способный не сумеет «сделать хорошие деньги».
Крым между тем был крупнейшим производителем и поставщиком табака. Мне было бы нетрудно показать здесь, как рославльские и почепские (бабушка Амалия родилась в Почепе) мещане Ионины и их родственники (Цыпкины, Берлины, Хайкины), и на родине занятые в табачном бизнесе, в конце концов оказались в Симферополе, но делать этого не стану: для нас это не так важно, да и уведет далеко в сторону.
Ионины в годы перед революцией жили, видимо, на два дома – в Петербурге и в Крыму. Другое название Крыма – Таврида, и, может, случайно, а может, в силу романтического настроя души питерские квартиры были куплены Иониными именно на Таврической улице, рядом с Таврическим садом… В Симферополе отец, по его словам, зимой ходил в первые классы реального училища. Лето проводили у моря, в Евпатории… Видимо, и Цыпкины жили где-то по соседству. Яша был на пять лет моложе отца и дружил с его младшим братом и моим тезкой Левой.
После революции и гражданской войны все эти еврейские пацаны разбрелись кто куда. В автобиографии отец писал: «С 1920 года (в 14 лет. – Л. Т.) начал работать по найму на Куронецком кирпично-черепичном заводе (близ Симферополя). В 1921 году служил в войсках ВЧК в г. Николаеве, и в начале 1922 года был уволен как малолетний». При жизни отца я не держал в руках его автобиографию, а то уж про ВЧК расспросил бы непременно: как там оказался, почему уволили? По тем временам 16 лет – вовсе не малолетний. Как помним, Аркадий Гайдар в 16 полком командовал… Но вообще-то, зная отца, скажу, что байка о службе в ВЧК очень похожа на ловкую придумку, чтобы отгородиться от дореволюционного прошлого, от своих предков – «представителей эксплуататорских классов». ВЧК – яркое пятно в биографии, и вместе с тем упоминание о нем ни к чему не обязывает, поди проверь, где что было в неразберихе тех лет. По крайней мере, изустно ни от отца, ни от мамы, которая о его прошлом знала всё, ни от родственников об этой «службе в ВЧК» я никогда не слышал.
5
Младшего брата отца звали Левой. Но я ведь тоже ношу это имя, а мог бы и по фамилии быть Иониным. При рождении (в 1936 году в Ленинграде) я был записан по маминой фамилии Тимофеевым: брак родителей не был тогда еще формально зарегистрирован. Мама как-то объяснила мне со смехом, но немного смущаясь, словно была в чем-то виновата: мол, в те годы регистрировать браки было не модно. Видимо, тогда не пригасло еще «революционное отрицание лживой буржуазной морали». Многие фактически жили как муж и жена, под одной крышей: совместное хозяйство, дети и всё такое… но так, без формальностей, так сказать, на взаимном доверии. Но в конце концов власти «навели порядок»: с июля 1944 года действительным стал признаваться только официально зарегистрированный в ЗАГСе брак и признание отцовства без официальной регистрации с этого момента было невозможно. Так или иначе, но сразу после войны мои родители брак зарегистрировали, «расписались». Мама стала Иониной. Я перешел тогда в третий класс, и мне фамилию решили не менять, даже и не сказали мне ничего, как жили, так и живем. Только много позже мама объясняла: «Оставили тебя Тимофеевым, чтобы в школе не создавать лишней путаницы». А мне-то что: Тимофеев – и Тимофеев. Даже хорошо: от моей фамилии никаких прозвищ нельзя образовать… Но вообще, так-то разобраться, какая там могла быть путаница?
Думаю, моему мудрому и чуткому отцу, только-только проехавшему по странам, пережившим ужас холокоста, интуиция подсказывала реальную возможность государственного антисемитизма и дома, на родине. От Сталина можно было ожидать чего угодно. Михоэлс был убит позже, в январе 1948 года, и тогда это убийство действительно стало кровавым знаком начала широкой кампании антисемитизма, которая официально называлась «борьбой с космополитами», во всех сферах общественной жизни. Но и задолго до этого ходили слухи о возможной депортации евреев в Сибирь. Депортация некоторых малых народов (чеченцы, ингуши, месхи, крымские татары), уже к тому времени состоявшаяся, показывала, как это запросто возможно.
В автобиографиях отец писал коротко: родился 21 октября 1905 г. – и всё. Между тем в метрической книге Санкт-Петербургской синагоги запись более развернутая: «Родился: Ионин Михаил (Мендель) Борисович (Беркович), мать: Ионина (Берлин) Амалия (Малка) Марковна (Нахимовна). Родился 21.10, обрезан 28.10.1905, обрезание совершил Исаак Данциг, слонимский мещанин (один из постоянных моэлей. – Л. Т.)». Я уже говорил об интонационной и лексической ценности скупого языка документов. Сама лексика этого документа свидетельствует: человек родился вовсе не в том мире, в каком ему предстояло прожить жизнь.
В паспорте национальность отца была, конечно, указана, и, хотя он не говорил ни на идиш, ни на иврите, он всегда очень четко понимал себя евреем и потому никогда не чувствовал себя в безопасности. Думаю, он и с мамой расписался, чтобы она как супруга и наследница была бы в полном праве. Ну хотя бы вправе распоряжаться собственностью – так, на всякий случай, мало ли что. Про меня же, поди, решили, что лучше мне носить безукоризненно русскую фамилию. Что довольно наивно, поскольку Ионины – фамилия тоже вполне русская: в российской истории немало Иониных без каких бы то ни было еврейских предков – и ученые, и дипломаты, и т. д. А случись что, Тимофеев все равно сын еврея Ионина – и разные фамилии не спасут (об этом еще и здесь будет).
Впрочем, у родителей, возможно, был другой ход мысли, с антисемитизмом напрямую не связанный: меня оставили Тимофеевым потому, что кто-то из них или они оба суеверно опасались, как бы Лева Ионин номер два не повторил судьбу первого.
6
Младший из братьев Иониных был любимцем семьи. Всего у бабушки Амалии было пятеро детей: старший – Наум, потом Берта, потом Миша и Веня. И наконец, Лева – как говорили, самый красивый, самый умный, самый талантливый. Он погиб совсем молодым в начале тридцатых. По семейному преданию, во время отдыха в Батуми его отметила своим вниманием некая своевольная местная красавица. А к ней, как оказалось, давно неравнодушен был «хозяин» всего черноморского побережья, друг Сталина и Берии, известный Нестор Лакоба. Бурный роман местной женщины и приезжего молодого еврея «хозяину», понятно, не понравился. И однажды рано утром в номер на третьем или четвертом этаже гостиницы, где после романтической ночи отсыпался счастливый любовник, тихо вошли несколько чекистов, взяли его за руки и за ноги и выбросили вниз с балкона…
Нет, бесплотное слово «предание» здесь неуместно. Грубая, вполне реальная, кровавая быль – вот что это такое: все произошло в присутствии Миши, моего будущего отца. Он крепко спал, и это, видимо, спасло ему жизнь. Когда он проснулся, чекисты были уже в дверях и тут же, не обернувшись на него, ушли, тихо прикрыв за собой дверь. Спросонья плохо понимая, что происходит, он позвал Леву… но Левы уже не было. «Пьяный упал с балкона». И отец потом всю жизнь писал в автобиографиях: младший брат погиб от несчастного случая. А что еще он мог писать?
Для всей семьи Левина гибель была страшным горем. От Амалии Марковны сначала всё скрыли: муж и дети говорили, что Лева, который открыто выражал свою нелюбовь к большевистским порядкам, успешно бежал через границу в Турцию и дальше в Америку. «И хорошо, а то бы его здесь посадили». И бабушка верила. Но только до тех пор, пока Берта, родив сына, не назвала его Левой (евреи ашкенази не дают новорожденным имена близких родственников, если те еще живы). И когда через два года я родился, никто не раздумывал над именем – оно само собой разумелось.
Теперь, когда я пишу эти заметки, я очень хорошо вижу, что совсем не все знаю об отце, не все стороны его жизни были мне открыты. Вот хотя бы гибель его младшего брата – я всегда знал о ней в самых общих чертах: погиб во время отдыха на юге. Где, как, что – никто никогда не говорил. В подробностях эту историю поведала мне мама только уже после смерти отца. И еще позже все подтвердил Наум, которого я навестил в Питере в начале восьмидесятых (от него я и услышал фамилию Лакоба). Почему-то о подробностях этой истории говорить было не принято. И никогда ни от кого я не слышал, где и как Лева похоронен. Притом что могилы всех остальных Иониных – вон они, известно где, я в разное время и побывал на каждой. И у меня иногда возникают апокрифические сомнения: может, Лева тогда и впрямь сбежал в Америку? А нас с кузеном назвали его именем так, для прикрытия? Все возможно. Времена, в какие я прожил свою жизнь, всегда были как минимум двусторонними: может, все было так, как об этом помнят и говорят сегодня, но, может, все как раз было совсем-совсем иначе. С какой стороны посмотреть.
7
В советские времена в автобиографии, написанной для «личного дела», следовало коротко упомянуть всех ближних родственников. О своем старшем брате отец писал: «Брат Ионин Наум Борисович 1900 г. р. работает коммерческим директором, в какой организации не знаю. В 1938 году был арестован, провел в заключении 6 месяцев и был освобожден без суда».
Чтобы при написании автобиографии не попасть впросак, видимо, надо было придерживаться некоторых законов жанра: писать, конечно, ничего не утаивая… но и сообщая как можно меньше подробностей – чтобы не возникало лишних вопросов. Написать о близком родственнике, мол, не знаю, чем занимается, было бы подозрительно. У Первого отдела могли возникнуть вопросы: что там такое за этим вашим незнанием? Может, что-нибудь скрываете? Пришлось бы специально объясняться. А вот не знать, в каком учреждении работает брат… да мало ли, живем в разных городах, у каждого своя семья, свои заботы, видимся редко, мол, особенно в жизнь брата никогда не вникал. Не то чтобы место работы Наума было тайной (насколько я помню, он много лет и до самой пенсии работал в ДЛТ – крупнейшем питерском универмаге той поры, и отец, конечно, знал это), а все-таки лучше ничего конкретно не указывать. Чтобы не возникало какого-то специального интереса, чтобы не было адреса для каких-нибудь запросов «по линии Первого отдела». То же самое и с арестом Наума в 1938 году. Совсем не упомянуть – опасно, мало ли что им известно: скажут, почему утаил? А так, арестовали, выпустили без суда… что еще?.. ничего не знаю.
Заметим, что в справочниках «Весь Петроград – 1924» и «Весь Ленинград – 1925» Наум Ионин указан как «торговец», имевший свою торговую точку на Сенном рынке. Надо было об этом где-нибудь упоминать? Ой, да где он этот «Весь Петроград-Ленинград», кто помнил его в пятидесятые годы – было, не было? И никто, конечно, не помнил, что Наум провел несколько месяцев в тюрьме еще и в конце 20-х годов, в кампанию, оставшуюся в народной памяти как «золотуха». Тогда, свернув НЭП и оказавшись на грани финансового банкротства, советские власти принялись «трясти» вчерашних предпринимателей-нэпманов: сотрудники ОГПУ врывались в квартиры, обыскивали, переворачивали все вверх дном, изымали все наличные ценности (золотые, серебряные изделия и украшения, камни, валюту и т. д.), а хозяина уводили с собой и держали в тюрьме, пока родственники или друзья не приносили выкуп в сумме, соответствовавшей представлению чекистов о богатстве предпринимателя. У наиболее состоятельных конфисковывали вообще всё, а самих отправляли на Соловки, иных расстреливали. Наума все же выпустили: был ли уплачен выкуп или он доказал, что взять нечего, – не знаю… Так или иначе, но о том его аресте даже и в семейных преданиях упоминать было не принято: само слово «нэпман» было смертельно опасным.
Этот принцип: «минимум информации вовне» был основой личной безопасности советского человека: меньше разговоров о твоем и твоих близких прошлом, о вашей частной жизни – меньше опасность, что в этом прошлом, в этой жизни начнут копаться, задавать вопросы, до чего так охоч был тот самый Первый отдел и его многочисленные осведомители (вопрос: «А что ты делал до 17-го года?» и теперь еще бытует в русской речи как ироническая идиома).
Но при такой принципиальной сдержанности (если не сказать скрытности) и детям не полагалось знать лишнего и многое оставалось «не для детских ушей». Дети же, вырастая, погружались в собственные заботы, и им уже было не до семейных тайн – даже тогда, когда стареющие предки готовы были ими поделиться. Теряя память о прошлом, люди становились вполне «советскими». Старики умирали, и с ними умирали знания об их жизни, об их времени, умирали и прежние представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ионины еще не были вполне советскими, даже мой отец, «номенклатурный совслужащий», в 1946 году посчитавший нужным вступить в партию. Но наше поколение – мы уже совершенно советские люди, безо всяких кавычек. Мы не только «под собою не чуем страны». Мы вообще люди без частной памяти: ее в нашем сознании заместили всеобщие мифы – о революции, о социалистическом строительстве, о Великой Победе и т. д. и т. п.
Много ли мы знаем о частной жизни 1920–1940-х годов? Много ли осталось частных свидетельств, записок, подробных дневников, семейных хроник той поры? Сравните с ХIХ веком… Впрочем, оно и понятно: запишешь в дневник, что думаешь о советской жизни, а дневник рано или поздно окажется на Лубянке – и пойдешь по статье 58-10 (позже – статья 70 УК РСФСР). В лагере я знавал такого бедолагу, севшего на шесть лет всего только за дневниковую запись.
Сам я, к сожалению, никогда не вел дневник: не тот характер, не тот темперамент, не та жизнь прожита. Но работа, какой я занят теперь, как раз очень похожа на чтение фрагментов из ненаписанного дневника, а в нем что ни страница, то упущенное знание или вопрос без ответа. Оказывается, я постыдно мало знаю о частной жизни самого близкого мне человека – отца, совсем-совсем мало знаю о дедах и уж вовсе ничего о родственниках, прадедах, пращурах. И в этом мне некого винить, кроме себя самого. Я ведь и сам всего только персонаж этой саги – нерадивый потомок, упустивший основной массив знаний о предках и пытающийся теперь понять хоть что-то, разглядывая немногие сохранившиеся крупицы. Не то чтобы я был равнодушен и нелюбознателен (хотя отчасти и это тоже), но как-то получалось в моей жизни, что я все время куда-то спешил и всюду опаздывал.
Вот ведь Наум, старший брат отца, в тот мой упомянутый приезд в Питер в начале восьмидесятых, зная, что я пописываю и даже публикуюсь, был готов говорить со мной хоть всю ночь напролет. О, сколько я узнал бы от него хотя бы за два-три часа вечерней беседы и о дореволюционной жизни Иониных, и о молодости моего отца, к тому времени уже покойного… Но нет, я тогда торопился на поезд, в Москве меня ждали какие-то срочные и неотложные дела. Наум что ж – вздохнул и развел руками, и его жена Мариша простодушно огорчилась: «А я думала, вы полночи проговорите, и все приготовила, чтобы постелить тебе потом на диване». «Ты стели, я скоро вернусь», – неуклюже пошутил я.
Может, и вернулся бы, но вскоре случился мой арест, тюрьма, лагерь… И в следующий раз я приехал в Питер только лет через шесть или семь. Ни Наума, ни Мариши в живых уже не было. Его последние годы и смерть стали как бы страшной ассонансной рифмой к судьбе его младшего брата Левы. Прожив шестьдесят лет с лишним в любви и счастье с красавицей женой, Наум в свои немощные восемьдесят шесть оказался при ней сиделкой: после инсульта Маришу разбил паралич. Она умирала, и у него самого не было уже сил ни ухаживать за ней, ни вообще жить. В какой-то день, когда ей стало совсем плохо, он вызвал «неотложку» и вышел на балкон, чтобы показать медикам, куда им идти, и когда машина приехала, он, человек довольно высокий, слишком перегнулся через перила и, видимо, потерял сознание и упал вниз… Впрочем, его дочь, которая вместе с ним ухаживала за матерью, говорила мне потом, что он сильно устал от жизни и хотел умереть. Кто знает, как это было на самом деле… Наум погиб 10 июля, Мариша умерла следом, 23-го.
8. НКВД И ДР.
По семейным преданиям, дело было так… В начале тридцатых годов никак не юный студент Ленинградского автодорожного института (ему уж было под 30) подрабатывал во внеурочное время шофером: развозил по магазинам и сам разгружал молоко в бидонах. Молока (как и всего другого) на всех не хватало, и покупатели, бывало, заранее ждали молочного благодетеля. В полуподвальном магазинчике на улице Чайковского студент-шофер несколько раз заметил в очереди девочку лет шестнадцати, потрясающе красивую, трогательно державшую за руку маленькую сестренку. (Берта Ионина, описывая в разговорах красоту «нашей Валечки», впрочем, уже повзрослевшей, восемнадцатилетней невесты, всегда пользовалась трюизмом: «прохожие оборачивались вслед» – но говорила это так спокойно, так убедительно, что сомнения не оставалось: да, оборачивались.) Через год-полтора «молочный шофер», впрочем, уже за рулем откуда-то взявшегося роскошного легкового автомобиля, нашел повзрослевшую красавицу и пригласил ее в свою машину… Так или иначе, дело сладилось, и, выйдя из той машины, они прожили вместе тридцать семь лет…
Да, все хорошо. Но в этой довольно обычной сентиментальной истории есть одна не вполне ясная деталь, которая в общей логике моего повествования чрезвычайно важна и, видимо, информативно нагружена: откуда взялась машина, в которую мой будущий отец пригласил свою будущую жену? Попробую понять… но, видимо, не вдруг.
Отец умер еще не старым, в 66 лет. После его смерти мама жила одиноко в скромной двушке в Сокольниках, оставшейся им с отцом после семейного размена (нам с женой была выделена прекрасная однокомнатная квартира на Преображенке). В своем последнем жилище отец спал на раскладном диване в проходной комнате. На этом диване он и умер во сне, как умирают праведники или просто уставшие жить старики.
Я навещал маму, конечно, много реже, чем следовало, неуклюже оправдываясь собственными семейными заботами, частыми журналистскими разъездами и прочей дребеденью. Мама была фельдшером и хоть уже получала пенсию, но все равно, как и многие предыдущие годы, ездила на работу в поликлинику на Бронной. Но дома поговорить ей было не с кем, младшая сестра жила в Ленинграде, с невесткой дружба не очень состоялась, сын… но где он этот сын. Понятно, когда я приезжал, маме хотелось поговорить, порасспросить… но и порассказать тоже. Впрочем, если речь заходила о прошлом, рассказывала в основном о жизни своих родичей Тимофеевых – об эвакуации, о моем детстве, о сестре Елене. Об Иониных говорить не любила: мне казалось (да и теперь я так думаю), она чувствовала себя чужой в той семье… На кухне мы пили чай, беседовали и посматривали на включенный телевизор. И вот однажды то ли в новостях, то ли в каком-то зарубежном репортаже показывали свадебный кортеж на ретроавтомобилях. «Ой, – сказала вдруг мама, – вот же автомобиль, в каком твой отец охмурял меня, девочку. Ну точно, точно такой же». Молодожены на другом континенте после венчания в церкви садились в древний, но отлично сохранившийся Buick 32-90 (хорошо знаю этот автомобиль, с него был скопирован советский ЗИС-101, и я что-то когда-то писал об этом). Тогда у мамы я поцокал языком, покачал головой… и мы заговорили о чем-то другом. Но вот теперь, когда наконец у меня дошли руки до бумаг отца, возник вопрос: почему об этом «бьюике» нигде ни единого слова?
Действительно, вот автобиография:
«В 1927 году большее время был безработным и работал на временных работах в автохозяйствах в порядке посылок биржи труда г. Ленинграда.
В 1928 году поступил на работу в Госремпром в г. Ленинграде шофером, где проработал до 1930 года, и уволился в связи с переходом на последний курс рабфака с отрывом от производства.
В 1930 году окончил рабфак и был зачислен в Ленинградский автодорожный институт, где проучился до 1933 года с отрывом от производства.
В 1933 году был послан институтом на практику в автобазу НКВД Л. О., где после практики мне предложили остаться работать, что я и сделал, т. е. остался работать в автобазе НКВД в г. Ленинграде, а учиться был переведен на вечерний факультет без отрыва от производства».
Так писалось в автобиографии. Где тут может быть «бьюик»?
Добрачная часть романа моих будущих родителей приходится на 1934 год. Об этом есть свидетельство маминой младшей сестры, оставившей свои очень интересные и важные воспоминания: «…Он уже работал, тоже совмещая с учебой, шофером. Возил какого-то начальника в Большой дом, в НКВД. И опять эту девочку видел на улице Чайковского. И уже из машины с ней заговорил… А эта девочка очень любила машины. И он, по-моему, брал у своего начальника какую-то [роскошную] марку машины. И она была окончательно покорена этой машиной. И очень скоро, в самом начале 18 лет, объявила родителям, что выходит замуж».
Очень мило. Но из всей этой информации самое важное, пожалуй, вот что: «Возил какого-то начальника в Большой дом, в НКВД». Какого начальника? Что, в НКВД было много роскошных «бьюиков»? Почему обо всем этом в бумагах нигде ни единого слова? Да и изустно ни у отца, ни в семейных преданиях эта тема никогда не возникала (воспоминания Елены записаны незадолго до ее смерти в конце 90-х).
С большой долей вероятности можно утверждать, что во время институтской практики отец «возил в Большой дом» не кого-нибудь, а самого Филиппа Медведя, начальника ленинградского НКВД. Долгие годы упоминать это имя было опасно. После того как в декабре 1934 года был убит Киров, Медведя отстранили от должности и арестовали, обвинив в халатности. А в 1937 году его и вовсе расстреляли, уже по какому-то совсем другому, должно быть надуманному – как в те годы обычно водилось, – обвинению. Я понимаю отца: скажешь, что работал под началом такого человека, и потом иди доказывай, что был всего только студентом-практикантом, что шоферов было мало и ты иногда должен был садиться за руль… ну и временами катал любимую девушку на служебном «бьюике». Ладно, тогда не взяли, не привлекли, не упекли – а очень даже могли бы! – и на том спасибо.
Я понял, что именно прошло совсем рядом с судьбой отца, когда уже теперь прочитал: «Медведь Ф. Д. активно участвовал в проведении кампаний раскулачивания, преследования “политических противников”. В Ленинграде руководил арестами и высылками сторонников левой оппозиции, репрессиями против “представителей эксплуататорских классов”. Пользовался поддержкой ленинградского руководителя, члена Политбюро и секретаря ЦК ВКП(б) С. М. Кирова. Как вспоминал Н. С. Хрущев, “он был, как говорят, ближайшим другом Кирова. Они вместе ходили на охоту, дружили семьями”. По воспоминаниям современников, был симпатичным человеком и жизнелюбом, устраивал приемы, на которых пел специально выписанный из Москвы Леонид Утесов. При Медведе в Ленинграде был построен знаменитый Большой дом – здание управления НКВД на Литейном проспекте. Филипп Медведь руководил деятельностью по внесудебному осуждению арестованных, при проведении паспортизации населения по личному указанию Кирова организовал массовую высылку из Ленинграда в Сибирь десятков тысяч “лиц непролетарского происхождения”»[4]4
https://pruzhany.net/2034-75-let-s-dnya-rasstrela-filippa-medvedya.html
[Закрыть]. Вот такой вот медведь-людоед.
Я задавался вопросом: а зачем вообще отец пошел в эту систему, как оказался под этой аббревиатурой НКВД? Автомобили как профессию он выбрал смолоду: я видел в его правах водительский стаж – с 1924 года. В двадцатых он не раз работал шофером. Но вот человек хочет совершенствоваться в своем деле, получить высшее образование и поступает… куда? Передо мной сохранившийся в семейном архиве массивный, килограмма на два, картонный альбом с серебряным тиснением на толстом переплете: «ЦУДОРТРАНС НКВД СССР. Ленинградский Автомобильно-дорожный институт им. В. В. Куйбышева. VII выпуск инженеров-механиков автомобильного транспорта. 1931–1935 гг.». Фото отца на пятой странице. Вот и вся разгадка: в те годы подготовка кадров для отрасли (как и строительство и эксплуатация автодорог) была под контролем НКВД. А уж куда студента на практику пошлют, вряд ли он сам выбирал и вряд ли мог отказаться: шоферский-то стаж вот он, в бумагах – давай садись за руль.
Институт отец окончил в 1935 году. В 1937-м он уже начальник авторемонтной мастерской отдела связи АХУ НКВД Ленинградской области. Пошла карьера? Но нет, быстро, словно торопится, он расстается с этой системой и переходит работать на оружейный завод, где для инженера-автомеханика возможности карьерного роста весьма сомнительны. Почему он так поступил? Может, потому что это были годы ежовщины – 1937/38? Работая в структуре НКВД, он что-то почувствовал, что-то понял, чего-то испугался? Отец никогда не говорил со мной о тех временах, даже когда я повзрослел. В начале марта 1956 года он принес с партсобрания еще не публиковавшийся антисталинский доклад Хрущева: «Прочитай». Я прочитал: «Здорово! И что?» – «Да ничего, – сказал он. – Все совсем рядом прошелестело». И больше к этой теме никогда не возвращался.
9
Только теперь, вглядываясь в те времена, я понимаю, на какое же страшное двадцатилетие пришлись молодые годы моего отца и его ровесников – с 1917-го по 1937-й. Старая жизнь умирала – в прямом смысле этого слова: Ионин-старший, мой дед (1868 г. р.), предприниматель, коммерсант, умирал от рака желудка за стеной… нет, даже не за стеной, а за тонкой не до потолка перегородкой, с другой стороны которой стояла моя детская кроватка (пишу в мае 2020 года, мне 83). Перегородка делила на три части ту единственную комнату, которая после всех экспроприаций и «уплотнений» осталась бывшим владельцам всего этажа…
Старая жизнь умирала, правила новой жизни не вполне еще проступали за всеми этими «кампаниями раскулачивания», репрессиями против «представителей эксплуататорских классов», высылкой лиц «непролетарского происхождения» и, наконец, развернувшимся после 1934 года Большим террором, где уже даже и «классовый характер» слабо декларировался. Молодому человеку (если он достаточно умен, чтобы не быть комсомольским активистом) где искать свое место в этой колеблющейся, как марево, новой реальности?
Но молодость есть молодость. Любили, женились, собирались компаниями, спорили, выпивали, читали друг другу стихи и прозу, играли в карты, пели «под Вертинского»… Центром молодежной жизни того круга, к которому принадлежал отец, был гостеприимный дом его сестры Берты Иониной-Поляковой. У меня нет прямых свидетельств о жизни молодых Иониных в двадцатых годах, об их пристрастиях и препровождении времени, о некоем литературном (и не только) салоне, каким, по преданиям, была квартира Поляковых и где побывали многие молодые и не очень молодые литераторы того времени. Не осталось ни документов, ни воспоминаний. Но по каким-то во времени рассеянным репликам отца и мамы, братьев отца, самой Берты в моем сознании присутствует твердое убеждение, что многое в их жизни выросло из того времени и из той квартиры. Некоторые знакомства отца просто невозможно объяснить иначе. Ну вот, например, начавшееся в те годы многолетнее приятельство с замечательным писателем Иосифом Леонидовичем Прутом (отец называл его просто «Онька») – человеком фантастической судьбы и эталонной порядочности: он был одним из немногих, кто публично выступил в защиту Осипа Мандельштама после его первого ареста (в последний раз я видел И. Л. Прута на похоронах отца: он пришел, чтобы просто молча обнять меня). Или вот тоже оттуда Лева Шейнин – талант, негодяй, в тридцатые годы участвовавший в «разоблачении врагов народа» всеми принятыми тогда методами, страдалец, дважды арестованный и проведший годы в тюрьме и лагере, триумфатор юридической и литературной карьеры, бражник и бабник (отец, кстати навещал его дачу и без меня, и, по маминым горьким рассказам, приезжал оттуда «хорош»). Эти двое, конечно, «молодежь» из Бертиной квартиры. Какое все-таки взбаламученное время было, с неопределенными, разнонаправленными, взаимно пересекающимися судьбами и представлениями о добре и зле… Но квартира Поляковых много значила не только в судьбе отца, но и в моей жизни, а потому о ней немного подробнее.
Берта была замужем за известным и, как теперь сказали бы, «раскрученным» доктором-гинекологом. Квартира их была, можно сказать, у города на виду, в самом центре – Невский, 76 (угол с Литейным). Я-то застал уже только три, правда большие, комнаты. Если смотреть с Невского – подряд шесть больших окон на втором этаже (а в прежние времена сказали бы «в бельэтаже»). Не знаю, кто и что там теперь. В последний приезд в Питер (в прошлом году) мне показалось, что окна много-много лет не мыты, и за ними никого нет, пусто.
Но когда-то, в середине двадцатых, квартира была раза в два, если не в три, больше (в сторону Литейного, тогда пр. Володарского) и в ней кроме жилых комнат размещалась еще и частная клиника Евгения Леонтьевича Полякова (по крайней мере, в справочнике «Весь Ленинград» за 1924 год адрес доктора Полякова указан в том же угловом доме, но именно по проспекту Володарского). В эту клинику умненькая миниатюрная и очень женственная красоточка Берта Ионина пришла некогда работать медсестрой и осталась здесь до конца жизни – уже хозяйкой.
Начинались недолгие вегетарианские годы советской власти – годы НЭПа. Прошло несколько спокойных лет, но в конце двадцатых при сворачивании НЭПа доктора Полякова сильно «уплотнили»: ему остались те самые три комнаты, впрочем, обустроенные как отдельная квартира. Он тогда и частную практику продолжил, даже и работая уже в советских медицинских учреждениях: в ближайшей ко входу комнате, в той ее части, что к окнам, был выгорожен небольшой гинекологический кабинет. (Вообще, каждый раз упиваясь игрой великих актеров Карцева и Евстигнеева в «Собачьем сердце», я понимаю, что именно так и происходило «уплотнение» доктора Полякова. Но от профессора Преображенского его, видимо, отличало то, что он не мог позвонить некоему всемогущему «Александру Петровичу»… Впрочем, не думаю, что при своей мягкой интеллигентности бывший земский врач Евгений Леонтьевич Поляков вообще куда-то кому-то стал бы звонить и протестовать. Да и просто опасно было.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































