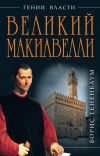Текст книги "Революционерам. Антология позднего Троцкого"
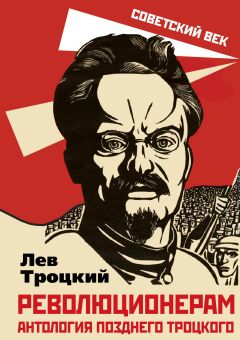
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Революция имеет свои законы. Мы давно уже формулировали те «уроки Октября»104104
«Уроки Октября» – название предисловия Л.Д. Троцкого к 1-му полутому III тома собрания его сочинений, вышедшему в Москве в 1924 г. Том был посвящен событиям 1917 г. В том же году предисловие выпущено отдельной брошюрой. Вскоре после выхода в свет этого издания против Троцкого была развязана печатная кампания в связи с якобы искажением им истории Октября. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть], которые имеют не только русское, но и международное значение. Никаких других «уроков» никто даже не пытался предложить. Испанская революция подтверждает «уроки Октября» методом от обратного. А суровые критики молчат или виляют. Испанское правительство «Народного фронта» душит социалистическую революцию и расстреливает революционеров. Анархисты участвуют в этом правительстве или, когда их выгоняют, продолжают поддерживать палачей. А их иностранные союзники и адвокаты занимаются тем временем защитой… Кронштадтского мятежа от жестоких большевиков. Постыдная комедия!
Сегодняшние споры вокруг Кронштадта располагаются по тем же классовым осям, что и само Кронштадтское восстание, когда реакционная часть матросов пыталась опрокинуть пролетарскую диктатуру. Чувствуя свое бессилие на арене сегодняшней революционной политики, мелкобуржуазные путаники и эклектики пытаются использовать старый кронштадтский эпизод для борьбы против Четвертого Интернационала, т.е. международной партии пролетарской революции. Эти новейшие «кронштадтцы» будут также разбиты – правда, без употребления оружия, так как у них, к счастью, нет крепости.
Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев), № 66—67
ЕЩЕ ОБ УСМИРЕНИИ КРОНШТАДТА
В своей недавней статье о «Кронштадте» я пытался поставить вопрос в политической плоскости. Но многих интересует проблема личной «ответственности». Суварин, который из вялого марксиста стал восторженным сикофантом, утверждает в своей книге о Сталине, что я в автобиографии сознательно умалчиваю о Кронштадтском восстании: есть подвиги, иронизирует он, которыми не гордятся. Цилига105105
Цилига Антон (Анте) (1896 или 1898—1992) – деятель коммунистического движения Югославии. Один из руководителей компартий Хорватии и Югославии, член Политбюро КПЮ с 1925 г., представитель КПЮ в Коминтерне. В 1929 г. поддержал левую оппозицию, в 1930 г. был арестован, провел три года в заключении и два – в ссылке. Под давлением западных коммунистов освобожден и выслан из СССР. Книга «В стране великой лжи» вышла в свет в Париже в 1937 г. Первоначально А. Цилига сотрудничал с Троцким и публиковался в «Бюллетене оппозиции», но затем сблизился с социал-демократами и был одним из инициаторов кампании против Троцкого по вопросу о Кронштадтском мятеже 1921 г. Оставил ценную книгу воспоминаний о левой оппозиции в коммунистическом движении 20—30-х гг. («Русская загадка»). – Примеч. науч. ред.
[Закрыть] в своей книге «В стране великой лжи» передает, что при усмирении Кронштадта мною расстреляно было «больше десяти тысяч моряков» (я сомневаюсь, чтоб в тот период во всем Балтийском флоте было такое число). Иные критики высказываются в таком смысле: да, восстание объективно имело контрреволюционный характер, но зачем Троцкий применил при усмирении и после усмирения столь беспощадные репрессии?
Я ни разу не касался этого вопроса. Не потому, что мне нужно было что– либо скрывать, а как раз наоборот, потому что мне нечего было сказать. Дело в том, что я лично не принимал ни малейшего участия ни в усмирении Кронштадтского восстания, ни в репрессиях после усмирения. В моих глазах самый факт этот не имеет политического значения. Я был членом правительства, считал необходимым усмирение восстания и, стало быть, несу за усмирение ответственность. Только в этих пределах я и отвечал до сих пор на критику. Но когда моралисты начинают приставать ко мне лично, обвиняя меня в чрезмерной жестокости, не вызывающейся обстоятельствами, я считаю себя вправе сказать: «Господа моралисты, вы немножко привираете».
Восстание вспыхнуло во время моего пребывания на Урале. С Урала я прибыл прямо в Москву, на 10-й съезд партии. Решение о том, чтоб подавить восстание военной силой, если не удастся побудить крепость к сдаче, сперва путем мирных переговоров, затем путем ультиматума, – такое общее решение было принято при непосредственном моем участии. Но после вынесения решения я продолжал оставаться в Москве и не принимал ни прямого, ни косвенного участия в военных операциях. Что касается последовавших позже репрессий, то они были целиком делом Чека.
Почему так вышло, что я лично не отправился в Кронштадт? Причина имела политический характер. Восстание вспыхнуло во время дискуссии по так называемому вопросу о «профессиональных союзах». Политическая работа в Кронштадте была в руках Петроградского комитета, во главе которого стоял Зиновьев. Главным, наиболее неутомимым и горячим лидером в борьбе против меня во время дискуссии был тот же Зиновьев. До поездки на Урал я был в Петрограде, выступал на собрании моряков-коммунистов. Общий дух собрания произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление. Франтоватые и сытые матросы, коммунисты только по имени, производили впечатление паразитов по сравнению с тогдашними рабочими и красноармейцами. Кампания велась со стороны Петроградского комитета крайне демагогически. Командный состав флота был изолирован и запуган. Резолюция Зиновьева получила, вероятно, не менее 90 %. Помню, я говорил по этому поводу самому Зиновьеву: «У вас все очень хорошо, пока не становится сразу очень плохо». Зиновьев был со мной после этого на Урале, там он получил срочное сообщение, что в Кронштадте становится «очень плохо». Матросы-«коммунисты», поддерживавшие резолюцию Зиновьева, приняли в подавляющем большинстве участие в мятеже. Я считал, и Политбюро против этого не возражало, что переговоры с матросами и, в случае необходимости, усмирение их должно лечь на тех вождей, которые вчера пользовались политическим доверием этих матросов. Иначе кронштадтцы поймут дело так, что я приехал мстить им за то, что они голосовали против меня во время партийной дискуссии.
Правильны ли были эти соображения или нет, но, во всяком случае, именно они определили мое поведение. Я совершенно и демонстративно отстранился от этого дела. Что касается репрессий, то ими, насколько помню, руководил непосредственно Дзержинский, который вообще не терпел вмешательства в свои функции (и правильно делал).
Были ли излишние жертвы, не знаю. Дзержинскому верю в этой сфере больше, чем его запоздалым критикам. Решать теперь, апостериори, кого и как нужно было покарать, я не берусь за полным отсутствием данных. Суждения по этому поводу Виктора Сержа – из третьих рук – не имеют в моих глазах никакой цены. Но я готов признать, что гражданская война не есть школа гуманности. Идеалисты и пацифисты всегда обвиняли революцию в «эксцессах». Но суть такова, что эти «эксцессы» вытекают из самой природы революции, которая сама является «эксцессом» истории. Кому угодно, пусть отвергает на этом основании (в статейках) революцию вообще. Я ее не отвергаю. В этом смысле я несу за усмирение Кронштадтского мятежа ответственность полностью и целиком.
Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев), № 70
ИХ МОРАЛЬ И НАША
(Памяти Льва Седова)
Испарения морали
В эпохи торжествующей реакции господа демократы, социал-демократы, анархисты и другие представители «левого» лагеря начинают выделять из себя в удвоенном количестве испарения морали, подобно тому, как люди вдвойне потеют от страха. Пересказывая своими словами десять заповедей или Нагорную проповедь, эти моралисты адресуются не столько к торжествующей реакции, сколько к гонимым ею революционерам, которые своими «эксцессами» и «аморальными» принципами «провоцируют» реакцию и дают ей моральное оправдание. Между тем есть простое, но верное средство избежать реакции: нужно напрячься и нравственно возродиться. Образцы нравственного совершенства раздаются желающим даром во всех заинтересованных редакциях.
Классовая основа этой фальшивой и напыщенной проповеди: интеллигентская мелкая буржуазия. Политическая основа: бессилие и растерянность перед наступлением реакции. Психологическая основа: стремление преодолеть чувство собственной несостоятельности при помощи маскарадной бороды пророка.
Излюбленным приемом морализирующего филистера является отождествление образа действий реакции и революции. Успех приема достигается при помощи формальных аналогий. Царизм и большевизм – близнецы. Близнецов можно открыть также в фашизме и коммунизме. Можно составить перечень общих черт католицизма или, уже, иезуитизма и большевизма. Со своей стороны, Гитлер и Муссолини, пользуясь совершенно тем же методом, доказывают, что либерализм, демократия и большевизм представляют лишь разные проявления одного и того же зла. Наиболее широкое признание встречает ныне та мысль, что сталинизм и троцкизм «по существу» – одно и то же. На этом сходятся либералы, демократы, благочестивые католики, идеалисты, прагматисты, анархисты и фашисты. Если сталинцы не имеют возможности примкнуть к этому «Народному фронту», то только потому, что случайно заняты истреблением троцкистов.
Основная черта этих сближений и уподоблений в том, что они совершенно игнорируют материальную основу разных течений, т.е. их классовую природу и, тем самым, их объективную историческую роль. Взамен этого они оценивают и классифицируют разные течения по какому-либо внешнему и второстепенному признаку, чаще всего – по их отношению к тому или другому абстрактному принципу, который для данного классификатора имеет особую профессиональную ценность. Так, для римского папы франкмасоны, дарвинисты, марксисты и анархисты представляют близнецов, ибо все они святотатственно отрицают беспорочное зачатие. Для Гитлера близнецами являются либерализм и марксизм, ибо они игнорируют «кровь и честь». Для демократа фашизм и большевизм – двойники, ибо они не склоняются перед всеобщим избирательным правом. И так далее.
Известные общие черты у сгруппированных выше течений несомненны. Но суть в том, что развитие человеческого рода не исчерпывается ни всеобщим избирательным правом, ни «кровью и честью», ни догматом беспорочного зачатия. Исторический процесс означает прежде всего борьбу классов, причем разные классы во имя разных целей могут в известных случаях применять сходные средства. Иначе, в сущности, и не может быть. Борющиеся армии всегда более или менее симметричны, и если б в их методах борьбы не было ничего общего, они не могли бы наносить друг другу ударов.
Темный крестьянин или лавочник, если он, не понимая ни происхождения, ни смысла борьбы между пролетариатом и буржуазией, оказывается меж двух огней, будет с одинаковой ненавистью относиться к обоим воюющим лагерям. А что такое все эти демократические моралисты? Идеологи промежуточных слоев, попавших или боящихся попасть меж двух огней. Главные черты пророков этого типа: чуждость великим историческим движениям, заскорузлый консерватизм мышления, самодовольство ограниченности и примитивнейшая политическая трусость. Моралисты больше всего хотят, чтоб история оставила их в покое, с их книжками, журнальчиками, подписчиками, здравым смыслом и нравственными прописями. Но история не оставляет их в покое. То слева, то справа она наносит им тумаки. Ясно: революция и реакция, царизм и большевизм, коммунизм и фашизм, сталинизм и троцкизм – все это двойники. Кто сомневается, может прощупать симметричные шишки на черепе самих моралистов, с правой и с левой стороны.
Марксистский аморализм и вечные истины
Наиболее популярное и наиболее импонирующее обвинение, направленное против большевистского «аморализма», находит свою опору в так называемом иезуитском правиле большевизма: «цель оправдывает средства». Отсюда уже нетрудно сделать дальнейший вывод: так как троцкисты, подобно всем большевикам (или марксистам), не признают принципов морали, следовательно, между троцкизмом и сталинизмом нет «принципиальной» разницы. Что и требовалось доказать.
Один американский еженедельник, весьма вульгарный и циничный, произвел насчет морали большевизма маленькую анкету, которая, как водится, должна была одновременно служить целям этики и рекламы. Неподражаемый Г.Дж. Уэллс, гомерическое самодовольство которого всегда превосходило его незаурядную фантазию, не замедлил солидаризироваться с реакционными снобами из «Коммон сенс»106106
Нью-йоркский журнал «Коммон сенс» действительно пропагандировал снобистскую позицию: утверждал, что нет смысла заниматься политикой, поскольку все политики одинаково убоги, скучны и нечистоплотны. Журнал пользовался популярностью в определенных художественных (богемных), консервативно-религиозных и одновременно в анархистских кругах, у части представителей «разбитого поколения». – Примеч. науч. ред.
[Закрыть]. Здесь все в порядке. Но и те из участников анкеты, которые считали нужным взять большевизм под свою защиту, делали это, в большинстве случаев, не без застенчивых оговорок:
принципы марксизма, конечно, плохи, но среди большевиков встречаются, тем не менее, достойные люди (Истмен107107
Истмен Макс (1883—1969) – американский журналист, публицист, литературовед. В 1912 г. стал редактором знаменитого левого журнала «Мэссиз». После запрета «Мэссиз» (1917) – редактор сменившего «Мэссиз» журнала «Либерейтер». В 1922—1924 гг. жил в Советской России, где проникся идеями Троцкого. Через него Троцкий опубликовал на Западе «Завещание» («Письмо к съезду») Ленина. Перевел на английский и издал большое количество текстов Троцкого. Был женат на сестре Н.В. Крыленко. Один из основателей американского троцкизма. Был одним из лидеров и теоретиков американской троцкистской Социалистической рабочей партии. В годы маккартизма стал ренегатом, активно сотрудничал с комиссией Маккарти. Был редактором в концерне «Ридерз дайджест». Оставил мемуары, ценные для истории американского троцкизма («Enjoyment of Living», 1948 и «Love and Revolution», 1965). – Примеч. науч. ред.
[Закрыть]). Поистине, некоторые «друзья» опаснее врагов.
Если мы захотим взять господ обличителей всерьез, то должны будем прежде всего спросить их, каковы же их собственные принципы морали. Вот вопрос, на который мы вряд ли получим ответ. Допустим, в самом деле, что ни личная, ни социальная цели не могут оправдать средства. Тогда нужно, очевидно, искать других критериев, вне исторического общества и тех целей, которые выдвигаются его развитием. Где же? Раз не на земле, то на небесах. Попы уже давно открыли безошибочные критерии морали в божественном откровении. Светские попики говорят о вечных истинах морали, не называя свой первоисточник. Мы вправе, однако, заключить: раз эти истины вечны, значит, они должны были существовать не только до появления на земле полуобезьяны-получеловека, но и до возникновения Солнечной системы. Откуда же они, собственно, взялись? Без бога теория вечной морали никак обойтись не может.
Моралисты англосаксонского типа, поскольку они не ограничиваются рационалистическим утилитаризмом, этикой буржуазного бухгалтера, выступают в качестве сознательных или бессознательных учеников виконта Шефтсбери (Shaftesbury), который в начале XVIII века (!) выводил нравственные суждения из особого «морального чувства» (moral sense), раз навсегда будто бы данного человеку108108
Купер лорд Шефтсбери, Энтони Эшли (1671—1713) – английский философ-деист, моралист и эстетик, представитель раннего Просвещения. По Шефтсбери, нравственность порождается врожденным «нравственным чувством» (moral sense), предопределяющим естественное стремление человека к добру. При этом «нравственное чувство» тесно связано с эстетическим чувством (чувством прекрасного), сущность его – в гармоничном сочетаний индивидуальных влечений с общественными склонностями. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть]. Сверхклассовая мораль неизбежно ведет к признанию особой субстанции, «морального чувства», «совести» как некоего абсолюта, который является не чем иным, как философски-трусливым псевдонимом бога. Независимая от «целей», т.е. от общества, мораль – выводить ли ее из вечных истин или из «природы человека» – оказывается, в конце концов, разновидностью «натуральной теологии» (natural theology). Небеса остаются единственной укрепленной позицией для военных операций против диалектического материализма.
В России возникла в конце прошлого столетия целая школа «марксистов» (Струве, Бердяев, Булгаков и другие), которая хотела дополнить учение Маркса самодовлеющим, т.е. надклассовым нравственным началом. Эти люди начали, конечно, с Канта и категорического императива. Но чем они кончили? Струве ныне – отставной министр крымского барона Врангеля и верный сын церкви; Булгаков – православный священник; Бердяев истолковывает на разных языках Апокалипсис. Столь неожиданная, на первый взгляд, метаморфоза объясняется отнюдь не «славянской душой» – у Струве немецкая душа, – а размахом социальной борьбы в России. Основная тенденция этой метаморфозы, по существу, интернациональна.
Классический философский идеализм, поскольку он в свое время стремился секуляризовать мораль, т.е. освободить ее от религиозной санкции, представлял огромный шаг вперед (Гегель). Но, оторвавшись от неба, мораль нуждалась в земных корнях. Открыть эти корни и было одной из задач материализма. После Шефтсбери жил Дарвин, после Гегеля – Маркс. Апеллировать ныне к «вечным истинам» морали значит пытаться повернуть колесо назад. Философский идеализм – только этап: от религии к материализму или, наоборот, от материализма к религии.
«Цель оправдывает средства»
Иезуитский орден, созданный в первой половине XVI века для отпора протестантизму, никогда не учил, к слову сказать, что всякое средство, хотя бы и преступное с точки зрения католической морали, допустимо, если только оно ведет к «цели», т.е. к торжеству католицизма. Такая внутренне противоречивая и психологически немыслимая доктрина была злонамеренно приписана иезуитам их протестантскими, а отчасти и католическими противниками, которые не стеснялись в средствах для достижения своей цели. Иезуитские теологи, которых, как и теологов других школ, занимал вопрос о личной ответственности, учили на самом деле, что средство само по себе может быть индифферентным, но что моральное оправдание или осуждение данного средства вытекает из цели. Так, выстрел сам по себе безразличен, выстрел в бешеную собаку, угрожающую ребенку, – благо; выстрел с целью насилия или убийства – преступление. Ничего другого, кроме этих общих мест, богословы ордена не хотели сказать. Что касается их практической морали, то иезуиты вовсе не были хуже других монахов или католических священников; наоборот, скорее возвышались над ними, во всяком случае, были последовательнее, смелее и проницательнее других. Иезуиты представляли воинствующую организацию, замкнутую, строго централизованную, наступательную и опасную не только для врагов, но и для союзников. По психологии и методам действий иезуит «героической» эпохи отличался от среднего кюре, как воин церкви от ее лавочника. У нас нет основания идеализировать ни того, ни другого. Но совсем уж недостойно глядеть на фанатика-воина глазами тупого и ленивого лавочника.
Если оставаться в области чисто формальных или психологических уподоблений, то можно, пожалуй, сказать, что большевики относятся к демократам и социал-демократам всех оттенков, как иезуиты – к мирной церковной иерархии. Рядом с революционными марксистами социал-демократы и центристы кажутся умственными недорослями или знахарями рядом с докторами: ни одного вопроса они не продумывают до конца, верят в силу заклинаний и трусливо обходят каждую трудность в надежде на чудо. Оппортунисты – мирные лавочники социалистической идеи, тогда как большевики – ее убежденные воины. Отсюда ненависть к большевикам и клевета на них со стороны тех, которые имеют с избытком их исторически обусловленные недостатки, но не имеют ни одного из их достоинств.
Однако сопоставление большевиков с иезуитами остается все же совершенно односторонним и поверхностным, скорее литературным, чем историческим. В соответствии с характером и интересами тех классов, на которые они опирались, иезуиты представляли реакцию, протестанты – прогресс. Ограниченность этого «прогресса» находила, в свою очередь, прямое выражение в морали протестантов. Так, «очищенное» им учение Христа вовсе не мешало городскому буржуа Лютеру призывать к истреблению восставших крестьян, как «бешеных собак». Доктор Мартин считал, очевидно, что «цель оправдывает средства» еще прежде, чем это правило было приписано иезуитам. В свою очередь, иезуиты в соперничестве с протестантизмом все больше приспособлялись к духу буржуазного общества и из трех обетов, бедности, целомудрия и послушания, сохраняли лишь третий, да и то в крайне смягченном виде. С точки зрения христианского идеала, мораль иезуитов падала тем ниже, чем больше они переставали быть иезуитами. Воины церкви становились ее бюрократами и, как все бюрократы, изрядными мошенниками.
Иезуитизм и утилитаризм
Эта краткая справка достаточна, пожалуй, чтоб показать, сколько нужно невежества и ограниченности, чтоб брать всерьез противопоставление «иезуитского» принципа «цель оправдывает средства» другой, очевидно, более высокой морали, где каждое «средство» несет на себе свой собственный нравственный ярлычок, как товары в магазинах с твердыми ценами. Замечательно, что здравый смысл англосаксонского филистера умудряется возмущаться «иезуитским» принципом и одновременно вдохновляться моралью утилитаризма, столь характерной для британской философии. Между тем критерий Бентама – Джона Милля «Возможно большее счастье возможно большего числа» («The greatest possible happiness of the greatest possible number») означает: моральны те средства, которые ведут к общему благу как высшей цели109109
Троцкий говорит о «моральной максиме утилитаризма»: нравственны те поступки человека, которые уменьшают его страдания и увеличивают наслаждения, каждый должен заботиться только о себе самом, тогда «сама собой» будет складываться «общая польза» – «наибольшее счастье наибольшего числа людей». Максима введена Иеремией Бентамом (1748—1832) – английским правоведом и моралистом, основоположником этики утилитаризма, циничного буржуазного подхода к морали. Милль Джон Стюарт (1806—1873) – знаменитый английский экономист, логик и философ-позитивист. В области этики был учеником и последователем Бентама (собственно, Милль и ввел термин «утилитаризм»), но, смущенный бентамовским цинизмом, пытался ввести в свои построения «принцип альтруизма», не замечая, что это противоречит логике утилитаризма. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть]. В своей общей философской формулировке англосаксонский утилитаризм полностью совпадает, таким образом, с «иезуитским» принципом «цель оправдывает средства». Эмпиризм, как видим, существует на свете для того, чтоб освобождать от необходимости сводить концы с концами.
Герберт Спенсер110110
Спенсер Герберт (1820—1903) – английский философ, один из основоположников позитивизма. Идеи Спенсера оказали огромное влияние на русских народников и эсеров. В области этики Спенсер пытался дополнить утилитаризм примитивным дарвинизмом: полагал, в частности, что мораль возникла в ходе борьбы за существование – как продукт удовольствия от положительной оценки действий индивидуума остальным племенем и закрепления этого ощущения по наследству в ходе естественного отбора. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть], эмпиризму которого Дарвин привил идею «эволюции», как прививают оспу, учил, что в области морали эволюция идет от «ощущений» к «идеям». Ощущения навязывают критерий непосредственного удовольствия, тогда как идеи позволяют руководствоваться критерием будущего, более длительного и высокого удовольствия. Критерием морали является, таким образом, и здесь «удовольствие» или «счастье». Но содержание этого критерия расширяется и углубляется в зависимости от уровня «эволюции». Таким образом, и Герберт Спенсер, методами своего «эволюционного» утилитаризма, показал, что принцип «цель оправдывает средства» не заключает в себе ничего безнравственного.
Наивно, однако, было бы ждать от этого абстрактного «принципа» ответа на практический вопрос: что можно и чего нельзя делать? К тому же принцип «цель оправдывает средства», естественно, порождает вопрос: а что же оправдывает цель? В практической жизни, как и в историческом движении, цель и средство непрерывно меняются местами. Строящаяся машина является «целью» производства, чтоб, поступив затем на завод, стать его «средством». Демократия является в известные эпохи «целью» классовой борьбы, чтоб превратиться затем в ее «средство». Не заключая в себе ровно ничего безнравственного, так называемый иезуитский принцип не разрешает, однако, проблему морали.
«Эволюционный» утилитаризм Спенсера также покидает нас без ответа на полпути, ибо, вслед за Дарвином, пытается растворить конкретную историческую мораль в биологических потребностях или в «социальных инстинктах», свойственных стадным животным, тогда как самое понятие морали возникает лишь в антагонистической среде, т.е. в обществе, расчлененном на классы.
Буржуазный эволюционизм останавливается бессильно у порога исторического общества, ибо не хочет признать главную пружину эволюции общественных форм: борьбу классов. Мораль есть лишь одна из идеологических функций этой борьбы. Господствующий класс навязывает обществу свои цели и приучает считать безнравственными все те средства, которые противоречат его целям. Такова главная функция официальной морали. Она преследует «возможно большее счастье» не большинства, а маленького и все уменьшающегося меньшинства. Подобный режим не мог бы держаться и недели на одном насилии. Он нуждается в цементе морали. Выработка этого цемента составляет профессию мелкобуржуазных теоретиков и моралистов. Они играют всеми цветами радуги, но остаются в последнем счете апостолами рабства и подчинения.
«Общеобязательные правила морали»
Кто не хочет возвращаться к Моисею, Христу или Магомету, ни довольствоваться эклектической окрошкой, тому остается признать, что мораль является продуктом общественного развития; что в ней нет ничего неизменного; что она служит общественным интересам; что эти интересы противоречивы; что мораль больше, чем какая-либо другая форма идеологии, имеет классовый характер.
Но ведь существуют же элементарные правила морали, выработанные развитием человечества как целого и необходимые для жизни всякого коллектива? Существуют, несомненно, но сила их действия крайне ограничена и неустойчива. «Общеобязательные» нормы тем менее действительны, чем более острый характер принимает классовая борьба. Высшей формой классовой борьбы является гражданская война, которая взрывает на воздух все нравственные связи между враждебными классами.
В «нормальных» условиях «нормальный» человек соблюдает заповедь «не убий!». Но если он убьет в исключительных условиях самообороны, то его оправдают присяжные. Если, наоборот, он падет жертвой убийцы, то убийцу убьет суд. Необходимость суда, как и самообороны, вытекает из антагонизма интересов. Что касается государства, то в мирное время оно ограничивается легализованными убийствами единиц, чтобы во время войны превратить «общеобязательную» заповедь «не убий!» в свою противоположность. Самые «гуманные» правительства, которые в мирное время «ненавидят» войну, провозглашают во время войны высшим долгом своей армии истребить как можно большую часть человечества.
Так называемые общепризнанные правила морали сохраняют, по существу своему, алгебраический, т.е. неопределенный характер. Они выражают лишь тот факт, что человек в своем индивидуальном поведении связан известными общими нормами, вытекающими из его принадлежности к обществу. Высшим обобщением этих норм является «категорический императив» Канта. Но, несмотря на занимаемое им на философском Олимпе высокое положение, этот императив не содержит в себе ровно ничего категорического, ибо ничего конкретного. Это оболочка без содержания111111
«Категорический императив» И. Канта, действительно, носит не конкретный, а формальный характер, поскольку не содержит прямых указаний на моральность тех или иных действий. «Категорический императив» лишь требует, чтобы каждый индивид поступал так, чтобы правила его поведения могло служить правилом поведения для всех остальных индивидов. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть].
Причина пустоты общеобязательных форм заключается в том, что во всех решающих вопросах люди ощущают свою принадлежность к классу гораздо глубже и непосредственнее, чем к «обществу». Нормы «общеобязательной» морали заполняются на деле классовым, т.е. антагонистическим содержанием. Нравственная норма становится тем категоричнее, чем менее она «общеобязательна». Солидарность рабочих, особенно стачечников или баррикадных бойцов, неизмеримо «категоричнее», чем человеческая солидарность вообще.
Буржуазия, которая далеко превосходит пролетариат законченностью и непримиримостью классового сознания, жизненно заинтересована в том, чтоб навязать свою мораль эксплуатируемым массам. Именно для этого конкретные нормы буржуазного катехизиса прикрываются моральными абстракциями, которые ставятся под покровительство религии, философии или того ублюдка, который называется «здравым смыслом». Апелляция к абстрактным нормам является не бескорыстной философской ошибкой, а необходимым элементом в механике классового обмана. Разоблачение этого обмана, который имеет за собой традицию тысячелетий, есть первая обязанность пролетарского революционера.
Кризис демократической морали
Чтоб обеспечить торжество своих интересов в больших вопросах, господствующие классы вынуждены идти во второстепенных вопросах на уступки, разумеется, лишь до тех пор, пока эти уступки мирятся с бухгалтерией. В эпоху капиталистического подъема, особенно в последние десятилетия перед войной, эти уступки, по крайней мере, в отношении верхних слоев пролетариата, имели вполне реальный характер. Промышленность того времени почти непрерывно шла в гору. Благосостояние цивилизованных наций, отчасти и рабочих масс, поднималось. Демократия казалась незыблемой. Рабочие организации росли. Вместе с тем росли реформистские тенденции. Отношения между классами, по крайней мере внешним образом, смягчались. Так устанавливались в социальных отношениях, наряду с нормами демократии и привычками социального мира, некоторые элементарные правила морали. Создавалось впечатление все более свободного, справедливого и гуманного общества. Восходящая линия прогресса казалась «здравому смыслу» бесконечной.
Вместо этого разразилась, однако, война, со свитой потрясений, кризисов, катастроф, эпидемий, одичания. Хозяйственная жизнь человечества зашла в тупик. Классовые антагонизмы обострились и обнажились. Предохранительные механизмы демократии стали взрываться один за другим. Элементарные правила морали оказались еще более хрупкими, чем учреждения демократии и иллюзии реформизма. Ложь, клевета, взяточничество, подкуп, насилия, убийства получили небывалые размеры. Ошеломленным простакам казалось, что все эти неприятности являются временным результатом войны. На самом деле они были и остаются проявлениями империалистского упадка. Загнивание капитализма означает загнивание современного общества, с его правом и моралью.
«Синтезом» империалистской мерзости является фашизм как прямое порождение банкротства буржуазной демократии пред лицом задач империалистской эпохи. Остатки демократии продолжают держаться еще только в наиболее богатых капиталистических аристократиях: на каждого «демократа» в Англии, Франции, Голландии, Бельгии приходится некоторое число колониальных рабов; демократией Соединенных Штатов командуют «60 семейств»112112
60 крупнейших финансово-промышленных семейств, реально управляющих США. Термин порожден книгой известного американского журналиста, финансового обозревателя «Нью-Йорк геральд трибюн» Ф. Ландберга «60 семейств Америки» (другое название – «60 семейств, что правят Америкой»), впервые изданной в 1937 г. В 1948 г. книга была переведена на русский язык. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть] и пр. Во всех демократиях быстро растут к тому же элементы фашизма. Сталинизм есть, в свою очередь, продукт империалистского давления на отсталое и изолированное рабочее государство, своего рода симметричное дополнение фашизма.
В то время как идеалистические филистеры – анархисты, конечно, на первом месте – неутомимо обличают марксистский «аморализм» в своей печати, американские тресты расходуют, по словам Джона Льюиса (CIO)113113
Льюис Джон Ллевелин (1880—1969) – американский профсоюзный деятель. В 1920—1960 гг. – председатель Объединенного профсоюза горняков США. В 20—30-е гг. – руководитель меньшинства в АФТ, выступавшего за построение профсоюзов не по цеховому, а по производственному принципу. В 1935—1940 гг. – председатель КПП (CIO). – Примеч. науч. ред.
[Закрыть], не менее восьмидесяти миллионов долларов в год на практическую борьбу с революционной «деморализацией», т.е. на шпионаж, подкуп рабочих, фальшивые обвинения и убийства из-за угла. Категорический императив выбирает иногда обходные пути для своего торжества!114114
Троцкий намекает на то, что – в строгом соответствии с «категорическим императивом» Канта – до тех пор, пока хоть один из индивидов прибегает к классовому насилию, и все остальные вынуждены будут прибегать к классовому насилию (или пасть жертвой такого насилия). – При-меч. науч. ред.
[Закрыть]
Отметим для справедливости, что наиболее искренние и вместе наиболее ограниченные мелкобуржуазные моралисты живут и сегодня еще идеализированными воспоминаниями вчерашнего дня и надеждами на его возвращение. Они не понимают, что мораль есть функция классовой борьбы;
что демократическая мораль отвечала эпохе либерального и прогрессивного капитализма; что обострение классовой борьбы, проходящее через всю новейшую эпоху, окончательно и бесповоротно разрушало эту мораль; что на смену ей пришла мораль фашизма, с одной стороны, мораль пролетарской революции – с другой.
«Здравый смысл»
Демократия и «общепризнанная» мораль являются не единственными жертвами империализма. Третьим пострадавшим является «общечеловеческий» здравый смысл. Эта низшая форма интеллекта не только необходима при всех условиях, но и достаточна при известных условиях. Основной капитал здравого смысла состоит из элементарных выводов общечеловеческого опыта: не класть пальцев в огонь, идти по возможности по прямой линии, не дразнить злых собак… и пр., и пр. При устойчивости социальной среды здравый смысл оказывается достаточен, чтоб торговать, лечить, писать статьи, руководить профессиональным союзом, голосовать в парламенте, заводить семью и плодить детей. Но когда тот же здравый смысл пытается выйти за свои законные пределы на арену более сложных обобщений, он обнаруживает себя лишь как сгусток предрассудков определенного класса и определенной эпохи. Уже простой капиталистический кризис ставит здравый смысл в тупик; а пред лицом таких катастроф, как революции, контрреволюции и войны, здравый смысл оказывается круглым дураком. Для познания катастрофических нарушений «нормального» хода вещей нужны более высокие качества интеллекта, философское выражение которым дал до сих пор только диалектический материализм.
Макс Истмен, который с успехом стремится сообщить «здравому смыслу» как можно более привлекательную литературную форму, сделал себе из борьбы с диалектикой нечто вроде профессии. Консервативные банальности здравого смысла в сочетании с хорошим стилем Истмен всерьез принимает за «науку революции». Поддерживая реакционных снобов из «Common Sense», он с неподражаемой уверенностью поучает человечество, что если б Троцкий руководствовался не марксистской доктриной, а здравым смыслом, то он… не потерял бы власти. Та внутренняя диалектика, которая проявлялась до сих пор в чередовании этапов во всех революциях, для Истмена не существует. Смена революции реакцией определяется для него недостаточным уважением к здравому смыслу, Истмен не понимает, что как раз Сталин оказался в историческом смысле жертвой здравого смысла, т.е. его недостаточности, ибо та власть, которою он обладает, служит целям, враждебным большевизму. Наоборот, марксистская доктрина позволила нам своевременно оторваться от термидорианской бюрократии и продолжать служить целям международного социализма.