Текст книги "Здесь и сейчас"
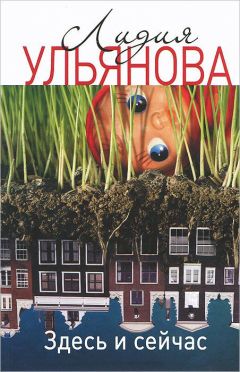
Автор книги: Лидия Ульянова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Не уверена, что тысячу лет назад в Центральной Африке была жизнь, – заметила я, – что-то они за тысячу лет не сильно продвинулись в развитии.
– Да какая разница! – Эрика воскликнула с таким пылом, как будто сама была автором теста. – Тут и отзывы есть, люди пишут, что все правда.
– Помнят, что ли? – сыронизировала я. Даже мне в моем теперешнем состоянии не всегда удается с точностью определить, где кончается правда и начинается вымысел.
– Вот давай я тебя проверю, и ты сразу перестанешь язвить. Как ты не понимаешь, можно узнать о себе такое! Такое!
– Эрика, но это не о себе, это о ком-то другом, к кому ты не имеешь ни малейшего отношения. Скажи, что может связывать Гюнтера с колдуньей из Бирмы? Как это можно реализовать…. Как там у тебя?
– В нынешней ступени реинкарнации, – старательно выговорила Эрика.
– Да. Его колдунья, быть может, не выпускала изо рта ритуальной трубки, курила зелье и от этого впадала в транс. Поэтому наш старина Гюнтер дымит как паровоз? Слушай, а ведь и правда замечательный тест, все что угодно можно оправдать издержками прошлой жизни. Ладно, валяй, тестируй, – согласилась я, лишь бы отвязаться.
– «Вы родились в XI веке в Египте и были мужчиной. Ваш талант и красноречие выделяли вас из толпы. В прошлой жизни вы были проповедником или известным автором древних рукописей», – зачитала вердикт Эрика. – Хм, не похоже…
– На что не похоже?
– Ну, ты была чернокожей.
– Я была чернокожим. Мужчиной. А ты что, домохозяйка из Центральной Африки, белой была, что ли? Да и Гюнтер, тетка из Бирмы, тоже не истинный ариец. Слушай, а что-нибудь менее экзотическое там есть?
– Разумеется, есть. – Эрика снова углубилась в свой глянец. – Вот, «женщина знатного рода, жила в Шотландии в XVI веке» или «Вы были мужчиной, колдуном или охотником за ведьмами. Жили в XVII веке в Англии».
– А еще? – заинтересовалась я, сама того не заметив.
– Еще: «Вы родились в I веке в Малой Азии и были мужчиной. Ваша профессия была – строитель храмов и дорог», «Вы были женщиной, жили в Австралии в конце XVIII века. Специальность ваша была связана с землей. Скорее всего, вы были в числе первых переселенцев и осваивали новый континент», «Вы были мужчиной, жили на Крайнем Севере в XIX веке. Род занятий – собирательство и охота. Вы были очень храбрым человеком», «Вы родились в Греции в Х веке и были мужчиной. Имели дело с рыбой. Возможно, были поваром или рыбаком», «В прошлой жизни вы были женщиной и жили в Румынии в XV веке. В вас было много отваги. Вы были защитницей дома»…
Тщательно подсчитав, набралось чуть более десятка вариантов, один другого хлеще.
– Эрика, – осторожно спросила я, – а тебе не кажется, что вариантов маловато? Получается, что каждый десятый в прошлой жизни был охотником за ведьмами. Да во всей средневековой Европе жителей столько не было, сколько получается охотников. На каждого ведьмы не напасешься. Видела по телевизору, русский Путин снежных барсов спасает, которых браконьеры истребили? Так браконьеров всяко меньше было, чем твоих ведьмачьих охотников.
Зачем я стала с ней спорить? Настроение у Эрики испортилась, она расстроилась.
Я, чтобы не продолжать глупых разговоров, пошла к Гюнтеру.
В кабинете шефа было нестерпимо холодно – несмотря на разгар зимы, он устанавливал конвектор на самый минимум. Думаю, что он вообще бы его выключал, если б не беспокоился за живущего в кабинете Профессора. А кот, видимо, подмерзал, потому что норовил при первой возможности прошмыгнуть в открытую дверь и залечь на теплой батарее в коридоре. Мы даже не загоняли его обратно, жалели старика Профессора, который в благодарность вел себя прилично и даже не гадил по углам.
– Какие планы на каникулы? – поинтересовался Гюнтер. При отсутствии у меня планов он всегда был готов предложить свои услуги по нашему с Оливером увеселению.
– Рождество дома, как обычно, – ответила я. – А на Новый год я, похоже, останусь одна. Вчера звонил Юрген, сказал, что его мать празднует юбилей и собирает всю семью у себя. Меня, разумеется, не приглашают, а Оливера бабушка будет счастлива видеть.
– А ты?
– А что я? Я не против. Ты же знаешь, мне нравится, что Оли общается с отцом. И против бабушки я ничего не имею, я сохранила добрые воспоминания о свекрови. Обязательно позвоню и поздравлю. Да, еще: Юрген взял все расходы по поездке на себя и обещал дать мне денег – его бизнес наконец-то оправился от предыдущих потрясений. Не знаю, сколько продлится это благоденствие, ведь у всех сейчас непростые времена.
– Это точно, – со вздохом подтвердил Гюнтер. – Но, если захочешь, ты всегда можешь приехать к нам. Мы тоже с Вейлой будем одни в Новый год.
Я поблагодарила, обещала подумать и вернулась на рабочее место, пока окончательно не продрогла и не заболела. Тем более что до каникул было еще далеко.
Эрика все еще дулась и весь день провела в молчании. Я не знала, что мне делать. Извиняться было как-то глупо, лезть с разъяснениями неуместно.
Нет, все-таки редкая чушь!
Тем более что подробности своей прошлой жизни я регулярно узнаю безо всяких дешевых тестов. Вот как раз завтра поеду в Бремен и разузнаю.
– Таня, вы не против, если это будет наш последний сеанс в этом году? – задал вопрос профессор Шульц. – Дело в том, что я должен на несколько дней уехать в Берлин, а потом у нас с женой рождественский круиз по Средиземному морю. Дети сделали подарок.
Не было смысла возражать – мое мнение в данном случае ничего не меняло.
– Конечно, нет. Я подожду вашего возвращения. А когда вы вернетесь, загорелый и отдохнувший, мы сможем продолжить, не правда ли?
– Разумеется. И вы используйте это время с пользой, постарайтесь сосредоточиться на праздниках и больше ни о чем не думать. Только положительные эмоции, здоровый сон и хороший стол.
– Именно так и поступлю, профессор.
Что ж, приступим.
Жарко и тесно. Что-то тяжелое навалилось на меня сбоку, навалилось и печет. И шея затекла. Я пытаюсь повернуть голову, но получается плохо – мои волосы тоже придавлены, и попытка пошевелить головой вызывает ощутимые неудобства.
Такое живое тепло чувствуешь на даче, когда просыпаешься на узкой лежанке возле натопленной печки, мастерски сложенной папой. Весной, когда ночуешь первый раз, непроветренное белье так же пахнет лежалым. Только там ничего не давит со стороны и не ловит в капкан волосы.
Но отчего же так хорошо? Откуда внутри меня это поразительное чувство легкости и необъяснимого, щенячьего восторга? В теле ощущение приятной усталости, будто я долго-долго летала и наконец-то приземлилась.
Для полного счастья осталось лишь открыть глаза и увидеть вокруг себя рай. В существование рая я не верю, поэтому открывать глаза не тороплюсь.
Я покачала головой. Неожиданно сбоку раздалось странное шевеление, сопровождаемое негромким сопением. Пришлось все же открыть глаза, и первое, что я увидела, – циферблат часов, показывающих без пяти семь. Утра или вечера? В это время года трудно понять так сразу…
От неожиданности я вздрогнула, резко дернулась в сторону, чуть не упала со своего лежбища и открыла глаза. В упор на меня смотрела другая пара глаз.
И я мгновенно все вспомнила.
Я пришла к Давиду уже в третий раз. Как он и обещал, «все пристойно, только портрет». Он пододвигал кресло ближе к окну, чтобы правильно падал свет, усаживал меня полубоком и принимался за работу. Странное дело, вместо холста он использовал обычные обои, отрывая от целого куска и переворачивая вниз цветочками. И рисовал такой коричневой палочкой, похожей на восковой мелок и носящей смешное имя сангина. Сангина-ангина. Когда ему что-то не нравилось, он перечеркивал набросок так, что ломалась палочка, и нетерпеливо отрывал от рулона новый лист.
Все происходило в полном молчании, только иногда прерываемом командой поднять голову или не шевелить бровями. После того, первого вечера, когда мы заблудились в парке и не могли наговориться, между нами было сказано всего несколько фраз. Но меня это молчание не тяготило. Я просто сидела и смотрела на него. Вроде бы пустое и глупое занятие – сидеть без движения, таращиться в одну точку, но мне нравилось. Нравилось даже то, что не нужно пыжиться, пытаясь казаться умной, выдавливать из себя фразы, подразумевающие глубокий смысл. Казалось, что к третьему визиту я и так знала о нем все.
Все, что мне нужно знать.
Я знала, как он сердится и как одним лицом может выразить неудовольствие, если «натура» начинает без спросу шевелиться. Знала, как он непроизвольно морщится, когда хотелось курить, но было жаль бросать удачно идущую работу. Точно знала, что сейчас наступит момент, когда по мне крест-накрест, жирно проедется палочка сангины и я в очередной раз, скомканная, полечу в угол, чтобы потом отправиться в помойное ведро.
Я думала о том, что когда-нибудь его работа закончится, я обрету, наконец, достойную форму и наступит пора прощаться. По тому, как исступленно он творил, было похоже, что портрет мне не достанется, – кто ж по собственной воле отдаст то, на что положено столько сил? В идеале мне подарят пару хороших, но не идеальных набросков. Что ж, и то хлеб… Но, удивительное дело, мне будет не хватать этих поездок в выходной через весь город, этого бездвижного, безмолвного времяпровождения в чужой квартире.
Ход моих лениво текущих мыслей резко оборвал звонок в дверь, я вздрогнула от неожиданности и дернула головой. Давид издал похожий на рычание звук неудовольствия. Я поспешила вернуть голову на место, прежде чем сообразила – причина ярости вовсе не во мне. Мы оба замерли в тайной надежде, что незваные гости позвонят-позвонят и пойдут своей дорогой. Не тут-то было, прерывистая трель слилась в единый набатный звон, сопровождающийся буханьем ногой в дверь. Давид пробурчал под нос нечто невнятное, надо думать страшное грузинское ругательство, и пошел открывать.
Из прихожей донеслось мелкое топотание каблучков и голоса, переходящие в визг:
– Ой, приветик, Давидик! Уии!
– А мы к тебе кино смотреть! Уии! Сейчас Наумчик с Борей придут, за коньяком пошли.
– Послушайте, девочки, – в голосе хозяина сквозило неприкрытое раздражение, – я работаю, вы мне будете мешать.
– Давидик, не будь букой, сегодня же суббота! Ну кто работает в субботу?
– Я работаю. Меня может вообще не быть дома…
Девочки, не обращая внимания на недовольство, раздевались – было слышно, как полетели на пол сапожки, шелестели снимаемые дутые пальто.
– Когда тебя нет дома, ты ключ оставляешь под ковриком. А раз ключа нет, значит – ты дома.
– Ты почему так долго не открывал? – Грудастая Инга, с которой я познакомилась при первом визите в эту квартиру, вплыла в комнату, словно старинный шведский корабль с рострой на носу. – Ой, Надежда, и ты здесь! Вы поэтому так долго не открывали? Ха-ха!
– Надо же, добилась своего – Давид рисует твой портрет! – В комнате материализовалась вторая девица, ее я тоже уже имела счастье видеть.
Я застыла в раздумье: нужно ли признаваться, что я не Надежда? Да нет, им ведь все равно.
– Надька, кино будем смотреть?
От воспоминаний о кино меня передернуло.
– Спасибо, девочки, но мне пора. Я должна была сегодня поработать. Надо бежать, пока Наум здесь не застукал. Вы ведь меня не выдадите, да? – Я, тщательно пытаясь изобразить из себя сестру, пошла одеваться.
Давид в прихожей ногой нервно сгребал под вешалку женские сапоги. Выглядел он огорченным: нужно было сидеть тихо и дверь не открывать, постучали бы и ушли.
Мне стало его жаль, я улыбнулась, вложив в улыбку максимум позитива.
– Я провожу, – предложил он, и акцент прозвучал четче обычного. – Одевайся пока.
Он вернулся в комнату только для того, чтобы убрать многочисленные наброски. Сложил их беспорядочно в кучу, отнес в другую комнату и закрыл ее на ключ. Молча оделся, не подержав мне пальто, молча вышел на лестничную площадку. Казалось, ему совершенно безразлично, что будет происходить в квартире в его отсутствие.
Нам повезло – по дороге к метро мы не встретились с Наумом и Манеевым. Хоть одно приятное обстоятельство.
– Мне не домой, – сообщила я возле входа в метро. – Мне нужно заехать на Ракова, Кира просила цветочные горшки забрать для рассады. Так что ты иди, я надолго: хочу еще там пыль протереть, пол помыть.
Свою старую комнату в нашей прежней квартире Кирочка держала запертой, но никому не сдавала. Может быть, ей нужна была уверенность, что всегда может вернуться обратно? Когда они ругались с мамой, Кира иногда вслух напоминала об этом. Пока же у Киры мы хранили вещи, которые не нужны, а жаль выбросить.
За прошедшие пятнадцать лет в квартире многое изменилось. В одной нашей комнате поселилась семья с маленьким мальчиком, в другой – отслуживший в армии парень, большевичка Александра Тихоновна умерла, и ее комнату отдали тишайшему театральному суфлеру. Только в Кирочкиной комнате все оставалось по-прежнему и на своих местах. Странное дело – никто не жил, а пыль копилась регулярно.
– Я могу тебе помочь, хочешь? – предложил он равнодушно.
Мне стало смешно: я не могла себе представить Давида с влажной тряпкой в руках, протирающим пыль с дореволюционной этажерки. Но и прогнать его я не решилась…
И вот теперь я лежу и смотрю на него. У него темные-темные глаза, и кажется, что еще чуть-чуть – и меня затянет в них, как в омут. И, удивительно, я не чувствую ни малейшего смущения.
Мы не вытерли пыль и не вымыли пол, все случилось как-то сразу, как только мы оказались здесь. Меня потянуло к нему с непреодолимой силой, как тянет к полюсу магнита одинокую металлическую стружечку. Ему было достаточно лишь взять меня за плечи и развернуть к себе. Я не помню подробностей, но точно знаю, что это было лучшее, что случалось со мной. Всю сознательную жизнь мне хотелось прыгнуть с парашютом, искупаться в водопаде и погонять на огромной скорости на мотоцикле. Так вот, мечты мои больше не были актуальны – только что я летала, парила и ныряла. Но неожиданно все закончилось, в то, что подобное может повториться, я слабо верила, что дальше делать, не знала. Нужно было что-то сказать?
– Ты как? – шепотом спросил он. От его голоса по телу побежали добрые мурашки. – Больно было?
– Чуть-чуть, – шепотом призналась я.
Он потянулся и поцеловал меня – сначала в один глаз, а потом в другой:
– Прости. В следующий раз уже не будет.
Что, будет следующий раз? И я поняла, что непременно будет, не может не быть. Я просто умру, если он больше ко мне не прикоснется. Я потеряю смысл жизни.
– Давай вставать. – Он зашевелился, повернулся, и мои волосы освободились из плена. Захотелось, чтобы лег обратно. Я подвинулась поближе, ощущая голым животом жар его тела. – Отодвинься и вставай, пол мыть будем.
Почувствовал мою неуверенность и обиду, снова поцеловал:
– Вставай, а то я за себя не ручаюсь…
Для Веры началась новая жизнь. Странная и прекрасная, в которой она ощущала себя центром Вселенной.
В этой жизни полностью отсутствовал какой бы то ни было негатив, переполненная чувствами, Верочка любила всех и вся, каждому готова была броситься на шею в порыве нежности. У нее все получалось, все выходило. Хвалили репетиторы за острый ум, хвалил завкафедрой за быстроту и огонек в работе, и даже Реник почувствовал нечто такое, что начал безошибочно отделять ее от сестры и перестал распускать руки.
Даже Наде, быстро прознавшей о романе сестры, не удавалось раздуть конфликт. Надежда, остро ревновавшая Давида к сестре, метала громы и молнии, обещала пожаловаться маме и все рассказать Вовику. Угрозы не имели никакого действия, Вера была бы только рада, если бы Уолтер узнал. Она сама хотела ему рассказать, но не смогла обидеть, решила в следующий раз – надо было прежде как-то отрепетировать речь на английском, чтобы и не оскорбить жениха, и не обнадеживать. То, что свадьбе не бывать, для Веры было вопросом решенным: о каком браке может идти речь, если ей никто другой теперь не нужен?
Любомиру приходилось, как прежде, выступать примиряющей стороной, урезонивать скандалившую Надежду. Правда, делал он это все хуже – по вечерам частенько находился в пьяном забытьи, а утром маялся тяжким похмельем. В трезвые же перерывы строил планы триумфального возвращения в большой спорт, чем выводил из себя Надежду и Киру. Еще больше выводил из себя регулярным выклянчиванием денег: на институтскую стипендию не больно-то пожируешь. Одна счастливая Вера поддерживала в нем веру, только она верила в брата и по возможности ссужала из личного скудного бюджета.
Кира, как ни странно, в спорах сестер заняла Верину сторону и строго настрого запретила Наде сообщать что-либо матери. Скоро мать приедет в отпуск – сама во всем разберется. Положа руку на сердце, Кира понимала, что, была бы дома Марина, не допустила бы этой любовной истории. А впрочем, как знать? Богатый педагогический опыт подсказывал, что как раз с такими послушными и покладистыми девочками, как Вера, теми, что в народе называются «в тихом омуте», и возникают подчас самые большие проблемы: захочешь, а с пути не собьешь.
Но пахучие сердечные капли Кира пила все чаще. Особенно пила после того, как Надька умыкнула из Давидовой квартиры и притащила домой набросок к портрету Веры – вещественное доказательство грехопадения. Верочка на том рисунке сидела в позе васнецовской Аленушки у ручья, только не на камне, а на постели, и одежда отсутствовала как таковая. Кусок обоев с тщательно прорисованными карандашными линиями Надька демонстративно прикнопила на дверь туалета на всеобщее обозрение. Кира рисунок сразу сняла, унесла к себе и долго разглядывала через очки. «Какая красивая девочка выросла. А достанется басурманину», – услышала проходящая мимо двери Надя. Кого имела в виду Кира – канадского стоматолога или грузинского художника – для Надежды осталось загадкой, она была склонна думать, что Давидика.
И только собака Ласка никак не меняла своего к Вере отношения, как и прежде, бросалась навстречу при ее приходе, яростно лизала руки и тоненько радостно повизгивала, умоляя не исчезать надолго, – не у кого было в ногах спать, когда ее хозяйка не ночевала дома.
На всякий случай Надежда при первом удобном случае просветила вероломного горца, что сестренка-то просватана, но это не возымело должного действия – Давид не отреагировал никак, только безразлично пожал плечами. Для него это известие не было новостью – Вера сама рассказала, причем как о собственном прошлом.
Вера же, несмотря ни на что, продолжала чувствовать себя на седьмом небе. Оказываясь рядом с Давидом, она забывала и о претензиях сестры, и о больном сердце Киры, и о выкрутасах брата. Она чувствовала себя хозяйкой дома и вымыла до блеска прежде неухоженную съемную квартирку Давидика. Она с удовольствием поглощала диковинные блюда, которыми кормил ее Давид, и даже сама научилась готовить сациви и пхали – лишь бы он был доволен. Она чувствовала себя Музой и жестко выставила за порог прежних бесцеремонных гостей – мастера не должны отвлекать от работы чужие посиделки и бесстыдные киносеансы. Да она и сама теперь могла дать фору любой Эммануэли, ничуть не смущаясь, – но только по отношению к любимому мужчине. Любимый же мужчина ее проявлениям чувств нисколько не противился, относился нежно и с пониманием. Он, искушенный и избалованный женским вниманием, впервые столкнулся с таким отношением со стороны противоположного пола, когда все предельно бескорыстно, нараспашку, на износ, на разрыв. Давид чувствовал к этой девочке неведомую прежде сильную привязанность, тосковал, когда ее не было рядом, душой болел за нее, переживал. Он послушно ходил с ней вместе на вступительные экзамены и волновался, как мальчишка, пока она сдавала. Может быть, именно это помогло Вере легко сдать все предметы, набрать проходной балл. И никакие репетиторы тут были ни при чем.
– Знаешь, скоро Уолтер приезжает, – сообщила Вера, уютно пригревшаяся под надежным боком любимого. Как бы между прочим сообщила, равнодушно, но с легким неудовольствием. Ей просто хотелось, чтобы Давид сочувственно улыбнулся, покрепче прижал к себе, пожалел. – Он вчера звонил, сказал, что уже оформил тур и есть билет.
Для нее это было всего лишь досадной неприятностью, такой же, как и предстоящий разговор с матерью. Ведь все же решено и все понятно, дураку понятно, что никакой свадьбы, никакого заморского вояжа быть теперь не может, судьба – так вышло – заложила вираж и вынесла к другому берегу. Она, кстати, честно пыталась поговорить с Уолтером, но тот то ли не понял, то ли не захотел понять, объяснил ее слова обычным предсвадебным девичьим мандражом, пообещал поскорее приехать, чтобы успокоить, и особо нажал на тот факт, что договорился о хорошей скидке в свадебном салоне.
Давид сочувственно улыбнулся, прижал к себе, но было в его взгляде нечто важнее жалости.
Ему была очень дорога эта девочка, что вошла в его жизнь с какой-то щенячьей доверчивостью, с изумляющей открытостью. Она принимала его таким, каков он есть, не требовала призов и бонусов, соглашалась со всеми решениями. Рядом с ней он чувствовал себя героем, сильным, умным и справедливым. Витязем в тигровой шкуре. Так могло бы продолжаться долго.
Но лишний десяток лет – против Вериных восемнадцати – делали его не то чтобы мудрее, но взрослей и прагматичней. Ему не хотелось говорить этих слов, но, не сказав их, он чувствовал бы себя вором и подлецом:
– Вера, ты не торопись отказываться. Я думаю, что ты должна ехать…
– Куда? – В изумлении она перевернулась и взгромоздилась ему на грудь собственной аккуратной, упругой грудью. Эта грудь – вызывающе белая полоска между загорелым треугольником шеи и плоским золотистым животом – мешала ему сосредоточиться, подобрать правильные слова. – Куда? Ты с ума сошел? Ты имеешь в виду?.. Да нет, ты шутишь! Как тебе не стыдно так шутить!..
Она принялась сердито дубасить его маленьким кулачком в плечо, от чего нахальная обнаженная грудь заколыхалась, заелозила по его телу совсем уж вызывающе и соблазнительно.
– Я не шучу, Вера. – Он решительно отстранился, чтобы не оказаться в пьянящем плену соблазнительной груди, сел в постели, потянулся за сигаретами. – Если ты хорошенько подумаешь, то поймешь…
– Давид… – испуганно прошептала Вера. Так, будто он намеревался отнять у нее воздух, которым она дышала. – Давид… Я совсем тебе не нужна, да? Это все было неправдой, да?
Она скукожилась, обхватила себя руками, подтянула к животу ноги и мелко задрожала, несмотря на летнюю жару. Точно так дрожала собака Ласка, когда сильно нервничала и чего-то боялась или когда ей попадало зазря.
– Да не в этом дело. – Он нервно закурил. Курить не хотелось, сигарета имела горький, противный вкус. Больше всего хотелось вернуться под легкое байковое одеяло, где еще совсем недавно раздавались ее тоненькие постанывания. Но смысла оттягивать неприятный разговор не было – неопределенность только повисла бы между ними, мешая всякой близости. От безысходности, от волнения акцент его стал рельефней, четче: – Ты пойми…
– Я не хочу! Я ничего не хочу понимать… Я ведь знаю, что ты скажешь, да?.. – Вера старательно прижала ладони к ушам, заслоняясь от реальности.
Он курил и спокойно ждал, пока она не высунется из своей раковины. Сказал «А» – говори «Б».
– Я, ты пойми, ничего не смогу тебе дать, – продолжил он, когда Вера высвободила уши. – У меня ведь ничего нет, – он показательно развел руки вверх ладонями, – и в обозримом будущем не будет. Мой потолок – афиши в Доме культуры, а все остальное так, под большим вопросом – то ли купят, то ли нет. Я не Глазунов, мне партийные шишки портреты не заказывают…
– Все-все-все! Я поняла! – перебила Вера, в душе выдохнув: похоже, он не собирался говорить о нелюбви. – Но это все неважно, как ты не понимаешь! Мне ничего не нужно, только чтобы ты…
– Вера, послушай! – теперь уже перебил он. Он начинал сердиться оттого, что она категорически отказывалась внимать. – Посмотри в будущее! Это сейчас у нас с тобой все хорошо, но так не бывает всегда. Так ни у кого не бывает, чтобы навсегда. Это только в сказках «Они жили долго и счастливо и умерли в один день». Я не хочу сказать, что любовь пройдет…
– Давид, ты меня любишь, правда? – задохнулась от радости Вера. Он никогда не произносил этого слова – «любовь».
Ох, лучше б он этого не говорил! Ну что ты будешь с ней делать?
– Не перебивай! Любая любовь, любая – ты понимаешь? – со временем гаснет, тускнеет, она не выдерживает каждодневного употребления. И важно то, что останется, то, что каждый день, понимаешь? А он может тебе дать больше, чем я…
– Да не хочу я, чтобы он мне давал! Он меня покупает…
– Нет, неправда! Ты сама мне говорила, что он заботливый, помнишь? Еще недавно ты считала его вполне подходящим на роль мужа… Вера, ты мне веришь?
– Верю. Конечно…
С его стороны это был запрещенный прием.
– Тогда просто поверь: ты будешь с ним счастлива. – Ее кулачки снова взвились, как для удара. – Тихо, тихо, дай договорить. Ты будешь жить с ним хорошей, успешной жизнью, в хорошей, сытой стране. И будешь вспоминать меня. Сначала часто, а потом все реже, может быть, совсем забудешь. Он покажет тебе мир, он вытащит тебя отсюда.
Кулачки разжались, руки безвольно опустились. Она снова начала подозревать, что не нужна ему. Так, поиграл и хватит.
– На твоем месте миллионы девчонок не раздумывали бы ни минуты. И миллионы взрослых, кстати, тоже. Не считай их всех глупее тебя…
Вера что-то возражала, он что-то отвечал.
В первый раз они поругались по-настоящему. Вера ушла, он не удерживал, в первый раз не проводил.
Рождество подкралось как-то слишком неожиданно. Наверно, незаметно только для меня, слишком занятой собственными переживаниями. Впервые я покупала подарки в последний момент – обычно начинаю готовиться к празднику заранее, составляю список рождественских покупок еще в начале зимы. Если бы не Гюнтер, как и каждый год привезший нам с Оливером в подарок елку, я, возможно, до самой рождественской звезды считала бы, что впереди у меня гора времени. Только увидев на пороге роскошное, пахнущее хвоей чудо с замотанными мешковиной корнями и плотно связанными ветками, я сообразила, что праздник совсем близко. Я мужественно взяла себя в руки и, позвав для компании Наташу, полетела в торговый центр за покупками. Таких забывчивых, как мы, в городе набралось немало – суматоха, что творилась в «Колумбусе», напоминала последние минуты Помпеи. Здесь примеряли, платили, ели и пили в квадрате против обычного. Мы с энтузиазмом влились в мощную струю жаждущих праздников и подарков. И внезапно процесс захватил меня, закружил в водовороте елочной мишуры, трикотажа, игрушек, перчаток и ремней, обувок, столовых приборов, сувениров. Все это было щедро приправлено смехом и музыкой, запахами имбиря, цитрусов и булочек с корицей, декалитрами глинтвейна и кофе. Через четыре часа мы вывалились из магазина оглохшие, объевшиеся, обвешанные пакетами и свертками и абсолютно счастливые.
Наташа на праздники уезжала в Россию к родителям, поэтому наш совместный поход был последней встречей в текущем году. Как обычно перед отъездом, времени катастрофически не хватало, поэтому мы обменялись подарками на скорую руку за чашкой кофе в бистро. Наташа давно уговаривала меня ехать вместе, обещала показать нам с Оливером Москву и накормить настоящими русскими мамиными щами, но это было невозможно – довольно непредвиденный расход, а кроме того, Оливер собирался к бабушке. Но ответить согласием на предложение Наташи очень хотелось, хотелось оказаться в той стране, что занимает мои мысли последнее время, ощутить ее реальный вкус и услышать ее настоящую речь. Наташа была немного посвящена в мои проблемы и стала, некоторым образом, моей настольной энциклопедией – она растолковывала мне смысл тех действий из видений, которые никак не поддавались объяснению. Например, она рассказала, что в детстве у них на кухне тоже висели выстиранные пластиковые пакеты, – их было негде взять, и ценились те, в которых продавались фасованные продукты.
Думаю, если бы Наташа ехала в Петербург, то я бы все же составила ей компанию, но Москва притягивала меня меньше.
И, как обычно, мы с сыном оказались перед перспективой встречать Рождество вдвоем. Внезапно мне стала нестерпима мысль об этом. Разумеется, я всегда рада побыть с сыном, который давно уже в праздничную ночь не спит, а хохочет и жует даже тогда, когда я откровенно начинаю зевать и хлопать глазами. Конечно, мы украсим дом, наготовим разных вкусностей, а потом непременно выйдем на улицу с петардами, будем кидаться снежками, толкаться и хохотать. Но отчего-то в этот раз мне захотелось, чтобы меня окружало побольше народа. Список возможных гостей был совсем мал, там было даже не из кого выбирать, поэтому я позвала Гюнтера и Вейлу. Гюнтер – домосед, ему чуждо стремление покидать собственную берлогу, тем более в такую ночь, но Вейла поднажала, и Рождество мы встречали вместе. Я даже не ожидала, что будет настолько весело.
Вместо огромной индейки я приготовила чудную утку, испекла традиционный кекс и, с утра окутанная ароматами приправ, хвои, выпечки наконец-то после долгих лет почувствовала себя полноправным членом сообщества, именуемого семьей.
Под нашей елкой в этот раз вместо двух одиноких подарков разместилась целая вереница ярких свертков. Гюнтеру мы отвели роль Санта-Клауса, Оливер нашел на чердаке рогатую маску оленя и напялил на себя вместе с импровизированной уздечкой, а нам с Вейлой была уготована скромная миссия волхвов, извещающих о рождении Христа.
На другой день мы с Оливером спали до победного, а потом, взяв Агнет, поехали на каток, где долго выписывали круги вокруг елки, падали, вставали и обменивались подарками. Вместе с детьми я ела горячие пончики на морозе, и, честное слово, мне нравились такие каникулы!
А потом приехал Юрген и забрал с собой Оливера. Мой сын выглядел очень счастливым в ожидании новых впечатлений, дня рождения бабушки и катания на лыжах в Гармише. Кроме того, Юрген пообещал сходить вместе с сыном на «Рамштайн». Оли вис на шее у отца, без умолку трещал, несколько раз заново укладывал в рюкзак вещи. А у меня щемило сердце от этой короткой разлуки, от предстоящих нескольких дней вынужденного одиночества. Наташи не было, у Гюнтера после рождественского застолья обострилась подагра – оставалась одна Эрика, но она была всецело занята приехавшим в гости братом и его семьей.
Первые два дня одиночества я провела в пижаме, выбираясь из постели только для того, чтобы кое-как перекусить прямо у раскрытого холодильника. За долгие годы я впервые осталась одна. Мне не для кого было готовить и стараться, меня никто и нигде не ждал. Когда я полностью осознала это обстоятельство, то даже не расстроилась. Я спала и смотрела телевизор, а потом опять спала и снова смотрела, немного завидуя тем, кто может вести подобную жизнь в любое время. Чтобы не напрягаться и не следить за ходом действия, я выбирала старые фильмы, смотренные-пересмотренные, изученные вдоль и поперек. Я перепутала день с ночью и не имела ни малейшего желания выйти на улицу. Я несколько дней не мыла посуду – что там мыть, если в раковине скопилось всего несколько грязных вилок, которыми я вылавливала из банки анчоусы и кукурузу, да стакан из-под сока. А кофе я пила из одной и той же немытой чашки – на ней снаружи появились темные подтеки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































